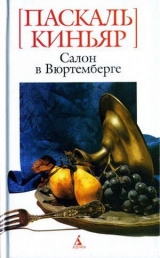
Текст книги "Салон в Вюртемберге"
Автор книги: Паскаль Киньяр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Глава вторая
Домик над Бормом
Нас демобилизовали в последние дни мая 1964 года. Мы бурно ликовали по этому поводу. Это теперь я с сожалением вспоминаю о том времени. А тогда шестнадцать месяцев, отданных военной службе, казались нам пропащими, их можно было вычеркнуть из жизни. Конечно, там, в армии, мы с Сенесе нашли друг друга, но любящие тотчас забывают о случае, подстроившем их встречу, а любовь, особенно пылкая, не исцеляет от охлаждения к самым близким и незаменимым людям. И мы расстались – нам не терпелось разлететься в разные стороны.
Я вновь увлеченно занялся игрой на виолончели. Свой учебный инструмент я продал, купив вместо него виолу да гамба работы Бокке. Касилия, жившая с мужем в Глендейле, недалеко от Лос-Анджелеса, одолжила мне деньги. Я приобрел по случаю, всего за тысячу двести франков, зеленый внедорожник, о котором давно мечтал. Я снова встретился с Жаном, Клаусом-Марией, Станисласом Аррокуром, госпожой Клеманс Верэ, которая познакомила меня с госпожой де Кропуа, руководившей Международной музыкальной школой на улице Пуатье в VII округе Парижа. Там требовался преподаватель игры на виоле и даже – за Нехваткой специалистов – на виолончели, с октября, когда учащиеся соберутся на занятия. Госпожа де Кропуа не могла уверенно обещать мне эту должность; впрочем, данная книга – не место для таких подробностей, я не хочу рассказывать здесь о своей профессиональной жизни, о своей подлинной страсти. На эту тему я никогда не смогу говорить свободно, без стеснения. Я начал подыскивать себе квартиру.
В начале июня я решил «вывести в свет» свой внедорожник и поехал в Сен-Жермен: Флоран еще не определился с местожительством, ожидая, когда Изабель и сам он получат новые назначения. Кроме того, мне хотелось повидать мадемуазель Обье. В своих поспешных сборах и нетерпеливом предвкушении отъезда я забыл попрощаться с ней.
Стоял теплый июньский день. Было около одиннадцати утра. Дверь мне открыла Изабель, еще полусонная, в трусиках и короткой комбинации.
«Мадемуазель Обье дома?»
«Привет! – сказала она, подставив мне лоб для поцелуя. – Мадемуазель где-то там, в саду».
Я нашел мадемуазель Обье у грядки с помидорами и гигантским кочанным салатом; замерев под своей конусообразной шляпой, прикрыв глаза, она долго сжимала обеими ручкам мои руки. И при этом нашептывала – благоговейно, точно молитвы, – всевозможные добрые пожелания ъ мой адрес на все предстоящие годы. Потом начала болтать:
«Напрасно вы ходите с распахнутым воротом. Вы останетесь у нас обедать. Мой папа носил галстуки из эпонжа, они ему чудо как шли. Вообразите, вчера я совсем одурела – никак не могла найти свою шейную ленточку. И знаете, где она оказалась?…»
Тут я увидел подходившего Сенесе и попытался высвободить руки, чтобы улизнуть.
«Ах, вот и месье Сенесе! – продолжала она. – Ну, держу пари, что вы никогда в жизни не угадаете! Моя ленточка была обвязана вокруг ножки лампы-кораблика, которая стоит на рояле. Вы музыкант, стало быть, понимаете, что тут кроется. Такая ленточка мешает голосу достичь губ…» Я показал Сенесе внедорожник. И преподнес ему коробку леденцов с бергамотом фабрики «Лиллиг». Усаживаясь в машину, Сенесе не преминул вспомнить колесницу Гектора, погибшего от копий ахейцев, тачку Дельфины в прошлогодний день его рождения и, наконец, тележку своего собственного детства. Я бы предпочел ограничиться первым сравнением. Хотя, заполняя эту страницу, и сам вспомнил две тачки в Бергхейме, на которых меня катала в парке Марга, сбитые из прочного темного дерева, отполированного временем, с пронзительно визжавшим колесом в железном ободе, высокими боковинками и слегка шершавым днищем, пропахшим землей и мокрыми осенними листьями. Мы долго забавлялись этой ездой. Сестра Лизбет была старше меня на десять лет; она и Луиза обращались со мной как с куклой-голышом, затевая игру в дочки-матери. Не могу сказать, что я этому противился. Но мне больше нравилось использовать тачку в качестве боевого укрепления, или непробиваемого танка, или уж, на худой конец, экипажа, позволяя Марге на полной скорости мчать меня по дорожкам.
Сенесе любил леденцы с бергамотом. Да они и впрямь очень красиво выглядели на свету – эти маленькие сладкие стекляшки, желтые, прозрачные и хрупкие, таящие в себе грушевый аромат, скрытый, раздражающий, но неотъемлемый фруктовый аромат, который иногда перебивает их подлинный вкус. Сенесе сидел на крыле моего внедорожника, с крышкой от коробки в левой руке, и бормотал: «Леденцы-стекляшки, милые вкусняшки! Прежде их называли „мамочкино лобзание"!» Эти слова – «мамочкино лобзание» – звучали странновато и казались абсолютно несочетаемыми, как несочетаемы понятия «квадратура круга»," изобильный нормандский огород в ливийской пустыне или зеленый внедорожник, ворвавшийся в ворота осажденной Трои и затормозивший у самых ног царя Приама.
Изабель и Флоран Сенесе уехали в Лон-ле-Сонье и, оставив у родителей Изабель Дельфину, отправились вдвоем в Ирландию. Тем временем я нашел себе жилье в VI округе. Станислас Аррокур на два года покидал Париж, и я вселился в его трехкомнатную квартиру на третьем этаже дома по улице Пон-де-Лоди, где заниматься игрой на виолончели было крайне сложно, ибо мой психованный сосед выдвигал самые разнообразные требования: так, он одобрял мои арпеджио, но не переносил гаммы; обожал быстрые пьесы, но стоило мне заиграть что-нибудь медленное и грустное, как он начинал колотить по батарее и угрожать мне смертью. В общем, приятный субъект: он был подвержен тяжелым приступам мании преследования, которые сопровождались безумными воплями, и в довершение всего носил фамилию Лэнё.[14]14
Лэнё (Laineux) созвучно французскому l'haineux (ненавистник).
[Закрыть]
Андре Валасс преподнес мне на новоселье котенка от своей кошки – подарил мне Дидону. Это был крошечный черный зверек, дрожащий и ужасно боязливый. Я помню, как малышка Дидона забиралась под низкое кресло, глядела оттуда, просунув мордочку сквозь бахрому, на блюдца с едой, которые я во множестве расставлял перед ней, пытаясь соблазнить, и опять исчезала.
Потом она пряталась за пианино и сидела там, вылизывая шерстку, лапы и каждую минуту прерывая эту процедуру, чтобы бросить на меня пытливый взгляд. Словом, Дидоне понадобилось немало времени, чтобы убедиться в моей благонадежности. И я ее хорошо понимаю. Ибо сам затратил на нечто подобное много лет.
Изабель и Сенесе вернулись в середине июля и переехали вместе с Дельфиной в небольшой домик, чуть ли не хижину, состоявшую из двух комнат и пары пристроек, кое-как переоборудованных в жилые помещения; дом находился в Борме и принадлежал матери Флорана. Я собирался навестить их там в августе. А пока жил в Париже, как вдруг мне позвонил Груа с сообщением, что в Бонне вышла подробная биография Страдивари, написанная Штуллем. В ту пору Фернан Груа возглавлял музыкальный отдел издательства «Галлимар». Дело в том, что около двадцати лет я занимался, помимо своей музыкальной деятельности, еще и переводами биографий с английского и немецкого для музыкальных серий трех-четырех издательств. «Галлимар» выплатил мне за перевод Штулла задаток – на мой взгляд, поистине царский (мне был тогда всего двадцать один год!), и я поспешил вернуть долг Цецилии, у которой брал деньги на покупку старенького зеленого внедорожника.
Боги явно благоволили ко мне. Мадам де Кропуа вызвала меня на улицу Пуатье, в свою музыкальную школу. Она располагалась в обшарпанном, почерневшем, безнадежно ветхом особняке эпохи классицизма. Не знаю почему, но его вид буквально ослепил меня. С улицы (соседней с улицей Верней) в полурастворенную дверь подъезда виднелся – и виден доселе – длинный темный коридор, проходивший насквозь через все здание; в его дальнем проеме сиял под солнцем зеленый квадратик сада. Прохожие, приметившие его в конце этого темного туннеля, всегда умилялись и на мгновение замедляли шаг. Наверное, мы все страдаем ностальгией по садам. Сенесе признавался, что тоже испытывает это сентиментальное чувство, хотя его семья насчитывала четыре поколения горожан. Какое-нибудь деревце, пучок зеленой травы, вообще нечто естественное, наконец-то далекое от цивилизации и не боящееся первозданной наготы – тогда как бетон подобен герметической оболочке или броне, – нечто крошечное, трогательно маленькое, как ребенок в младенчестве, нечто промежуточное между садом и букетом дарит нам короткую, но чистую, искреннюю радость.
На первом этаже было очень темно, поскольку вестибюль в XIX веке разгородили на маленькие помещения; в результате лестницы, коридоры и выходившие в них клетушки лишились окон. Но по мере того как вы поднимались выше, интерьер становился все светлее и приветливее. Высокое окно щедро изливало солнечные лучи на лестницу, выложенную ромбиками истертого мрамора, казавшегося на свету почти желтым. Пять окон просторного класса, где чаще всего проходили уроки виолончели, смотрели в прелестные узенькие садики, разделенные деревянными изгородями или решетками, увитыми плющом; ужасно любопытно было видеть в самом сердце Парижа эти очаровательные цветущие делянки, с благодушным эгоизмом дремлющие в своем укрытии, в тишине и покое. Год за годом – по крайней мере, в течение всех девятнадцати лет, что я преподавал в музыкальной школе на улице Пуатье, – горожане, с их страхом перед землей, мхами, букашками, грязью и сорняками, безжалостно чистили и засыпали их гравием. Но больше всего меня удивлял тот факт, что даже летом, не говоря уж об остальных месяцах, они были безлюдны и ничто, даже детский щебет, не нарушало их безмолвия.
Всякий раз, как я проходил в открытую створку широкой двери особняка на улице Пуатье – сначала просовывая перед собой виолу, а уж потом переступая порог, – крошечный садик на задах дома бередил и пробуждал мои воспоминания о заднем саде в Реньевилле, близ Кутанса, где мы детьми проводили летние месяцы в скалах, или на соленых приморских лугах, или на песке бескрайнего пляжа, лишь к вечеру возвращаясь в дом на «верхней» околице старинной деревушки. Где точно так же, в конце длинного центрального коридора, внезапно возникал квадратик яркого света. По левую руку были расположены три погреба, там хранились бутылки вина, малярные принадлежности, сачки для ловли бабочек, угольные брикеты. По правую – застекленная дверь, чьи стекла громко дребезжали в рассохшихся пазах. Я с трудом, в несколько приемов (мне было тогда четыре или пять лет), отодвигал тугой засов, бугристый не то от наслоений краски, не то от ржавчины, толкал податливую, звеневшую всеми стеклами дверь, и за ней открывался сад – с высокой травой, с одичавшими персиковыми деревьями, с плакучей ивой. И с жасминовыми кустами. Самое заповедное место на земле. Сердце мира. Мелкие ягодки лесной земляники, мелкие желтые улитки. Зной, жужжание пчел, скамья, сбитая из деревянных реек, некрашеных и оттого вспученных, широченная паутина, протянутая от лавра к плющу на стене. Я – первый из людей, ступивший в этот девственный мир. Это и есть Рай.
По натуре я довольно мнителен, люблю много и вкусно поесть, держусь весельчаком в обществе, но при этом абсолютно не склонен откровенничать с окружающими, и обожаю одиночество. Очень люблю чтение, ибо оно – единственный разговор, который можно прервать в любую минуту или через минуту. Не очень люблю сон – эту бездну, тайную сообщницу памяти. Считаю себя музыкантом или, по меньшей мере, исполнителем музыки. Мне нравится также читать музыку по нотам. Зато я терпеть не могу слушать музыку, сидя в праздной позе, с незанятыми руками и боясь удариться в слезы. Мне сразу понравилось учить музыке детей – честно говоря, гораздо больше, чем взрослых; кроме того, это приносило заработок. Их лица, их неловкость, расцарапанные лодыжки и коленки, тоненькие пальцы в чернильных пятнах, побелевшие от напряжения, робкий и бездонный взгляд широко раскрытых глаз – все это было частью той высшей красоты, что услаждала мою душу. Во время урока я напрочь забывал о присутствии матери, или бабушки, или гувернантки, которые сидели в глубине класса, у меня за спиной, клюя носом или, напротив, изображая восторг. Мне нравился слегка испуганный взгляд ребенка, когда в начале урока я приказывал ему долго и сильно водить смычком по открытым струнам перед тем, как взять аккорд. Одну из моих первых учениц звали Мадлен Гиймо, – это была одиннадцатилетняя девочка с изгрызенными ногтями, с царапинами от кошачьих когтей на руках и щеках, с синяками на коленках; при малейшем замечании она начинала либо бурно рыдать, либо так же бурно хохотать, и успокоить ее было невозможно. К числу существ, с которыми я беседую охотно, долго и вполне откровенно, относятся кошки, причем кошки домашние, лишь бы они умели мурлыкать и охотиться на мух. У меня была Дидона. Я был счастлив. Говорят, что струнные инструменты способны выразить стон, но не главные проявления человеческих эмоций – хрип и визг. Я же предпочитаю звук пустой струны человеческому голосу, а взгляд кошки – звуку открытой струны, в силу той безмолвной кровожадности и безнадежного одиночества, которые он выражает – и которые позволяют мне прощать собственные вожделенные желания. Однако я готов предпочесть тарталетку со сливами или миндальное пирожное из Нанси этому взгляду – все равно, хоть персидской кошки, хоть тигра.
Впрочем, даже тарталетки со сливами или миндальные пирожные с улицы Ла-Аш в Нанси – те самые «миндальные просфоры», что во множестве поедал Эмиль Галле, навещая братьев Дом[15]15
Галле Эмиль (1846–1904) – французский художник по стеклу и керамике, краснодеревщик, один из основателей художественной школы в г. Нанси и родоначальников стиля «ар нуво» (как и его коллеги братья Дом).
[Закрыть] – не представляют в моих глазах восьмого чуда света. Разве что отодвинуть их на девятое место, хотя этот номер я охотно присвоил бы могиле царя Мавсола, добавив к ней музыку Баха; не могу решить, достоин ли его Александрийский маяк, поскольку он кажется мне не таким прекрасным и волнующим, как, например, крест с обнаженным, окровавленным телом под грозовым небом на холме, в начале нашей эры.
Я настолько же тощ, насколько и прожорлив. Поэтому в детстве надо мной часто потешались. Я был единственным мальчиком в семье, жестоким и тираничным. Но стоило мне сесть за стол, как мои сестры начинали изощряться в насмешках: «Karolus Magnus! Привет тебе, император! Глядите, девочки! Karl der Grosse[16]16
Karolus magnus (лат.) и Karl der Grosse (нем.) – Карл Великий.
[Закрыть] набивает брюхо в своем Ингельхеймском дворце!» Слушая все это, я чувствовал себя оскорбленным, обида же удваивала аппетит, и, по мере того как они издевались над моим чревоугодием, я удваивал порции Spätzle.[17]17
Швабская домашняя лапша (нем.).
[Закрыть]
Июль месяц 1964 года был необычайно жарким. Иногда по воскресеньям – у мадемуазель Обье не было телефона, и ее невозможно было оповестить о приезде – я отправлялся в Сен-Жермен-ан-Лэ. Не знаю, что руководило мадемуазель Обье, скупость или стыдливость, но она ни разу не предложила мне остаться ночевать. Мы предавались грустным воспоминаниям о Сенесе и Изабель, уехавших в Ирландию; я получил от них две открытки – без единого слова, с одной лишь подписью, – которые до сих пор висят у меня на стене перед глазами; затем они провели несколько дней в Пренуа и в Бонской обители. «Это так далеко! – причитала Мадемуазель. – Чуть ли не у негров в Африке!» Сенесе не писал мне – а ведь он так охотно и много говорил. Мы сидели в саду. Мадемуазель завязывала под подбородком ленточки своей соломенной шляпы-колокола: даже в тени она опасалась солнца.
«Да, месье Сенесе… он такой речистый… Как бы это сказать? Прямо не язык, а мельница! – говорила мадемуазель Обье. – Я вот иногда думаю: от чего это он хочет уберечься своей говорливостью?»
Я возразил Мадемуазель, что люди не обязательно ведут речи с целью уберечься от чего-то. «Ах, друг мой, как же вы еще молоды! – ответила она. – Увы, я старше вас чуть ли не на сто лет и давно уже сделала одно разумное, хотя и бесполезное наблюдение: тот, кто много болтает, много и скрывает, а у тех, кто больше помалкивает, все в ажуре».
Мы вернулись к дому. Мадемуазель Обье опиралась на свою складную трость. Я разглядывал нижние круглые ступеньки крыльца, и мне вспомнилось, что архитекторы называют «душкой» углубление, протертое ногами на ступенях. «Душки» крыльца мадемуазель Обье были глубокие, темные и до странности узенькие. Сразу было видно, что по лестнице целый век всходили одни и те же маленькие ножки. В музыке слово «душка» имеет совсем иной смысл. Так, например, у виолы она вообще отсутствует, либо встречается крайне редко. Здесь «душкой» называют тоненькую деревянную цилиндрическую палочку-распорку, вставленную в корпус струнного инструмента, между верхней и нижней деками, под подставкой, в том месте, где давление струн сильнее всего. Скрипичный мастер вставляет ее туда с помощью тонкого инструмента, изогнутого в форме буквы S и называемого «эфик». А что же представляла собой моя «душка»? Или спрошу иначе – каким страхом я подменил ее?
Нужно знать, что виолончель – типичный переходный объект[18]18
Переходный объект – термин из области психологии, означающий предмет, на который младенец переносит любовь к матери в ее отсутствие.
[Закрыть] и вдобавок не входящий в число наименее обременительных. Возможно, краешек одеяла, носовой платок или плюшевый медведь – вещи куда более приземленные – успешнее выполняют свою задачу. Однако мне кажется, что самое потрясающее изобретение человека – не сам струнный инструмент, а смычок к нему. Кто это придумал – провести тетивой одного лука по тетиве другого? Кто сообразил, что можно сделать инструмент из двух луков? Может, его вдохновили назойливые цикады – вечные или, по крайней мере, те, что жили на земле до нас и будут жить после, – которые стрекочут, водя надкрыльями по резонатору? Преимущество этой «музыки» состоит, на мой взгляд, хотя бы в том, что ее не записывают на диски. Итак, берешь лук с натянутым на него растительным волокном и ударяешь им по луку с натянутыми на него бычьими кишками. Вот так мне и суждено будет провести всю свою жизнь. В музыке барокко, которую я постепенно сделал своей специальностью, смычок действительно выгнут дутой, как детский лук; его держат, обхватывая трость рукой, обращенной ладонью вниз, и меняя, по мере необходимости, натяжение волоса пальцами. Позднее человек заменил бычьи кишки кишками мертвой козы. А вместо растительного волокна натянул на лук волос из хвоста дикой лошади. Что сделал ты со своей жизнью? – Я водил конским волосом по козьим кишкам.
Орган в Бергхейме был полной противоположностью всему этому, и мне часто казалось, что я его предаю – и предаю полтора десятка представителей семьи Шенонь, состоявших при нем штатными органистами. Однако, на мой взгляд, орган обращается не совсем к людям и не совсем годен для музыки. Это единственный известный мне инструмент, который стремится увлечь вас в пучину, который беззвучен под своей звуковой формой, который говорит не столько с человеком, сколько с местом или с Богом; этот океан звуков накрывает вас первой же своей волной, властно захватывает, заполоняет все пространство до самых сводов, и его слушание нельзя назвать в полной мере человеческим, индивидуальным занятием. Тем не менее мужчины нашей семьи играли на весьма посредственном органе Бергхеймской церкви в течение трехсот десяти лет – если пренебречь такими пустяками, как несколько сторонних исполнителей, просидевших за ним кто семь лет, кто тридцать, в ожидании момента, когда подрастет очередной сын или племянник династии Шенонь или будет подписан очередной контракт на должность капельмейстера. «Нижняя» церковь, чьим органом мы и владели, была очень красива и одновременно крайне безобразна, в силу своей эклектики: пуатвинский неф XIII века никак не сочетался с двадцатиметровым фрагментом галереи, который явно изготовили в парижской мастерской. Фасад датировался XIX веком – иными словами, был в стиле эпохи Людовика XVI.
Слева от входа висело огромное мрачное полотно откровенно садистского толка с изображением распятого Христа, наводившим на меня ужас в детстве. Зато с другой стены глядела, манерно изогнувшись, Вирсавия кисти Игнаца Гюнтера; красота ее бесстыдно обнаженного тела производила потрясающее впечатление.
Мой дед покинул Бергхейм в 1871 году, после подписания Версальского договора, когда Эльзас, Баден, Лотарингия, Вюртемберг и Бавария впервые за свою историю отошли под эгиду Пруссии. Отец мой был, как и я сам, французским подданным. Он родился в Париже, а в двадцатые годы обанкротился в Конде – недалеко от Кутанса и Кана. Тогда-то он и переехал в Бергхейм, вслед за чем вернул себе химический завод в Хейльбронне. Во время падения марки он бросил Бергхейм, потом женился в Париже на моей матери, дав ей клятву, что ноги его больше не будет в Вюртемберге; во время войны он сыграл немалую роль в Сопротивлении, в сети Центр – Запад. Дождавшись освобождения, он вместе с французскими войсками отправился в Германию, после Потсдама снова приехал в Бергхейм и выкупил у тети Элли наш семейный дом с парком, но не прилегающую к нему ферму – я уж и не помню почему; не знаю также, какими путями он добился денацификации этого владения.
Моя тетушка Элли находилась в отчаянном положении. Ее муж погиб на фронте в июне 1944 года в Нормандии, под обстрелом американцев. У нее на руках осталось трое детей, старше нас по возрасту. Откровенно говоря, отец совершил множество весьма выгодных сделок с недвижимостью в первый послевоенный период. Он умер внезапно, от сердечного приступа, в 1957 году, в возрасте пятидесяти пяти лет. Он считался инвалидом войны первой группы, так как участвовал в боевых действиях движения Сопротивления. Мать прожила с нами в Германии около двух лет – вплоть до 1947 года, после чего окончательно вернулась во Францию. Мои родители развелись в феврале 1949 года. А в марте того же года мама снова вышла замуж (она оставила нас на попечение тети Элли еще в 1947 году.) Мама умерла очень молодой, от рака легких. Она выкуривала больше двух пачек английских сигарет в день. Она скончалась в 1962 году, в возрасте сорока девяти лет, в Неккеровском госпитале.
В 1945 году мой отец был Фарисеем с большой буквы – эдакий святой Венсан де Поль,[19]19
Венсан де Поль (святой) (1576–1660) – французский священник, который прожил два года в плену у берберов, а по возвращении на родину ухаживал за больными в Париже, занимался благотворительностью и основывал приюты для бедных.
[Закрыть] покровитель Бергхейма. Вот уж кого Господь не стал бы спрашивать: «Что сделал ты со своими талантами?» Он восстанавливал дома, поддерживал беженцев, утешал вдов, кормил сирых и убогих, раздавал беспроцентные ссуды, перераспределял средства международных фондов помощи – а заодно скупал земельные участки мертвых и обездоленных. Хейльбронн, Штутгарт, Бергхейм – все это дышало унижением разгрома; стыд затыкал рты побежденным. Таким образом, борясь с вермахтом, отец боролся с Пруссией, а организуя помощь потерпевшим и возвращаясь в Вюртемберг – притом стремясь именно в Вюртемберг, – попутно избавлял себя от расходов на таможню; и все это делалось с целью отмыться от вюртембергской – и частично семейной – крови, пролитой его собственными руками. А еще потому, что благотворительность – дело вполне доходное. А еще потому, что ему было трудно вот так сразу бросить оружие и превратиться из партизана в гражданское лицо, требовался какой-то переходный период, еще сохранявший дух опьянения борьбой, дух военной солидарности – или военной безнаказанности. И еще он, может быть, хотел таким способом – переезжая с место на место, работая до изнеможения – забыть о своей мучительной болезни: сестра Лизбет до сих пор вспоминает, как его внезапные обмороки пугали ее и Люизу. У него была удалена часть легкого, а в 1943 году он перенес трепанацию черепа.
Семейное предание гласило, что Шенони обитали в Бергхейме с 1675 года, того самого, когда Тюренн умирал на руках Гриммельсхаузена в Ройхене.[20]20
Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь, маршал Франции (1611–1675) – был убит близ г. Сасбаха (Баден-Вюртемберг) в битве с австрийскими войсками.
[Закрыть] Но на самом деле первое упоминание об их присутствии относится к февралю 1761 года; оно свидетельствует о том, что некий Ф. Шенонь, музыкант господина Филиппа де ла Гепьера, был арестован и приговорен судом – невзирая на отказ потерпевших от иска – к выплате крупного штрафа за драку, учиненную в таверне Бергхейма. Сам Филипп де ла Гепьер, в отличие от Фредерика Шеноня, прославил свое имя совсем иными деяниями. Сев на коня, он покинул Лотарингский двор Станисласа Лещинского и отправился ко двору герцога Вюртембергского. Для него он построил замок Монрепо. Построил Людвигсбург. А также Солитюд – замок Уединения. Не могу даже сосчитать, сколько раз мои родители совершали паломничества или, вернее, экскурсии в эти места, с целью угодить маме, с ее французскими вкусами; нас тоже тащили на пароход, чтобы показать четыреста пятьдесят три или четыреста шестьдесят три комнаты Людвигсбурга, цветочную выставку «Флоралии», бескрайние французские сады, парк Фаворитки, Шветцинген Никола де Пигажа, «самый красивый французский парк в мире», как было указано на серой табличке, «где Моцарт… где Вольтер…». Мы, дети, предпочитали замок Монрепо, там нам дозволялось брать напрокат лодку и кататься по озеру. Филипп де ла Гепьер – этим именем, нужно сказать, довольно оригинальным,[21]21
Гепьер (la Guepiere) – корсет или широкий тугой пояс.
[Закрыть] мне в детстве прожужжали уши – внушил мне отвращение не только к нему, но даже к самому Версалю.
Отец говорил: «До катастрофы в Садове[22]22
В 1886 г. во время австро-прусской войны прусская армия разгромила при городе Садова (на территории нынешней Чехии) австро-саксонские войска.
[Закрыть] герцогство всегда доблестно сражалось с Пруссией. Вюртемберг принадлежит Франции не более, чем Эльзас, Корсика или Лотарингия. Все остальное – измышления Зеркальной галереи!»[23]23
Зеркальная галерея – парадный зал Версальского дворца, где в 1918 г. был заключен международный договор, согласно которому к Франции снова отошла область Эльзас-Лотарингия в границах 1870 г.
[Закрыть] Мой отец, подобно всем героям, переписывал историю «под себя», желая выглядеть в ней по-геройски, – с годами, старея, я нахожу это стремление не только неизбежным, но и вполне оправданным (мадемуазель Обье наверняка сказала бы по этому поводу, со свойственной ей трогательной и одновременно безжалостной определенностью, что каждый имеет право намазывать маслом свой кусок хлеба); он не уставал твердить, что в 1919 году Франция «дала слабину». И что, отобрав лишь Эльзас и Лотарингию, она трусливо уступила Северной Германии Пфальц и Саар, Баден, Вюртемберг и Баварию, тогда как эти земли на протяжении всей своей истории воевали между собой (по правде говоря, если уж быть совсем точным, история столь же часто сталкивала их и с Францией). Не смею утверждать, что боевая служба моего отца в Сопротивлении несколько помутила его разум, но убежден, что он вступил одним из первых в партизанский отряд на западе Франции, движимый застарелой ненавистью к пруссакам, саксонцам и гугенотам, и сражался с нацистами в тайной надежде отомстить за Швабию, независимую или нейтральную, с тем чтобы она вновь, если можно так выразиться, отыскала среди руин, на грязной свалке войны, маленькие стилизованные фигурки льва и оленя с герба Вюртемберга.
Сад в Бергхейме был очень велик и холмист Мы бегали на Ягст удить рыбу. В начале пятидесятых годов мой отец купил здание в Штутгарте, но его конторы так и остались в Хейльбронне, в помещении большого склада химического завода, разоренного войной.
Я помню мощенную розоватым камнем улочку, поднимавшуюся к нашему дому, маленькие старинные домишки с деревянными ставнями фонтан в стиле рококо. На нижнем конце улицы стояла церковь Троицы с колокольней. А на верхнем нужно было пройти мимо протестантского храма; за ним-то и начиналась та самая розовая мостовая, ведущая к калитке в дальнем конце парка, где росли кусты.
Я листаю свой маленький ежедневник той поры – мой первый ежедневник. И вижу, что 2 августа 1964 года встретился с Флораном и Изабель в Провансе, над Бормом, в долине Дом. Тогда я открыл для себя Средиземное море и пришел в полный восторг от их домика, пусть и скверно обустроенного: в нем не было ни водопровода, ни электричества, ни газа. Словом, он представлял собой примитивную, вполне ординарную хижину с парой пристроек, стоявшую в окружении алепских сосен, олеандров и цикад – тех черных, пятиглазых, неумолчно стрекотавших насекомых, которых Господь создал специально, чтобы отвратить нас от музыки; а еще рядом с домом торчала какая-то нелепая бугенвиллия, упорно норовившая заглушить входную дверь. В саду росли два куста алоэ, из которых я много дней подряд пробовал добыть сок, – он оказался совершенно непригодным для употребления. Зато сад был великолепен – романтические заросли, темные скалы, сверкающие блестками слюды, мастиковые деревья, мимозы, рощица зонтичных и алепских сосен рядом с домиком и, помимо алоэ, единственное грейпфрутовое дерево, какое мне довелось увидеть в жизни.
Мы объедались тыквами, зубаткой, каракатицами, баклажанами, хурмой, осьминогами, гранатами. Дельфина уписывала виноград, предварительно долго вымачивая его в воде: она боялась, что между ягодами затаились осы. Этот страх не давал ей покоя.
Мы спускались в бухты Лаванду или Лейе и плавали среди цветов. Много позже кто-то рассказал мне, что в семидесятые годы деревушку переименовали, присвоив ей абсолютно дурацкое название – Борм-в-Мимозах, примерно так же звучало бы Париж-в-Голубином-Помете или Ман-Свиной-Паштет. Я привез туда нугу всех сортов и коробки круглых анисовых пастилок из аббатства Озрена. Я хорошо знаю аббатство Сен-Пьер-де-Флавиньи в Озрене, оно стоит как раз напротив Алезийского холма и высится над ним; Сенесе наверняка приметил там вдали, в ясную погоду, Верцингеторига,[24]24
Верцингеториг (72–46 гг. до н. э.) – предводитель галлов, оказавший сопротивление войскам Юлия Цезаря. Был осажден со своим отрядом римлянами в Алезии, взят в плен и казнен.
[Закрыть] курившего трубку из живетской глины.
Мы ели яблоки нового урожая. Мы смеялись. – Мы ходили в кондитерские, в лавки за свежими овощами и фруктами, в порт. Мой внедорожник рыскал по округе, ища бухточки под покровом сосен, точно пес, натасканный на поиск трюфелей под зелеными дубами. Мы бродили, болтая без умолку.
На стенах домика висели дурацкие гравюры Бердслея. В дровяном сарайчике-пристройке, где я спал, тоже имелась картинка, довольно симпатичная, под названием «Собака, гоняющаяся за синицей», а рядом с ней – мутное тройное зеркальце для бритья. Пол был выложен розовой плиткой. Как же холодила такая плитка босые ноги в детстве! – это воспоминание охватывает тело всякий раз, как раздеваешься перед сном или встаешь поутру с постели, сколько бы лет ни прошло с тех пор. Пол был ледяным, как подернутое инеем окно, как зеркало, как айсберг, – даром что встречи с этим последним я, слава богу, избежал.
Когда я подъехал к их дому (проведя за рулем всю ночь), мне навстречу выскочила Дельфина, загоревшая Дельфина, – по крайней мере, личико у нее было красное, словно его изваяли из страсбургского красного песчаника, – и тотчас завладела Дидоной. Дельфине было уже три с половиной года, ее большие голубые глаза напоминали материнские, руки с грязью под ногтями были испещрены синяками и царапинами, а ротик облеплен крошками ячменного сахара с бергамотом. Бросив перепуганную Дидону наземь, она гордо продемонстрировала мне порез – или, по крайней мере, след от пореза – на ляжке.
Следом за ней появилась Изабель; она еще не совсем очнулась от сна и зябко вздрагивала, запахивая на себе рубашку Сенесе.








