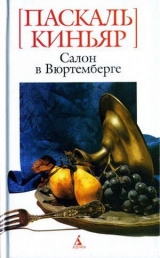
Текст книги "Салон в Вюртемберге"
Автор книги: Паскаль Киньяр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Паскаль Киньяр
Салон в Вюртенберге
Глава первая
Дом в Сен-Жермен-ан-Лэ
Комната, которую Сенесе занимал в Сен-Жермен-ан-Лэ, была необыкновенно светлой. Она располагалась на втором этаже. Дом представлял собой тяжеловесное здание начала XIX века, соединенное с садом монументальной лестницей, обсаженной по бокам лавровыми деревцами, низкорослыми кустиками сирени и цветами. Из двух высоких окон, выходивших в этот сад, виднелись заросли орешника, два поля, лес. Мадемуазель Обье оставила за собой другие комнаты второго этажа и помещения наверху. Как мне помнится, свет в этой просторной комнате имел розоватый оттенок. Широкие голубые портьеры ниспадали из-под карнизов английской меди, прибитых над окнами, тяжелыми пышны ми складками; ниже их стягивали желтые бархатные подхваты, и все это сборчатое великолепие выглядело довольно-таки старозаветным. В летние дни яркий свет постепенно скрадывал контуры занавесей. Стены – и это я помню точно – были выкрашены в белый цвет с розовым отливом; так же их красили двести – триста лет тому назад. В старину комната служила столовой. Здесь стоял длинный широкий обеденный стол из темного, почти черного дерева, на восемь или десять персон; на нем Сенесе держал раскрытые словари, стопки книг, разноцветные бювары, красные и желтые карандаши. Должен отметить, что Флоран Сенесе не разбрасывал эти вещи как попало – напротив, выстраивал из них тщательно обдуманную декорацию. Он любил этот стол. Питал к нему горячую, ревнивую привязанность. Стремился создать впечатление, будто здесь обитают сразу несколько человек, которые одновременно сидят и работают за этим столом. Он не выносил, когда кто-то касался его стола или хотя бы протягивал к нему руку. Это означало посягательство на волшебный предмет, на ковер-самолет – посягательство, грозившее лишить его магической власти. На столе, совсем как в библиотечном читальном зале, стояли лампы – три кинкета,[3]3
Кинкет – масляная лампа.
[Закрыть] переделанных в электрические; расставленные треугольником, они словно указывали посетителям их места. Сенесе усаживался на один из стульев – спиной к стене – и тотчас преображался в старого красноносого монаха из тех, что, глядя сквозь очки с увеличительными стеклами и сжимая скребок в голых пальцах, торчащих из вязаных митенок, счищали латинские тексты с пергаментов. Садился на другой стул – лицом к окну, и перед вами мгновенно возникал ассириец, который расшифровывал надписи на глиняных табличках и вспоминал былые времена, когда люди говорили на шумерском наречии, женщины были красивы, а нравы мирны и снисходительны. Садился на третий – спиной к кровати, и вот уже китайский мандарин неспешной рукою вынимал тушечницу из шелкового платочка, разводил тушь и записывал в стихах свои грезы о лице любимой, о том, как беспокойно мечется она на ложе, как воспалены от бессонницы ее веки.
Стол окружали шесть стульев с длинными черными спинками и желтыми плетеными сиденьями. Сиденья эти были слишком низки и оттого неудобны. Длинная темная столешница, заваленная книгами и карандашами, три круга света под абажурами ламп, белые листы бумаги, зеленые или голубые обложки бюваров – все здесь рождало ощущение уюта, сияния, тепла и покоя.
Против стола, над узким монументальным камином, висело с наклоном вперед серое пятнистое зеркало в золоченой раме. На низкой консоли красовалась маленькая скульптурная группа из гипса «под мрамор», в стиле конца XVII века, – сатир и нимфа. Очаг давно бездействовал. Его роль каждый вечер выполняла темно-красная печурка фирмы «Godin». Вокруг нее стояли четыре приземистых кресла с плетеными, ужасно скрипучими сиденьями. Мы то и дело вскакивали, чтобы поправить плед, одернуть свитер. Иногда нам удавалось пристроиться в них вполне удобно. Мы беседовали. Он любил полуночничать. Мне же была ненавистна сама мысль о том, что можно упустить приход зари, словно эти утраченные из-за постыдной лени минуты грозили отнять у меня целую вечность – или того больше. Мы переговаривались вполголоса. Я уходил от него раньше, чем ему хотелось, и встречались мы всегда гораздо позже, чем хотелось бы нам обоим. Мы собирались вместе к концу дня, около шести часов, когда я приходил после вечерней переклички в Сен-Жермен. Меня вдруг осеняет догадка, что тот необыкновенный, трепещущий розовый свет, заливавший, в моих воспоминаниях, комнату Сенесе, объясняется именно закатом. Сам я ночевал у Луизы и Андре Валасс, живших рядом с кондитерской «Дюшениль». Мы были очень молоды. Дело происходило в 1964 году. Я питал к нему дружбу, которой препятствовало буквально все, и мне казалось, что он испытывает по отношению ко мне чувство, не лишенное тепла.
Я познакомился с Флораном Сенесе в марте 1963 года, когда служил шофером у вахмистра, при Генштабе Первого военного округа. В тот день дантист выдрал мне коренной зуб, нижний, с левой стороны. От него осталось пустое место на десне, которое я часто трогаю кончиком языка. По правде говоря, мне очень легко писать эту страницу: стоит просунуть язык в проем слева, как оживает воспоминание о том дне – увы, связанное с невозможностью жевать левой стороной рта. Я прилег на кушетку в каморке рядом с парикмахерской Генштаба, в полной уверенности, что здесь меня никто не найдет. Один из парикмахеров, Бернар, хвастался, что может в любое время раздобыть увольнительную, – мол, у него все начальство «в кармане»; я же хвастался дружбой с Бернаром. Итак, я лежал в полудреме на коричневой кушетке. В комнатке было необыкновенно тепло.
Вдруг вошел какой-то солдат; он бросил свой берет на стол посреди комнаты, присел на корточки, расшнуровал ботинки, выпрямился и достал из кармана пригоршню кисленьких леденцов и голландских карамелек «Hopjes». Затем уселся на железный табурет и начал старательно раскладывать их на том же столе – треугольником, ромбом, потом в шахматном порядке. Меня он не видел. Честно говоря, в тот момент я не испытывал желания беседовать с кем бы то ни было. Я лежал вытянувшись на кушетке и прижимал платок к кровоточащему рту.
«Крик, крак, крок, – напевал он вполголоса, скандируя слова. – Ри-го-ла, ри-го-ло!»
Время от времени он разворачивал белый фантик «Hopjes», совал в рот черный горьковатый кубик с кофейным ароматом и продолжал с отрешенным видом двигать свои леденцы туда-сюда по воображаемой шахматной доске, все так же размеренно припевая:
«Крик, крак, крок…»
Прошло несколько минут, в течение которых он не обращал на меня никакого внимания, и это занятие, вкупе с безбожно перевираемой припевкой, начало действовать мне на нервы. «Нет! – вскричал я вдруг раздраженно, и моя челюсть тут же отозвалась острой болью. – Совсем не так!» Молодой солдатик обернулся, изумленный до крайности. «Вы поете неправильно, – продолжал я. – И не только мелодию, но и слова». Он таращился на меня, дивясь все больше и больше, пока я путался в своих яростных инвективах. Наконец я приподнялся и сел на своем ложе. Мне казалось, что эти широко раскрытые, испуганно созерцавшие меня глаза мешают мне оправдать свой крик, выговорить непослушным языком убедительное объяснение. «Вы поете неверно, – повторил я. – Мне только что вырвали зуб, поэтому я говорю так невнятно, но вы ошибаетесь: нужно не „ригола", а „ригота"». И я с трудом, едва шевеля распухшими губами, изобразил:
Ригота, Жигота,
Вот какая красота.
Кто спустился в подвал,
Тот и ноги поломал.
Кто полез на чердак,
Тот дурак,
Крик, крак.
Раз-два-три, не смотри!
Ригота, Жигота!
Он продолжал разглядывать меня с возраставшим испугом, который лишь усугублял мое собственное смущение. Ему, несомненно, казался странным мой невразумительный лепет. Да и мне самому чудилось, будто вместо языка у меня во рту стынет огромный холодный каштан с привкусом крови.
«С ума сойти!» – Он возбужденно вскочил на ноги. «Знаете, я уже целую вечность пытаюсь вспомнить эту песенку!» – воскликнул он, торопливо сгребая со стола свои леденцы и рассовывая их по карманам.
«Спойте еще разок! – просил он. – Спойте еще!»
Я выпрямился и как мог повторил эту детскую считалочку.
Он стоял передо мной, подпевая шепотом. Затем протянул мне свои конфетки. Я объяснил, что не могу их жевать, поскольку в данный момент мой рот, если можно так выразиться, сам точно изжеван. Это был высокий худощавый человек. Он имел некоторое сходство с маркграфом Филиппом – или, по крайней мере, с портретом, который написал с этого вельможи Бальдунг Грин[4]4
Филипп I Великолепный (1504–1567) – ландграф Гессенский, основатель Марбургского университета (1527), где он организовал диспут, имевший целью примирение католиков и протестантов. Бальдунг Грин (1484–1545) – немецкий живописец.
[Закрыть] и который можно увидеть в Мюнхене, – хотя был красивее: такое же нервное, асимметричное лицо, каштановые волосы, большие глаза и лихорадочный, горячий, искрящийся взгляд. Внезапно он сел рядом, слегка потеснив меня, и начал разглядывать в упор.
«Сенесе, – представился он. – Флоран Сенесе».
«Шенонь, – ответил я. – Шарль Шенонь».
«Вот так имечко, сплошные шипящие».
«Ну, я его себе не выбирал. Зато ваше – сплошной свист».
Он вытащил из кармана горсть конфет и снова принялся настойчиво совать мне их чуть ли не в рот, только на сей раз поочередно называя каждый сорт, тогда как в моих глазах все они были попросту кислыми леденцами: айвовые, шведские камешки, маленькие лилльские «Quin-quins» (большая редкость, почти невозможно найти!), «Hopjes», карамельки-колокольчики… Настал мой черед слушать его разинув рот. Но от угощения я снова отказался.
«Может, вы знаете и „Пенпаниполь, однажды в старину?"» – спросил он боязливым шепотом. Я кивнул.
«Спойте ее! Я позабыл конец».
И я спел.
«Ох, боже мой! – воскликнул он, когда я с грехом пополам исполнил „Пенпаниполь". – Просто чудо, что я повстречал такого знатока детских песенок. Сколько лет я искал его – такого знатока детских песенок!»
Я колко заметил, что мне тоже повезло: напасть на такого знатока конфет и леденцов! Но Флоран Сенесе, поглощенный своим открытием, не придал значения моей иронии и все твердил, что он уже целую вечность пытается вспомнить слова припевок, чьи мелодии неожиданно всплывали у него в памяти, когда он гулял, когда он мечтал. Он спросил было, какую из них я люблю больше всего, но тут же перебил себя, сказав, что хочет угадать это сам. По его словам, любому человеку на свете знакомо это чувство: когда где-то глубоко в груди звучит, стараясь напомнить о себе, песня, слова которой все время забываются, хотя ее мелодия навязла в зубах, а звучание согревает тело, как, бывало, в детстве – грелка из красной меди с короткой ручкой и крышкой со звездчатыми дырочками, набитая багровыми углями, – такие грелки кладут зимой в постель перед отходом ко сну. И в тот миг, как он произнес слово «зима», на меня нахлынуло воспоминание. «О боже!» – прошептал я в отчаянии. И запел:
Arrege harrige
Serege sirige
Ripeti pipeti
Knoll.
«Сурово! – сказал он, прибегнув к еще довольно снисходительному эпитету. – Это что же за язык такой?»
«Я провел детство близ Хейльбронна. Недалеко от Штутгарта».
«Вы жили там после войны?»
«Сразу после войны».
«Вы поете? Вы музыкант?»
«Я виолончелист».
И я добавил: «По крайней мере, на гражданке я виолончелист». Потом уточнил: «Был виолончелистом».
Он встал. «Прекрасно, – сказал он. – Это нужно отпраздновать. Сейчас я угощу вас конфеткой». Сунув руку в карман, он в третий раз извлек оттуда свои карамельки, но я снова ответил решительным «нет!». «Я просто ребенок, – сказал он, понизив голос и словно пытаясь убедить в этом самого себя. – Я кончил Национальную школу хартий по специальности „архивист-палеограф" и сейчас завершаю работу над диссертацией в архивах Бона и Эпервана, но единственная подлинная страсть моей жизни – конфеты». Жесткие конфетные обертки издавали противный хруст, причем фантики карамелек-колокольчиков и лилльских «Quinquins» хрустели гораздо громче бумажек от «Hopjes». Моя нелюбовь к конфетам, несомненно, во многом объясняется этим неприятным звуком. Я снова отказался, повторив, что мне вырвали коренной зуб, рот еще не отошел от заморозки и у меня нет никакого желания есть конфеты. Но он настойчиво совал их мне, твердя: «Ничего, съедите попозже!» Чтобы отделаться, я выбрал одну из «Hopjes» и сунул ее в карман.
«Ну вот и хорошо, а теперь слушайте, – сказал он. – Я спою вам кое-что понежнее, чем ваша считалочка. Спою самую прекрасную из всех песен, какие знала земля:
У фонтана Барбидана,
Что в долине Барбитине…»
У него был очень красивый голос, куда красивее, чем тот, что судьба отпустила мне. Наконец он смолк. Он выглядел взволнованным. Правду сказать, я растрогался не меньше его. Он вынул из кармана пайковые сигареты – голубая пачка, истертая, помятая, издавала терпкий запах, оставивший чудесное воспоминание, хотя, честно говоря, приятным он был только в памяти, – и рывком сунул их мне чуть ли не в лицо. Это долговязое и романтическое тело отличалось резкостью жестов, которую Сенесе не всегда мог сдержать.
Я встал. Мне с трудом удалось извлечь сигарету из пачки казенных «Голуаз». Закурив, я тотчас бросил ее: едкий табачный дым и кровь, наполнявшая мой рот, образовали невыносимую, тошнотворную смесь. Я увидел, что Сенесе вновь завязывает шнурки своих ботинок, притом стягивая их тройным узлом (у него были вечные, чаще всего неразрешимые проблемы со шнурками, галстуками и поясами). Взяв свой берет, он натянул его, старательно заломив над левой бровью. Потом спросил номер моей спальни в казарме. Я ответил, что добился разрешения снимать жилье в городе, чтобы упражняться в игре на виолончели вечерами после службы во дворике, выходившем к кондитерской «Дюшениль».
«Люблю поесть!» – сказал я, изображая оголодавшего обжору.
«Не беспокойтесь, я тоже, – ответил он успокаивающим тоном. И повторил так серьезно, словно речь шла о высокой истине: – Я тоже люблю поесть». Он произнес эти слова со смиренной, почти печальной миной. Потом сообщил, что и сам снимает просторную гостиную у одной старой девы семидесяти семи лет, на втором этаже большой красивой виллы, близ леса. «Я непременно представлю вас мадемуазель Обье, – пообещал он мне. – Она поет песни, которые любила ее матушка».
Он подошел к кушетке, на которую я снова уселся. Взял меня за руку. И долго пожимал ее.
«Наконец-то хоть один интеллигентный человек», – сказал Сенесе.
«Это потому, что у него не хватает зуба», – возразил я.
Сенесе было двадцать четыре года. Я был ненамного старше его, и мы здорово веселились. Он был женат, имел маленькую дочь. Его жену звали Изабель, а дочку Дельфина. Изабель жила в Бургундии; она снимала домик в Пренуа, километрах в пятнадцати от Дижона, где преподавала немецкий (она знала его весьма посредственно, что, впрочем, отнюдь не мешало ей учить этому языку других; как ни странно, мы с ней никогда, за исключением самых первых дней знакомства, не злоупотребляли этим лингвистическим «родством», которое встретило бы у меня лишь глухое, резкое и совершенно неоправданное отвращение). Сначала Изабель получила в Дижоне работу лишь на время стажировки Флорана Сенесе, которую он должен был пройти, после окончания Школы хартий, в архивах Бона и Эпервана, в двух часах езды от города. Потом она отсрочила переезд в парижский регион, где служил Флоран Сенесе, и уехала в Пренуа – из-за маленького садика возле дома, из-за того, что Дельфина пылко полюбила свою школьную воспитательницу, и, наконец, из-за относительной близости родителей Изабель, живших в Юра, возле Лон-ле-Сонье. Таким образом, каждую пятницу, или, скажем так, почти каждую пятницу, Изабель с Дельфиной приезжали поездом в Сен-Жермен-ан-Лэ и отбывали назад в воскресенье, ближе к вечеру, чтобы вернуться, уже в полной темноте, в свой «рай» – так они окрестили сад в Пренуа, состоявший из кустов смородины и пары дубов, а также берегов Сюзона, Уша и Бургундского канала. Не сомневаюсь, что места там дивные, – сам я их не видал.
Странный человек был этот Сенесе – одержимый, нервозный, блестящий, неистощимый. Он совершенно не любил музыку, за исключением разве что колыбельных и несчетного количества считалочек-припевок. Любил крепкий алкоголь и терпеть не мог вина, в отличие от меня. Впрочем, это замечательно, что основные вкусы людей обрекают их на одиночество. Ни в дружбе, ни в любви не следует добиваться сходства своих пристрастий с чужими, иначе вам грозит либо сцепиться врукопашную, либо умереть со скуки. Я давно заметил, что только люди, ни в чем не схожие друг с другом, никогда не затевают ссор. Если Сенесе был чудаком (чтобы не сказать более), то он отнюдь не был мифоманом. Но зато он обожал всяческие розыгрыши, которые могли длиться и час, и два, – мне они казались чересчур долгими и изрядно утомляли. Как-то в середине дня (мы разлеглись, подальше от чужих глаз, под жарким солнцем на лужайке, которая тянулась вдоль задней глухой стены душевых Генштаба) он вдруг принялся уверять меня, что в детстве, во время туристической поездки на Святую землю, ему довелось вместе с отцом ужинать в таверне «Добрый самаритянин», за тем самым столом, где некогда сидел Господь; Он явился им, и они все вместе пили кофе; конечно, Он сильно постарел, но по-прежнему был преисполнен горечи и недоволен своим земным царством. В другие дни он таким же манером пересказывал мне свои беседы с Дарием, Хаммурапи, Юлием Цезарем, Папой Пием XI. Сенесе был архивистом и свободно владел многими древними языками; я же, в противоположность ему, всегда ненавидел, (и ненавижу по сей день) латынь – язык, который я так и не выучил, поскольку в Бергхейме мне его преподавали отвратительно – путано и непонятно. Он быстро подметил во мне это отвращение. О Боне и Дижоне он почти не вспоминал. Просто бегло упомянул, что пишет диссертацию о какой-то утраченной древности, затерявшейся в Бургундском герцогстве, на берегах Дэны, среди местных природных красот. В настоящее время он состоял шофером при довольно симпатичном малопьющем подполковнике. Сенесе утверждал, что его начальник почти ученый – знает чуть ли не все буквы алфавита (я уже говорил, что он был большой мастер создавать мифы). Остается добавить, что подполковник этот обладал одним большим и неоспоримым достоинством, а именно не высовывал носа из дому, а если и выходил, то, будучи офицером автотранспортных войск, либо проводил большую часть времени в манеже, либо ездил верхом по лесу.
Почти каждую неделю, в пятницу вечером, к нам приезжали Изабель и Дельфина. Изабель была необычайно красива гордой, дерзкой, вызывающей красотой, не лишенной некоторого наигрыша и высокомерия. Она проклинала воскресенья, приводившие ее в сильное раздражение – потому что, во-первых, назавтра ее ждали будни, преподавание, одинокая жизнь в Дижоне с маленькой Дельфиной на руках; во-вторых, она ненавидела вокзалы, поезда, расписания, пересадку в Париже, на вокзале Сен-Лазар; и, наконец, в-третьих – а может быть, даже в первую очередь, – она терпеть не могла послеобеденные рауты у мадемуазель Обье. Сам обед начинался в половине первого и тянулся долго, до половины третьего, а затем плавно переходил в «концерт» (Изабель и я аккомпанировали хозяйке), который, в свою очередь, уступал место «полднику» в оранжерее – восьмиметровом помещении с цементным полом, где росли фикусы, – или, если позволяла погода, в саду. Изабель поносила эти воскресные сборища тем более яростно, что мне и Сенесе они доставляли огромное удовольствие: мадемуазель Обье буквально очаровывала нас своими маниями, своими нарядами, своими хитростями, вкусами, шуточками, своей манерой говорить. Мадемуазель Обье была старой девой, посвятившей всю жизнь чистоте и порядку в доме, а также подражанию своей матушке, чье долголетие трижды повергало в изумление городские власти: чествование в 1933 году по случаю девяностолетия, чествование в 1938 году по случаю девяностопятилетия, чествование в 1943 году по случаю столетия и, наконец, кончина – уже без всякого чествования – в возрасте ста двух лет, в дни освобождения. Матушка, как утверждала мадемуазель Обье, прилагала все силы к тому, чтобы стать точной копией своей собственной родительницы. Мы с умилением разглядывали старомодные наряды Мадемуазель, ее забранный в сетку пучочек волос, смуглые руки с изношенной, но все еще шелковистой кожей. Казалось, время прервало свой бег, и перед нами дама из буржуазного семейства былых веков, бравшая уроки игры на клавесине у Франсуа Куперена в доме по улице Монсо-Сен-Жерве, потом пережившая конец XVIII века, революцию, империю, Третью республику, стиль модерн, войну 1914-го и Вторую мировую, и все эти события наложили на нее очень слабый, едва заметный отпечаток, хотя, несомненно, лишили ресниц увядшие веки, изгнали из-под них проблески сострадания и в конечном счете высушили почти все слезы.
Впервые я увидел мадемуазель Обье у нее в саду. Стоял апрель 1963 года. Было Вербное воскресенье. Солнце сияло вовсю, и этой прекрасной погоде не мешал даже весьма ощутимый холод. Мы с Сенесе спускались по ступенькам крыльца. «Погоди-ка, – сказал вдруг Сенесе. – Я хочу представить тебе мадемуазель Обье». И он указал мне на хрупкую фигурку вдали у ограды – не то в черном, не то в сиреневом, с шалью на плечах, в великолепной конусообразной шляпе из манильской соломки и с секатором в руке, которым она срезала с рослых буксовых кустов пять-шесть темных веток – наверняка для Вербной мессы.
Мы подошли ближе.
«Я ужасно беспокоюсь, – сказала она. – С самого утра я не видела Пилата».
Мадемуазель Обье говорила о своем псе, чье полное имя было Понтий Пилат. Я так и не понял, зачем его так назвали. В Магдебурге, куда мой отец много раз возил нас, туристам показывали чашу, в которой Пилат омыл руки. Там же можно было увидеть и фонарь Иуды, – мне и посейчас чудятся иногда его отсветы на лицах друзей. Пес по имени Понтий Пилат был добрейшим созданием. Он признавал всех без разбора, и каждому льстила эта нерассуждающая любовь. По правде говоря, он ласкался даже к незнакомцам и ворам; и незнакомцы, особенно воры, бывали ему за это весьма признательны.
Мадемуазель Обье предъявила нам свои буксовые веточки со словами:
«Ну вот и у меня праздник. По крайней мере, фотографиям в комнатах будет веселее в их компании… Как вас зовут, месье?» – спросила она меня.
«Шарль Шенонь», – ответил я.
«Добро пожаловать, месье Шенонь. Говорят, освященный букс предохраняет от порчи и от дурных снов, – продолжала она, – но, разрази меня Господь, месье Шенонь… – (Это „Разрази меня Господь!" было повседневным ругательством мадемуазель Обье, за исключением тех случаев, когда она впадала в страшный гнев и позволяла себе гаркнуть: „Вот нечисть поганая!"), – разве бывает иная порча, кроме дурных снов?»
Она застигла меня врасплох, и я не нашелся с ответом.
«Может, воспоминания?» – пролепетал я наконец.
«О, не следует ждать от освященного букса слишком многого! – возгласила, расхохотавшись от души, мадемуазель Обье. Потом со вздохом добавила: – «В общем-то, никто не в силах спасти себя…»
Сенесе прервал ее:
«Вы не правы. Ведь защищает же вас манильская соломка от этого зимнего солнца».
«Верно, – признала она, по-детски прикрыв ладошкой рот, чтобы скрыть новый смешок. – И почему бы мессе, на которую я сейчас отправлюсь, не спасти меня от скучного, тягучего воскресного утра?!»
И она помахала нам ручкой в знак прощания. «Пилат! Пилат!» – кричала она, направляясь семенящими шажками к дому.
В разговоре с мадемуазель Обье никому еще не удавалось оставить за собой последнее слово. На свете есть множество оригинальных созданий (как правило, женщин и гораздо реже – мужчин), в которых самым причудливым образом сочетаются провинциальный налет, мягкость, робость, изысканность и сдержанность. В мадемуазель Обье чувствовалась эта провинциальная закваска, при том что она страстно любила телевидение и приобрела телевизор в самом начале пятидесятых годов. Она то и дело жеманно подносила ко рту, над верхней губой, крошечный вышитый платочек; им же она размахивала при беседе, подчеркивая свои слова, а замолчав и устремив вдаль задумчивый или выжидательный взгляд, откладывала его в сторону. Она никогда не говорила о себе и, движимая этим стремлением умалчивать о себе, непрестанно вспоминала мать, урожденную Пайо, окрещенную Фернандой, которая блистала массой выдающихся достоинств – акварелистки, музыкантши, целительницы, – каковые достоинства пышным цветом расцвели и у ее дочери. Стоило какому-нибудь муравью вскарабкаться на плечико или коленку маленькой Дельфины, и мадемуазель Обье, если она случайно проходила мимо, тащила ребенка в дом, бурча, что у нее, как на грех, нет под рукой листа свежей капусты, потому что для капусты еще не сезон, но, за неимением таковой, сойдет и ломтик помидора, лишь бы был сочным, или хотя бы листик шалфея.
Ее меткий, выразительный язык приводил нас в восхищение. Нам всегда казалось, будто она возникла откуда-то из глубины веков, из давно прошедшего времени – как и ее старозаветная комната, – и явилась к нам этой своей осторожной, жеманной походкой, боязливыми, почти мышиными шажками, выбравшись из адской бездны забвения. Вот такой же походкой спустя несколько минут она вышла за садовую ограду на дорогу, ведущую к церкви, неся туда свою набожность, вне всякого сомнения чисто формальную, лишенную иллюзий, но исполненную почтения. Как правило, мадемуазель Обье надевала широкую юбку и блузку из темного шелка – не черную, таких у нее не было, но бронзово-зеленую, гранатовую, иногда желтовато-коричневую, с глухим воротом и длинными рукавами с тугими манжетами, а на шею – длиннейшую неразъемную золотую цепочку, в высшей степени курьезную: она проходила под блузкой и выныривала наружу у пояса, уже отягощенная позвякивающей гроздью из часиков, небольшого ключика и всяких семейных побрякушек. Точно так же выглядела и ее мать – или, по крайней мере, портрет ее матери, благоговейно вставленный в серебряный медальон, если бы она вздумала показать его, предварительно покопавшись в этой связке миниатюрных изображений, висевших у нее на поясе подобно ключам сестры-привратницы в каком-нибудь монастыре.
А ее отец? Мадемуазель Обье никогда не поминала его ни добрым, ни злым словом, а если ее донимали расспросами, отвечала коротко, шепотком, без ненависти или смущения, но со скрытым нетерпением. Портрет отца висел в салоне, на нем он имел сходство с Наполеоном I, разве что был чуть дороднее.
Только в начале 1964 года нас представили внучатому племяннику Мадемуазель, Дени Обье, который в ту пору поселился у нее на третьем этаже, а несколькими годами позже вступил во владение всем домом. Дени Обье-младший не очень-то походил на офицера Бонапарта, который почти голыми руками, а вернее, древком своего знамени отбивался на Аркольском мосту от австрийских солдат, завязших в болота Кальдиеро; гораздо больше он напоминал, как и его предок, императора в изгнании, на пороге смерти. Он был невероятно молчалив, малоподвижен и весьма рассудителен. Дени стал нашим другом. Он любил мастерить в тишине разные вещицы, проявляя при этом изобретательность и бесконечное терпение. Кроме того, он страстно мечтал похудеть и с этой целью много ездил на велосипеде, всегда в одиночестве, стесняясь демонстрировать свои ляжки и облекавшие их необъятные голубые шорты.
Сама мадемуазель Обье, в отличие от внучатого племянника, говорила не умолкая, без сомнения, потому, что прожила в полном одиночестве около пятнадцати лет до того, как сдать Сенесе эту розовую комнату-салон. От тех лет у нее сохранилась привычка подолгу беседовать с самой собой, притом почти не снижая голоса.
«Так! Интересно, куда же это я засунула перечницу? – громогласно вопрошала она, вторгаясь в салон, где мы мирно читали или вслух предавались мечтам. – Ты, моя милая, совсем одурела, обеспамятела вконец. Ага, вот она! У нее всегда был какой-то дурацкий вид, у этой перечницы, вы не находите? Дурацкий и тупой! Да-да, ты не больно-то важничай! Ты досталась тетушке Антонине после смерти Армель – чудесная была девушка, а ты – просто хлам! Между нами говоря, ты, старая перечница, кое в чем смахиваешь на Антонину Пайо…» И мадемуазель Обье покидала комнату, продолжая препираться с найденной перечницей. Эти монологи звучали тем более оригинально, что мадемуазель Обье смешивала в них самые несочетаемые вещи: благосклонные отзывы о самой себе и своих близких перемежались у нее с неожиданными язвительными выпадами, а добродушное или непроницаемое выражение лица противоречило безжалостному тону. «Вы, – объявила она однажды, ни с того ни с сего, Флорану, – относитесь к числу людей, которые способны захлебнуться водой даже в пустыне!» Передавая мне эти слова, Сенесе озадаченно добавил, что они «привели его в полное опупение».
Когда мадемуазель Обье не говорила с собой или с призраками, она пела, притом пела в полный голос. Внезапно в доме раздавалось: «Я родился на свет в Феррарэ…» – так что у вас от испуга сердце едва из груди не выпрыгивало. По правде говоря, литании мадемуазель Обье были куда менее томительны, а иногда и вовсе приятны, – например, если она, игнорируя наше присутствие, открывала дверцы буфета и вопрошала не то себя самое, не то нас: «Чем бы мне попотчевать моих молодчиков, „Беллоной" или „Дюбоннэ"»?
Самое тяжкое испытание начиналось тогда, когда мадемуазель Обье делилась с нами воспоминаниями своей матушки – она говорила о них так долго и подробно, словно речь шла о ее собственных. Из этих рассказов мы узнали, как госпожа Обье-старшая увидела первые фиакры на резиновом ходу, первое устройство для спуска воды в уборной, первую машинку для набивки папирос, первые газовые рожки. Мадемуазель Обье отводила кого-нибудь из нас в сторонку, клала ладошку на руку или плечо собеседника и сообщала: «Моя бедная матушка рассказывала, какое это было несравненное удовольствие – кататься в экипаже на надувных шинах, их в то время только-только начали изготовлять. Никакого сравнения с нынешним транспортом. В фиакре все тело плавно колебалось при езде! Бедная мамочка! Как же ей нравился свет газовых рожков!»
Изабель Сенесе терпеливо сносила эту нескончаемую болтовню квартирной хозяйки своего супруга лишь потому, что лелеяла тайную надежду уговорить ее сдать им две комнаты первого этажа на оставшийся срок службы Флорана. Целых пять месяцев мадемуазель Обье оттягивала свое решение, размышляла, уклонялась от ответа, загадочно улыбалась или же мелко кивала, что можно было расценивать в равной мере и как согласие, и как упрямое сопротивление. На первом этаже под лестницей действительно скрывалась узкая застекленная дверь, ведущая в четыре комнаты – с низкими потолками, но довольно просторные. Отворяясь, эта дверь испускала пронзительный скрежет: под нее попадал мелкий садовый гравий, который потом противно скрипел под ногами на плиточном полу. Слева располагался «музыкальный салон» – это название присвоила ему мадемуазель Обье, – и по воскресеньям, в половине третьего, мы благоговейно рассаживались впятером или даже вшестером, считая Дени Обье, с кофейным сервизом, пирожными «мокко» и грушевым ликером, в этой комнате, где стояли два невероятно жестких раскладных кресла из серого дерева, еще одно, удивительно комфортное, с золотисто-желтой обивкой, пианино, швейная машинка в деревянном, желтом, как куркума, коробе, огромный ящик от проигрывателя – без проигрывателя, длинный темный шезлонг с продранной плетеной подставкой для ног и ужасно скрипучий, арабская лампа и рояль, а на стене, на фоне желтого бархата, настолько поблекшего, что этот желтый цвет казался не то бежевым, не то оливковым, в роскошных фигурных рамах из позолоченного гипса висело несколько мандолин и скрипок-четвертушек без струн. Потайная дверь – в данном случае слово «потайная» означало, что она была оклеена теми же обоями, что и стены, – вела в просторную бельевую. В другом конце узкого коридора с плиточным полом – черные ромбы на красном фоне – имелось еще два помещения: большая, почти двадцатиметровая комната, служившая кладовой, и вторая, заменявшая погреб.








