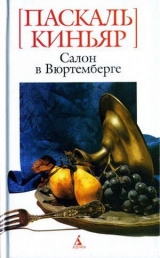
Текст книги "Салон в Вюртемберге"
Автор книги: Паскаль Киньяр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Я был счастлив. Откупорив вторую бутылочку темного пива, я осушил ее, но заснул далеко не так легко, как надеялся. Мари позвонила мне на следующее утро, часа в четыре. Она тоже провела бессонную ночь.
«Можно мне вернуться?» – спросила она.
«У меня нет такого желания», – ответил я.
Она стала предлагать компромиссы: стряпать она не будет, но готова накрывать на стол; стирать не будет, но готова гладить; убирать не будет, но готова шить; покупать продукты не будет, но зато обещает спать подле меня, при условии, что я гарантирую ей отдельную комнату. На это я ответил, что никогда не следует идти на компромиссы и уступать в малейшем из своих желаний. Она боялась, что у нее слишком мало денег. Я послал ей деньги.
Я не очень-то гордился собой, когда выходил из такси в аэропорту Орли. Но и не был по-настоящему несчастлив. Я думал: стоит приглядеться к окружающим, и ты с изумлением замечаешь, сколько же людей к тебе привязано. Однако, заглянув в собственное сердце, ты будешь искренне разочарован. Существуют моллюски, которые паразитируют на раковинах. Но время от времени они их бросают. Вполне возможно, что я оказался большим паразитом, чем Мари. Я сел в самолет. Рядом никого не было. Я пристроил свою виолу в коричневом клеенчатом чехле на соседнее кресло. Гастролирующие виолончелисты и виолонисты вынуждены покупать отдельный авиабилет для инструмента, и это чистое разорение. Я думал: «Надо же, единственная более или менее человеческая форма, преданная мне и всегда находящаяся рядом, – вот эта деревянная коробка!» И в момент взлета, привычно приоткрыв рот и чувствуя, как сжимается горло, я покрепче взялся за кожаный ремешок, служивший лямкой чехла.
Когда я вернулся, Мари снова начала изводить меня мольбами. Февраль выдался на редкость холодным. Могу вас заверить, что самая ужасная вещь на свете – если не считать рисовой запеканки под жженым сахаром, – это альтруизм. Как бы я ни хотел исправить причиненное зло, но в нынешнем бредовом состоянии ее присутствие стало для меня невыносимым. Прежде всего, мы питаем острую, совершенно беспричинную ненависть к тем, кого оскорбили. С другой стороны, всегда неприятно обнаруживать, что твое желание всегда искажает образ желанного существа, которое его возбуждает. Ибо это оно – твое желание – вдруг сочло желанной женщину, оказавшуюся рядом с тобой. И пока ты находишь ее желанной, тебя к ней влечет. Как и ее влечет к тебе.
Мари была красива и любознательна, была в курсе всего на свете – моды, погоды, тканей, вещей, украшений, духов, киноактеров. Она была феминисткой. Она каталась на лыжах. Изумленно глядя на меня, она восклицала:
«Господи, как можно быть таким дремучим?!»
Уж она-то отличалась самыми что ни на есть передовыми воззрениями.
Горячо выступала против войны, ратовала за свободу и справедливость. «Типичный средний класс, – говорил я себе, но был вынужден добавлять: – Как и я, только с остатками наследия Аугсбургской лиги!»[98]98
Союз европейских государств, выступавших в XVII в. против военной экспансии Франции при Людовике XIV.
[Закрыть] У нее была душа жительницы предместья – буржуазного предместья. «Где тут у вас центр города?» – так звучал для нее главный вопрос бытия. Сейчас она стояла в гостиной, последний раз пытаясь добиться своего. Глядя на нее, я дивился собственной реакции: я почти ничего не чувствовал. «Мне совсем не больно, – думал я. – Разве что я сам себе чуточку противен. Самую малость – в размер улитки». Она смотрела на меня расширенными глазами, сжимала мои руки.
«Но я же люблю тебя!» – говорила она, всхлипывая.
И судорожно прижимала меня к себе; чем громче она всхлипывала, тем крепче становилось ее объятие.
«Мы любим друг друга, правда? – продолжала она. – Мы ведь так любим друг друга! Надо будет положить в ванной зелененький коврик. А ты…»
«А я больше не намерен подчиняться, – сказал я. – Не знаю почему, но больше не намерен…»
Она схватилась обеими руками за подол своей фланелевой плиссированной юбки и подняла ее, оголившись до пояса. Под юбкой ничего не было. Она придвинулась к лампе, чтобы лучше был виден обнаженный живот.
«Ну хватит, – сказал я тихо. И прошептал: – Убирайся».
Она не двигалась с места, показывая голый живот.
«Убирайся!» – заорал я.
Все так же молча она резким движением опустила подол серой фланелевой юбки. У нее мелко дрожали губы. Она вышла.
Вдобавок эти сцены – утомительные, грустные, бессмысленные и тяжкие – сопровождались другими, одновременно происходившими в музыкальной школе на улице Пуатье. В моей памяти этот февраль запечатлелся каким-то безнадежно спутанным клубком шерсти. И Мари Рюппель, без сомнения, стала жертвой, угодившей мне под горячую руку и искупавшей преступление, совершенное двенадцать лет назад. Я создавал вокруг себя пустоту.
Февраль дышал ледяным холодом. Казалось, в этой стуже утки вот-вот примерзнут лапками ко льду, а их крылья треснут и разломятся. Однажды во вторник, в феврале, я проводил занятия в музыкальной школе. В класс заглянула мадемуазель Вьорн, она сказала, что меня вызывает мадам де Кропуа.
Я пересек комнату секретарши мадам де Кропуа и вошел в помещение, которое в школе окрестили «залом ожидания». И действительно, для того чтобы попасть в просторный, более или менее сохранившийся салон XVII века, служивший мадам де Кропуа кабинетом, нужно было пересечь темный закуток, род передней. В этой крохотной, без окон, комнатке, где посетители ожидали, когда мадам де Кропуа соблаговолит их принять, справа от двери стоял длинный низкий книжный шкаф черного дерева, а на нем – маленький, но очень тяжелый металлический гонг в виде диска, висевшего на толстой желтой веревке внутри такого же металлического круга. Тут же имелось и небольшое било из светлого дерева. Всякий раз, как мне случалось стоять здесь, ожидая, когда мадам де Кропуа отворит массивную дверь своего кабинета, у меня при виде этого гонга чесались руки: я с трудом сдерживал озорное желание схватить маленькое било и ударить в гонг, да так, чтобы мадам де Кропуа подпрыгнула со страху и побежала мне открывать.
Она открыла дверь. Я вошел.
«Садитесь, месье Шенонь, – сказала она. – Я хочу попросить вас о небольшой услуге. Да, кстати, я прочитала биографию вашего виолониста, игравшего для Ришелье. Прекрасная книга. И такая толстая. Очень живо написано, но местами довольно смело, вы не находите?»
«Вы слишком снисходительны», – ответил я.
«Как бишь его звали? Фу, как глупо! Вертится на языке, и никак не могу вспомнить».
«Его звали Могар».
«Да-да, но, знаете, между нами говоря, я не люблю гомосексуалистов, хотя это мое личное мнение», – сказала она, понизив голос до шепота.
«У вас прекрасный вкус», – едко сказал я.
«Ну, я вижу, вы надо мной смеетесь. Хорошо, признаюсь вам совсем откровенно: я вообще не очень-то жалую человечество».
«О, это уже верх разборчивости».
«Да и животных я тоже терпеть не могу», – продолжала она с задумчивым видом.
«А горы и океаны – они-то хоть избежали вашей немилости?»
«Надо подумать…» – промолвила мадам де Кропуа; ее лицо выражало все большую растерянность. Она вертела в руках письмо, отпечатанное на официальном министерском бланке, и, казалось, целиком ушла в размышления. Затем положила письмо на толстую папку в бледно-желтой картонной обложке и заговорила в полный голос, озабоченно хмуря брови и надевая очки: «Вот зачем я вас вызвала. Нашему особняку решили присвоить статус исторического памятника. Возможно, школу оставят на месте. Я прошу вас пока никому об этом не сообщать. У нас еще нет никаких гарантий. Мэрия и министерство оспаривают друг у друга здание, но не школу, на сей счет я могу вас успокоить. Комиссия делегировала сюда одного из своих членов, он должен приехать третьего марта».
«Я ничего не знал…»
«Хочу надеяться, что не знали. К несчастью, месье Шенонь, во вторник, первого марта, мне предстоит небольшая операция. Я лягу в клинику накануне, двадцать восьмого».
«Это не очень серьезно? Я вам желаю…»
«Благодарю за пожелание. Это не очень серьезно, но я не смогу быть здесь и принять делегата от министерства. И я подумала: что, если бы вы встретили его вместо меня, – вы ведь не просто учитель…»
«Очень благодарен».
«Не прерывайте меня; и потом, вы уже так давно работаете у нас. Вы сумеете показать ему, как надо, все двадцать классов и наш маленький театр. Главное, постарайтесь скрыть от него классы сольфеджио, лютни и гитары. В общем, я надеюсь, что вы с честью защитите нашу школу».
«Конечно, я постараюсь».
«Я рассчитываю на вас. Очень рада, что вы согласны. Клеманс слишком импульсивна. Катрин чересчур язвительна, она загубит все дело. Нужно, чтобы это был мужчина. С мужчинами всегда легче. Тем более что и сам делегат тоже мужчина, это господин Сенесе…»
Я почувствовал внезапную дурноту.
«…и он настроен в нашу пользу. Да вы его знаете, это муж Мадлен. Он недавно получил должность хранителя в Лувре. Это я подсказала в Кабинете его фамилию. Господин Массе тоже на нашей стороне. Таким образом, у нас уже есть два союзника. И для полного успеха следовало бы… Что с вами, месье Шенонь, вам плохо?»
Мне пришлось сесть.
«Нет-нет. Мне уже лучше».
«Вы не хотите встречаться с месье Сенесе? Разве вы с ним знакомы?»
«Н-нет… то есть да, но я его не видел больше одиннадцати лет… или больше двенадцати. В общем, дела давно минувших дней. Он меня наверняка не помнит. Мы вместе служили в армии».
«Ах, но это же чудесно, это замечательно! Такой прекрасный случай встретиться снова! Ну, теперь я вполне полагаюсь на вас. Итак, в четверг, в три часа. Я обязательно попрошу Мадлен прийти вместе с мужем. Она вас так любила…»
«Нет-нет, умоляю вас, мадам, не делайте ничего. И вообще, если уж быть откровенным, я, может быть, не очень-то гожусь…»
«Значит, вы не хотите помочь мне сохранить школу?»
«Конечно, хочу, но…»
«Я знаю, что мы сделаем…»
«Извините, мадам, мне необходимо выйти».
«Нет, это я выйду, а вы посидите тут. Вы ужасно бледны. Придите в себя. Вот, выпейте-ка рюмочку шерри».
Она встала, выдвинула ящик комодика у двери и вынула оттуда бутылку шерри «Harvey». Поставила рюмку на стол-пюпитр, находившийся между окнами. И сказала, направляясь к выходу:
«Пойду скажу, что вы не сможете сегодня работать…»
Мадам де Кропуа покинула комнату. Я остался один. Я сидел, не в силах думать, не чувствуя, как идет время, и ощущая себя высохшей древесной веткой, брошенной в поток: вода бурлит, прибывает, а мертвый сук упорно не двигается, не вздрагивает, а пассивно лежит на поверхности. Когда мадам де Кропуа вернулась, я все еще сидел, скорчившись на стуле, прижав обе руки к сердцу, и мне чудилось, будто она нышла только секунду назад.
«Ну, как вы? – спросила она. – Вам лучше?»
Я поднял на нее глаза. И тихо сказал:
«Мадам, я не могу принимать господина Сенесе».
«Нет, можете!»
«Но он наверняка не желает меня видеть!» – вскричал я.
«Послушайте, месье Шенонь, он сам просил меня об этом. И не только настоял на встрече с вами по такому случаю, но еще и попросил, чтобы я при этом не присутствовала. Он непременно хотел, чтобы его сопровождали именно вы».
У меня пресеклось дыхание. Сердце сжалось так больно, так жестоко, что я не смог удержать короткий стон. Мне пришлось встать. Я покачнул стол-пюпитр, который мадам де Кропуа неизменно называла «троншеновским столиком»[99]99
Троншен Жан Робер (1710–1793) – швейцарский политический деятель, осудивший произведения Ж.-Ж. Руссо «Эмиль» и «Общественный договор».
[Закрыть] и который всегда держала в чехле, наваливая поверх него горы нот, – и оперся на старинное фортепиано-комод, на котором больше не играли, но благоговейно хранили из-за чудесных инкрустаций и в память о том, что к нему прикасался Мейербер.[100]100
Мейербер Якоб Либман Бер (Джакомо) (1791–1864) – немецкий композитор, автор многих известных опер.
[Закрыть] Во рту у меня пересохло. Я хрипло спросил мадам де Кропуа:
«Но почему он вас об этом попросил?»
«Да потому, что Мадлен Гиймо, вернее, мадам Флоран Сенесе, проучилась у нас целых шестнадцать лет. Так же как ее мать и бабушка – в те времена, когда здесь преподавала моя мать…»
«Ну и что же? Какое это имеет отношение?…»
«Она вас где-то видела. Не то на вокзале, не то в аэропорту, я уж и не помню».
«А откуда она знает?…» – не сдержавшись, воскликнул я.
И тут же осекся.
«А вы, – спросил я почти шепотом. – Вы знаете?»
«Мадлен поделилась со мной кое-какими воспоминаниями о том, что некогда причинило огорчения ее мужу».
«И как вы это расцениваете? Что думаете о…»
«А что тут думать? Ничего особенного в этом нет. Конечно, я уже стара, но поскольку еще не умерла, то считаю, что вся эта история – конечно, весьма трогательная – выеденного яйца не стоит».
Я вышел, не ответив ни слова. Разумеется, я собирался попрощаться с мадам де Кропуа, но так и не смог выговорить ни слова. Мне казалось, что мое пересохшее горло превратилось в пустыню, что из меня до последней капли изошли слезы, кровь, слюна, питавшие мое тело. Никогда больше в моих жилах не потечет кровь, из глаз не брызнут слезы, рот не увлажнится слюной. Я помнил, как в детстве мне смалывали горло, чтобы очистить от слизи язычок; эти процедуры вызывали у меня «пустые» рвоты. Сейчас я уподоблялся такой «пустой» рвоте. А мадам де Кропуа сыграла роль той самой смазки. И я сбежал, не удосужившись попрощаться. Бегом спустился по лестнице, нетерпеливо рванул дверь парадного. Я мчался по улице Верней, потом по набережной. Добравшись до улицы Сент-Андре-дез-Ар, я постепенно перешел на более или менее нормальный шаг. Где-то я прочел, что именно здесь в старину королева Ультрогота[101]101
Ультрогота (497 – после 561) – супруга короля Хильдеберта I (с 522 г.).
[Закрыть] любила прогуливаться вечерами по дорожке, окаймленной живыми изгородями. Мне хотелось умереть.
Нетерпение – вот самое веское доказательство, коим время подтверждает нам свою реальность. Мы подстегиваем его: «Скорей! Скорей!» – а это «скорей» все не приходит. Встреча с Флораном должна была состояться через десять дней. Я отдал бы все на свете, лишь бы она уже осталась позади. Иногда у меня возникало желание покончить с собой, чтобы избежать этого противостояния, о котором я даже думать боялся, хотя для подобных треволнений, в общем-то, не было никаких причин. Вот когда медленное течение времени, упрямое сопротивление времени, его нежелание ускорить свой бег кажутся неумолимой, несгибаемой силой, гораздо более реальной и грозной, нежели напряженные мускулы человека, который отталкивает вас.
Одно из садистских, изощренных свойств времени состоит в том, что оно действует не только угнетающе, но еще и будоражит, внушает некоторый интерес к будущему – если допустить, что это будущее не предопределено заранее и что все, чему суждено случиться в продолжение обычной жизни, в общих чертах и в сумме, достойно определенного любопытства; время способно соединить непредсказуемое с уже состоявшимся, даже если прошлое причиняет боль; может открыть, под самым носом у человека, такие бездны, в таких местах, где их и заподозрить-то трудно; может озарить нежданным сиянием, волшебной дымкой, внезапным бурным весельем, успехом, счастливой удачей самые мрачные часы нашего бытия. Когда я вернулся домой несколько часов спустя – вес это время я блуждал по улицам, пил, заходил в магазин Рауля на улице Риволи, – меня ждало на автоответчике совершенно фантастическое предложение работы, поступившее от Эгберта Хемингоса, с которым мы виделись месяцем раньше, в день похорон Люизы, в Штутгарте, за ужином у президента земли Баден-Вюртемберг. С Эгбертом я был знаком много лет, мне когда-то представил его Клаус-Мария. Именно ему я всегда оставлял Дидону, уезжая на гастроли или к Ибель, в Сен-Мартен-ан-Ко. Это был очень странный и очень богатый человек, пруссак по происхождению, страстный любитель искусства, крайне суеверный, полусумасшедший, с гомосексуальными и, в некотором отношении, предосудительными наклонностями: он имел дело только с теми партнерами, от которых скверно пахло. И всегда – шла ли речь о каком-нибудь телесном изъяне или неприятном запахе его избранника, да и вообще по любому поводу, – он повторял одну и ту же фразу: «Несомненно, бог говорит через него, как через героев Гомера». Я часто встречался с Эгбертом Хемингосом: он и пугал и завораживал меня. Я познакомил его с Раулем Костекером. Согласившись на этот заказ, я стал видеться с ним почти регулярно, и так продолжалось до самой его смерти: два года назад его нашли мертвым в туалете одного из гаражей «Ситроена», в восточном предместье Парижа.
Это был близкий, но очень странный друг: не проходило дня, чтобы я не обнаруживал у него какую-нибудь новую манию, и все они ужасно интриговали меня. Особенно тот метод, к которому он прибегал, когда требовалось принять важное решение, – например, как соблазнить очередной предмет своих вожделений, – он называл его «патрайским ритуалом».[102]102
Имеется в виду один из видов гадания в древности, в греческом городе Патрае (Патры).
[Закрыть] В своей парижской пяти– или шестикомнатной «квартирке» на улице д'Агессо он устроил великолепную библиотеку, составленную исключительно из греческих текстов; в центре этой замечательной библиотеки, на стеклянном столике, красовалась маленькая статуэтка двуликого Гермеса. Он не закрывал дверей квартиры – только дверь библиотеки, – сдвигал внутренние ставни, зажигал вокруг статуэтки шестнадцать тонких голубых свечей, испускавших при горении ужасающее зловоние; предварительно он связывал их свинцовой проволочкой из тех, что продаются на базарах для починки электрических пробок. Затем он выкладывал на столик лотарингского стекла золотой луидор и, наклонясь к богу Гермесу, шепотом на ухо просил его помочь обольстить предмет своих надежд или разрешить сомнения в других делах. Высказавшись, он торопливо затыкал пальцами уши, быстро выходил из библиотеки и из квартиры, сбегал вниз по лестнице и все в той же позиции, прикрыв руками уши, шел по улице в сторону площади Согласия. Перейдя половину площади и добравшись – с риском для жизни – до ее центральной части, он опускал наконец руки и слушал: первый же донесшийся до него голос расценивался им как ответ бога. К счастью, на этом центральном пятачке обычно бывало немного народу, и в большинстве случаев ему приходилось толковать веление свыше по шелесту автомобильных колес. Но он все же не терял надежды уловить на лету, сквозь собственную ауру, некий голос – или послание от резиновых шин – и прочесть в этих звуках то, что не осмеливался высказать, или услышать то, чего так желал. Однажды, когда он никак не мог определить, в какое предместье отправиться нынче в поисках своих утех, кто-то крикнул своей собаке: «Не кусаться!» – и Эгберт тут же поспешил в Версаль, где родился Морпа.[103]103
Игра слов: «Не кусаться!» («Mords pas!») созвучно фамилии первого министра Людовика XVI, Жан-Фредерика Фелипо, графа де Морпа (1701–1781), действительно родившегося в Версале.
[Закрыть] Он не мог обходиться без подобных бонмо, дурацких каламбуров и случайных острог. Вполне вероятно, что на обращение ко мне Эгберта Хемингоса сподвиг такой же раздраженный окрик хозяина собаки, или нагоняй бонны подопечному школьнику, или какой-нибудь разгневанный водитель. Он пообещал мне сумасшедшие деньги, к тому же наличными – правда, в марках, – если я организую для него (или запишу на диск) приватные концерты особого рода. По ночам Эгберта мучили внезапные кошмары, нагонявшие на него невообразимый ужас, – после них ни о каком сне не могло быть и речи. Он щедро платил молодому вьетнамцу по имени Ио, чтобы тот спал в его комнате. К запястью Ио привязывалась бечевка, за которую он дергал при первом же приступе страха. Если у него являлось желание побродить ночью по квартире, он будил своего «телохранителя» и шел вместе с ним выпить воды, сполоснуть лицо, понаблюдать в окно, как непроницаемо темна и безжалостно медлительна в своем течении ночь.
Или же он садился в кресло (Ио пристраивался и засыпал по соседству) и проводил ночь в мечтах о сне и в борьбе с кошмарами.
Позже Ио рассказал мне, что ему были необходимы подушки – всевозможных размеров – для каждой части тела. И тщетно он таскал Ио от окна к окну, тщетно пытался с ним говорить, разлегшись на своих двадцати или сорока подушечках, – чаще всего Ио крепко спал. Эгберт говорил, что не может этого переносить, что ночное безмолвие обрушивается на него, как водопад, как бурная Амазонка, грозя накрыть с головой.
Итак, Эгберт Хемингос поручил мне, во-первых, составить особую музыкальную программу для каждой ночи, – Ио будет ставить диски. Во-вторых, провести экспертизу его коллекции старинных инструментов и пополнить ее, закупив на международных аукционах те, что представляют интерес, и отреставрировав их до безупречного состояния. В-третьих, создать музыкальную библиотеку, достойную соперничать с его огромным собранием греческих текстов. Главным образом его интересовали первые издания партитур, авторские рукописи и биографии.
Десять дней отделяли меня от встречи с Сенесе. Я находился, без преувеличения, в том же состоянии духа, что и Давид, когда он стоял над «долиной дуба»,[104]104
Книга I Царств, 17, 2.
[Закрыть] готовясь к единоборству с гигантом и силачом Голиафом. Одно из моих насущных и любимейших занятий – в зимнее время, с его бодрящей погодой, – состояло в том, чтобы дышать, дышать как можно глубже, и я должен возблагодарить небеса за этот сверхъестественный дар, который, в некоторых отношениях, не хуже скромной пастушеской пращи, – умение резко выдыхать воздух через нос, в подражание шумному фырканью вола. Ибо я уже не был Давидом. Я стал волом. Я стал ослом. Фройляйн Ютта говорила, что именно дыхание этих двух животных, вырывавшееся теплым облачком из их ноздрей, согрело младенца Иисуса. Будучи подвержен какой-то необъяснимой мании величия, я благоговейно согревал своим дыханием неведомого младенца Иисуса, несомненно укрытого в глубине моей души – увы, настолько глубоко, что он там бесследно затерялся.
Но это была еще не самая страшная из моих маний. Я буквально сходил с ума. Сенесе преследовал меня во сне и наяву, он вихрем врывался в маленький кабинет, где я играл на виоле, – в полосатой куртке, кружась, как шаман в трансе, дрожа, как Эгберт Хемингос после очередного кошмара, круша все вокруг, гневно сверкая глазами. Сенесе не уподоблялся тигру – он им был. Но в следующий миг тигр исчезал, уступив место человеку, глядевшему на меня с бесконечным укором. Потом, сев верхом на свою взнузданную уховертку, он медленно удалялся в Голубые Горы.
Я создал вокруг себя пустоту – хотя, откровенно говоря, мне не пришлось очень уж стараться, чтобы достичь такого одиночества. Даже приглашения Рауля Костекера и те я отклонял. Я глотал транквилизаторы пачками. Я пил. Я блуждал по улицам. Однажды вечером я стоял, облокотившись на парапет набережной Турнель. Камень источал ледяной холод. Было морозно. Я глядел на воду, испытывая сильное желание упасть туда, вниз, сгинуть в этой темной бездне, дать ей поглотить себя, выпустив лишь несколько воздушных пузырьков, которые в одно мгновение лопнут на поверхности реки, после чего надо мной воцарится безмолвие, а вода будет течь и течь, как текла до этого долгие века.
Я видел его повсюду. Однажды он померещился мне за стойкой телефонного коммутатора издательства «Сей» на улице Жакоб. Комплекс вины терзал меня даже в снах. Сенесе требовал у меня отчета о смерти мадемуазель Обье. Говорил, что это я убил мадемуазель Обье. Я был невиновен, но мне ни разу не удалось оправдаться перед ним. Я описывал Флорану – в тот момент преобразившемуся в Савонаролу, изможденного и грозного, – кончину мадемуазель Обье, с множеством подробностей и объяснений, повергавших в уныние меня самого, рассказывал, как мирно она угасала, как слабела в ней воля к жизни, уступая место смертельной слабости. Я путался в льстивых метафорах. Сенесе был богом – кто может сказать, что я когда-либо сомневался в этом?! Бог подходил к реке, неся кувшин. Он зачерпывал воду. Наполнив кувшин, он бережно закупоривал его и опускал на дно реки. Некоторое время спустя, под толчками течения и щучьих носов, кувшин разбивался. «И смешалась вода с водою, – таково имя смерти, месье Шенонь», – говорил мне кормчий Харон. Клотильда Обье, Флоран Сенесе, Шарль Шенонь – таковы были имена, написанные на кувшинах, больших и малых, на их пробковых табличках. Я слышал, как мадемуазель Обье сетует вдали – совсем далеко, за холмами, за пальмами, – на смерть: «Где теперь хлеб, где вино, где былые утехи и песни?» В этой разносящейся по воздуху жалобе мадемуазель Обье мне чудилось мерное стрекотание швейной машины, чудился вздох Лахесис – или, скорее, Клото, – а из-под металлической лапки тем временем выползала такая непрочная, совсем не вечная нить.[105]105
Имеются в виду мойры, греческие богини судьбы – Клото, Лахесис и Атропа: первая пряла нить жизни, вторая проводила ее сквозь превратности бытия, третья перерезала, обрывая, таким образом, жизнь человека.
[Закрыть]
Мне не давало покоя безумное, неодолимое желание исповедаться. И не терпелось увидеть его, какие бы страхи ни внушала эта грядущая встреча. Я жаждал посмотреть ему в глаза и обрести покой в признании, в словах – в бесконечном, безбрежном потоке слов. Зачем? Чтобы мне отпустили грехи? Чтобы покарали? Чтобы прокляли? Или благословили? Чего я, в сущности, добивался? Думаю, что и всего разом и ничего, ласкового моря и соленой горечи его воды, сонной глади и вздыбленных волн. Мне ясно запомнились полтора-два десятка моих исповедей в детстве, в церкви Бергхейма – точнее, в верхней часовне. В зимние месяцы службы в бергхеймской католической церкви не проводились, и я должен был исповедаться священнику в часовне Святой Паулы. Я входил туда, когда начинало смеркаться, после уроков, и мои сложенные у подбородка ладони еще хранили острый запах резинового коврика школьного гимнастического зала, пресные запахи мела, ластиков, стружек от заточенных карандашей. Когда я переступал порог церкви, мне хотелось поскорей стряхнуть с себя эти запахи – так оробевший ребенок, который торопливо сбрасывает одежду, внезапно плюхается на пол, запутавшись в рукавах и штанинах. Мне было страшно осквернять ими душный аромат ладана – этот след божественного присутствия, в который я окунался. Затем я окунался в безмолвие. А следом – в темноту. А за ней – в сырость. Потом я окунался в холод. И наконец, я окунался в пустоту своего сердца. В часовне стояли два десятка стульев с соломенными сиденьями. Я садился, и стул скрипел подо мной. Я собирался с мыслями. Соломинки сиденья кололи мне голые ляжки.
Дождавшись своей очереди, я шел или, вернее, крался на цыпочках, боязливо ссутулившись, до боли сжимая кулаки или нервно почесывая нос, к будочке-исповедальне из светлого дуба, окрашенного в бежево-оранжевый цвет. Впрочем, скорее это дерево напоминало цветом скрипку из Миркура.[106]106
Город в Вогезах, где есть мастерские музыкальных инструментов.
[Закрыть] Я осторожно преклонял колени на деревянной приступочке, холодной, твердой и скользкой. У меня сжималось горло. Я с трудом различал шепот, доносившийся сквозь решетку исповедальни, и торопливо повторял про себя, в тишине, священные формулировки, которые собирался произнести вслух, и чудовищные грехи, в которых считал нужным обвинять себя, при полном убеждении, что поступаю благородно и даже, может быть, отважно. Я слышал приглушенное перешептывание в другой исповедальне – обрывки монотонного диалога, который, слава богу, не требовалось, да и не хотелось, разгадывать, истолковывать. Полумрак, запах ладана, стыд за свои ужасные прегрешения – скорее надуманные, чем реальные и заслуживающие порицания, – страх необходимости открыть рот и говорить по-немецки, вдобавок стараясь говорить по-немецки разборчиво, душевный покой, на который я уповал по окончании исповеди, – все это внушало мне благоговейный трепет перед решетчатым оконцем, которое аббат затворял коротким сухим толчком. Сквозь частую буксовую решетку я смутно различал его грузную темную фигуру, золото епитрахили, теплый гнилостный запах его дыхания. Мой голос быстро набирал скорость. Я так боялся этой обязанности высказать все без утайки, оказаться чересчур дерзким и не получить прощения, что то и дело сбивался с ритма. Что ж, такова была жизнь. Я узнал из катехизиса – который преподавал мне не пастор Ганс Нортенваль, а патер Ирриге, – что святая покровительница этой часовни имела счастье умереть на руках святого Иеронима, более того, умереть с ужасающими предсмертными стонами. По каковому поводу святой Иероним изрек, что стон – единственный хвалебный псалом, признанный Господом и приятный Его слуху до такой степени, что Он радостно внимал ему даже из уст собственного сына.
Свершив акт раскаяния – даже сейчас должен признать, что боль, печаль и раскаяние в любом случае гораздо более реальны, нежели облегчение, на которое мы уповаем, и что нет зрелища более благостного, нежели лицо раскаявшегося грешника, разве только вышеупомянутый стон, – и преклонив колени на мраморной ступеньке перед закрытой решеткой алтаря, я погружался в сладостное ощущение освобожденности, легкости дыхания, которое порождало голод где-то глубоко в горле или, вернее сказать, превращало страх исповеди в стремление наесться досыта, в безграничное облегчение, утешение, успокоенность; это чувство так властно захлестывало все мое существо, что я, словно хмельной, слегка пошатывался на обратной дороге, ведущей наверх, к дому. И теперь, признавшись в нескольких проступках, я радовался, что выставил за дверь больную совесть, отправил в небесные кущи своего неотступного ангела-хранителя, избавился от стыда за грехи, от страшных видений и душевных ран, от улыбки матери, или гиены, или удава, или Джоконды, или электрического ската. Те времена давно прошли. От них меня отделяет более тридцати лет. И этот зоопарк отныне прочно стоит на своем месте. Ничто не благословляет и не обращает в прах горькие воспоминания.
Они пробуждаются лишь изредка, когда я сижу, погрузившись в музыку, читая или расшифровывая партитуру, составляя к ней аннотацию, и вдруг слышу внизу, на первом этаже, звонок телефона, заставляющий меня вздрогнуть. Я знаю, что не успею подойти, слушаю этот отдаленный дребезжащий звук и чувствую легкий стыд оттого, что не делаю усилий и не поднимаюсь с места: вот в этот-то миг я и вспоминаю сухой стук решетки, которую закрывал патер Ирриге, и вновь чувствую запах букса и гнилостного духа святости. То же самое повторялось и сейчас – в эти десять дней и десять ночей, когда я всем существом ждал своей очереди исповедаться, жаждал признать все до конца «Сказать Сенесе все!» – таков был звучавший во мне девиз. Но что я мог ему сказать? Ровно ничего. Известно, что святой Флоран, епископ Страсбургский, состоял советником при короле Дагобере, и Господь так возлюбил его, что когда епископ подходил к королевскому трону, он вешал свой плащ на солнечный луч, проникавший в окна или в бойницы. И еще мне помнится, какое удовольствие я испытал однажды вечером – мне было девять лет, – когда шел «наверх» и по дороге до крови подрался с одним мальчишкой-старшеклассником. Из этой схватки я вышел с кровоподтеками на губе, под бронью и на ляжке. Как же я ненавидел тех соучеников, которые не прощали мне французского подданства и акцента, отцовского богатства, моих штанишек из английской фланели, рубашек из тонкого полотна, теплых кашемировых носков! Они только и выжидали, когда я споткнусь, чтобы столкнуть меня в грязь или швырнуть на булыжную мостовую, поколотить, осыпать насмешками да еще нанести удар ниже пояса, оскорбив мою мать, к тому времени вернувшуюся в Кан – они-то считали, что в Париж, – а под конец наградить победными пинками в живот, в колени, в руки, в лицо.








