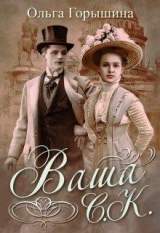
Текст книги "Ваша С.К. (СИ)"
Автор книги: Ольга Горышина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
– Знаете, – улыбнулась княжна, – есть у нас художник один, Репин. Может, слышали о таком? В наказание за помощь соседу за столом заставляет он гостей своих истории смешные рассказывать.
– Не переживайте, княжна, историй у меня много припасено за триста-то лет. Вам не будет со мной скучно за одним столом.
Он отодвинул заслонку и ухватом достал из печи черный горшок с гречневой кашей.
Глава 23 «Бездушный душегубец»
Граф фон Крок чувствовал себя обманутым. Давая обещание князю держаться подальше от княжны, он давал его по большей мере самому себе – и дело было в общем-то не в тоске по живой крови, а в иной кручине, от которой, слышал, сок крапивы помогает. Никогда не пробовал он крапивы и, выпив в бане на глазах у князя целую кружку, еле сдержался, чтобы не сплюнуть зелье на пол. Делая один длинный глоток, граф рассуждал философски: любое хорошее лекарство обязано горчить, и уж тем более такое, которое призвано излечивать мертвеца от томления в груди, в мертвой груди. Об этом он спешил напомнить себе постоянным прикладыванием руки к молчащему сердцу.
Но вот те раз, и вот те два – точно удары задёргался зажатый в грудине камень, как только уши заслышали тихие ругательства княжеской дочери, доносившиеся из сеней – Светлана поминала тех, кого поминать всуе у нечисти не в чести, то бишь не принято. Он тут же, против разума и железной воли, сделал шаг к двери, но из-за печи наперерез ему выскочил всклокоченный, весь в золе, старикашка и противным голосом возопил:
– Куды прешь, упырище?!
А он сам не понял, зачем ринулся в сени, где во все щели должно было лезть губительное солнце. Не с головой в тот момент дружили его ноги, а подчинялись взбесившемуся сердцу, а крапива в животе только булькала за зря. Остановился, попытался думать разумно, но не получилось. Прижался тогда лбом к стене и замер, слушая, как тихо поскрипывает земля под легкими шажками смертной девушки. Оглянулся на Домового – стоит вражина, сопит, слюной брызжет в его сторону:
– Упырище! – шипит. – Проклятый! – после плевка добавляет.
Улыбнулся граф на такие разумные речи и не стал посвящать русскую нечисть в тонкости сербского языка, даровавшего миру благозвучное слова «вампир». Упырь так упырь, сути дела не меняет, и желания жаться ухом к бревнам не отменяет – идёт сюда, идёт… Он сжал кулак, царапнул себе ладонь длинным ногтем, но не взвыл от боли. Грудь ломило сильнее ладони. Это было странное, полузабытое, чувство охоты… Охоты на женщину. Нет, нет, не то… Да как можно в его-то годы! Да, да, он – охотник, а она всего лишь загнанная лань, вот и все дела… И если б не была под защитой русской нечисти, не сдержали бы его стены простой избы.
Заперт он, да не смешите! Это так же смешно, как угрозы девицы переломить веретено. Не хватит силы у белоручки. Но с такой уверенностью говорит, что и он бы поверил, не то что длинноносое чучело с курьими ногами. Где бы отыскать уверенность в собственной непогрешимости – как зайдет сюда, как потянется за ней шлейфом приторный аромат живой крови, так и забудет он все свое благородство… Как потом в глаза князю взглянуть, как? Если только… Да, да… Что уж там, девица пусть и своенравна, да не таких могилой исправляли. Не отступится от слова, женится… Да только б сил хватило оторваться от ее шеи вовремя, пока жизнь в хрупком теле еще будет теплиться.
А как вошла, так он под образа отскочил. Лики святых не так страшны, как простоволосая девица в рубахе, сквозь которую каждый изгиб тела приметен. Потемнело все в глазах, еле по столу до лавки добрался. Не в девице дело, а в образе ее – пусть и волос светел, а так же долог. И роста, и гибкости в княжеской дочери столько же, сколько было в молодой крестьянке. Глядя на чужую девицу, вспоминалась родная Даринка, которая так и не сумела по-настоящему графиней стать, не успела, не хватило сил… Нет, нет… Она не Даринка, она другая… И сердце каменное ухает в предвкушении горячей крови, не более того… Не более… И как кстати в помощь обережный поясок, как кстати… Но когда безжизненным телом повисла княжна на его руках, когда возложил он на стол ее, как давным-давно мертвую жену, как будто услышал в груди биение сердца… Нет, нет, нет… От этой девицы подальше держаться надо. Нехорошее она в нем будет, гнилое… Да и сама с гнильцой, а как быть иначе в таком окружении?
– А это зачем? – спросил граф, когда княжна протянула ему большую деревянную ложку; другую такую же она для себя припасла.
– А вы вид сделайте, что трапеза у нас совместная, а то мне неловко как-то одной есть…
И снова кокетливо улыбнулась. Ох, не вяжется этот образ с рубахой деревенской. Так и видится она в тонкой кружевной сорочке по утру, томная после ночи… Да, что ж такое! И он вогнал ложку в кашу до самого дна горшка, точно нож – да не спасет деревянная ложка от непростой девицы. Точно что-то ведьминское в ней имеется, раз бабкой-ведьмой воспитана. И страх ее перед ним напускной. Его сущности она не боится, а за жизнь ей лишнее тревожиться с такой защитой вокруг. Играет она с ним, а у него игра, точно первый блин комом, выходит. Не умеет он достойно вести себя с юными кокетками – не имел чести знаться со столичными выскочками ни при жизни, ни за ее чертой. И не горел холодным огнем с ними знакомиться. Да будь неладна эта перчатка. Купить новую куда дешевле бы обошлось.
– Пусть мы с вами кашу не вместе варили, но из печи вдвоем доставали, – заулыбалась княжна, проглотив чуток кашки. – У нас говорят «с ним кашу не сваришь», не договоришься то бишь, а с вами вон у нас как все ловко вышло. Вы меня не выдали, хотя могли… И Сашенька вам по гроб смерти благодарен будет. Теперь бы и мне с папенькой кашу сварить. На Руси прежде враждующие князья во время примирения варили вместе кашу, обычай такой был. Вот и мне с моими князьями договориться надобно, чтобы не серчали особо на меня за Сашеньку, а на него самого за непутевость голубиную.
Граф молчал – все смотрел на девушку, на то, как мелькала в ее руке ложка, и думал: не уменьшается в горшке каша, так и он не на йоту больше в девице этой понимать не стал, хоть и трещит она сорокой без умолку.
– Что связывает вас с вашим голубем, если не любовь? – спросил он в лоб, вытащив ложку из горшка. Хотелось вгрызться в нее клыками, чтобы самому глупостей не болтать. Так поздно. Слово не воробей и даже не голубь, коль на свободу рвется, в клетке не удержишь.
– Любовь и связывает, – расхохоталась Светлана. – К русскому поэтическому слову любовь. У маменьки часто поэты собираются, так я на рифмах взрощена…
– И сами сочиняете…
Ведь даже не вопрос, и чего ради спросил? Чтобы унять боль в груди, возникшую, когда сказала девица такое простое слово «люблю», да еще и не на его родном наречии.
– Да нет же! И даже в альбомах у подружек не пишу… Зато стихов знаю столько, сколько иной дьячок псалмов не знает, а все почему, а потому что княгиня наша музой является для многих, музой Фантазии. Вот, послушайте господина Анненского, к примеру: Когда б не смерть, а забытье, чтоб ни движения, ни звука… Ведь если вслушаться в нее, вся жизнь моя – не жизнь, а мука. Ох, как наша княгиня любит жалиться на жизнь, есть в ней грешок этот.
– А вы?
– А что я? Я как господин Сологуб, о котором я уже имела неосторожность вам рассказать, люблю я грусть твоих просторов, мой милый край, святая Русь. Судьбы унылых приговоров я не боюсь и не стыжусь. И все твои пути мне милы. И пусть грозит безумный путь и тьмой, и холодом могилы, я не хочу с него свернуть…
Княжна вдруг отвернулась к печке и тяжело вздохнула, и в этот момент вся напускная веселость, которой встретила его девушка еще в городском доме своего отца, исчезла. Каждая ее черта вдруг исказилась бесконечной пронизывающей тоской, обезобразив миловидные черты до ужаса. Граф даже зажмурился, а когда открыл глаза, княжна снова звонко смеялась, но он не верил больше этому напускному веселью.
– О чем вы это говорили, Светлана? – спросил он осторожно.
– О чем я говорила? – расхохоталась княжна пуще прежнего. – Так это не я, это все они… Почитайте в журналах, что пишет некий критик С – точка – Мирный. Упырь ещё тот, столько кровушки у петербургских гениев попил… Да-да, а все на их же благо! А литераторы народ странный – такую высокую страсть для звуков жизни не щадить имеют, что даже на поклон к упырям идут… – Светлана вдруг совсем прекратила улыбаться. – Это я об отце, если вы вдруг не поняли. Они вдохновляются матерью, пишут галиматью, а он – он ищет там смысл, а смысла там нет, есть лишь красивый, но бессмысленный набор слов… Моя мать всех лишает рассудка, она страшная женщина… Бедный Сашенька… И вот что самое смешное, – Светлана вновь захохотала. – Князь ее из кельи послушницы выкрал, за день до пострига… А ей на роду написано Дьяволу служить.
Граф не сразу понял, выдерживает княжна паузу или выговорилась и теперь молчит.
– А князь-то кем будет…
И снова не вопрос. Просто отвлечь захотелось княжну, чтобы снова услышать ее звонкий смех.
– Несчастный человек он, – ответила она без улыбки.
– Человек? – усмехнулся сам граф.
– Человек человеком. Он под солнцем ходит и боль чувствует. И стар стал, хоть виду не кажет, да и вид не выдает в нем старика. Слышала, как бабка шепталась с ним – мол тысяча лет ему положена, а потом все…
– Что все?
– А мне почем знать? – повысила княжна голос. – Чего это я все рассказываю и рассказываю. А я вам за столом не прислуживала. Где обещанные истории ваши? Смешные! – добавила она уже со слезливой дрожью в голосе.
– Будут, будут вам анекдоты… – граф протянул было руку, чтобы просто сжать ее трясущиеся пальцы, по-простому, по-деревенски утешить, но первым отдернул руку, будто обжегся. – Странно как… Ваши обереги на меня не действовали… И полынью вашей я полной грудью дышать могу… А это что за колдовство?
– Ничего в колдовстве не смыслю, – буркнула княжна. – Обычная я девушка, ничего во мне такого нет… Даже крови благородной только на половину. Мать моя из княжеского рода, а отец так, разночинец… Три раза предложение делал, три раза от ворот поворот получал, а вот сбежала с ним мать, последняя наследница в Басмановском роду. Венчались они тайно в деревне. Вернулись – обоих на порог не пустили, прокляли дочь и мать, и отец. Как у русичей было заведено: обычай был ещё до византийского права – просто забирать понравившуюся невесту. Для всех я незаконнорожденная, только для князя в браке родилась. А у людей как? Хоть сто раз венчайся, а без родительского благословения даже церковный брак не действителен. Лишили сана того старенького батюшку, который смилостивился над моими родителями и обвенчал их супротив закона церковного. Но разве написанные людьми законы выше божественных?
Она замолчала, и граф понял, что ждет от него ответа. Ждет с нетерпением, важен он ей. Важнее всех прежних речей гостя.
– Ничего не знаю про божественные законы. А людские презираю, – проговорил он тихо. – Сам против них пошел, когда отказался капеллан обвенчать меня с крестьянкой. Брак по любви людям претит. Нас в православной церквушке венчали, не посмотрев, что я католик… Вот и прогневили Бога. Ему тоже, видать, людская любовь не по нраву, всех по форме креста ценит… Забрал у меня и жену, и сына. И, наверное, испугался, что я на том свете мстить ему стану – вот и не прибрал меня. Я не просто так про князя спрашивал. Я знать хотел, что со мной сталось – как я таким сделался. Неужто от любви?
Посмотрела на него княжна долгим пронзительным взглядом, и он вздрогнул всем своим мертвым телом.
– Не зря говорят, – произнесла она тихо. – Страшись любви. А нелюбви еще больше бояться следует. И у Бога ответ искать не стоит. Князь вон по монастырям долго хаживал, ответ искал, а нашел сначала Басманова в монастырской тюрьме, а потом послушницу Марию… И где был в это время Бог?
Граф отвернулся, повесил голову и опустил плечи.
– Бог везде, – проговорил он, глядя в темные половицы. – И нигде. Я его не видел. А если он видит нас, то ему до нас нет никакого дела. Дело есть одному лишь солнцу, а солнце – это не бог, солнце – это тепло. От него и надо хорониться, от сердечного тепла, от любви… Она убивает…
– Странные речи мы с вами ведем, граф, – проговорила княжна вдруг своим прежним насмешливым тоном. – Коль разговоры не разговариваются, давайте в ладушки играть, что ли?
Тут и граф усмехнулся, покрутив над столом ладонями.
– В ладушки?
– Да, я все детство с Федором Алексеевичем играла. Это ж так просто: руки сами отскакивают. Он о мои ладони обжигается, а я об него обмораживаюсь. Ну давайте… Что вы теряете? Али проиграть боитесь?
И даже подмигнула ему хитрая княжна!
– Полноте, Светлана! Не пытайте силу вашего пояска. А как не поможет? И серебряного на вас ничегошеньки-то нету. Нет, не будет вам ладушек, бесстрашное вы дитя!
И граф спрятал руки под стол и туда же глаза.
– Ну, тогда вам на покой пора собираться…
Он вскинул голову, да так резко, что пришлось схватиться за камзол, чтобы удержать его на плечах.
– Не усну, – и улыбнулся добро. – Ваша колдунья мало сна мне в кровь намешала. Куда ж мне уснуть с трех глотков?
– Тогда я над вами поколдую, хотите?
Светлана игриво склонила голову на бок. На лице ее блуждала странная улыбка: то ли робости, то ли ехидства. Граф сколько ни пытался, так и не смог угадать ее природу.
– Вы же колдовать не умеете.
– Я не умею, но у меня есть волшебное одеяло, которое сшили русалки из лоскутков сарафанов, в которых в омут кинулись. Они хранили их долгие годы, а потом решили князю презентовать. Он кутал меня в это одеяло, и я тут же засыпала. Правда, он еще любил читать мне балладу Жуковского, в честь которой и назвал меня. Ну же, укладывайтесь на лавку.
Граф покорно скинул сапоги и вытянул ноги. Не к двери, лежать лицом под иконами было опасно – а наоборот, головой к двери. И следил за тем, как княжна откидывает крышку сундука, роется в рубахах и достает скрученное валиком яркое лоскутное одеяло.
– Вот так, – одеяла хватило лишь, чтобы прикрыть грудь. – Вы же не мерзнете, верно?
– Я – нет, – улыбнулся граф одними губами. – А вы в мокрой рубахе – да.
– А я пойду на солнышке посижу, обсохну. А потом в пустом овине прилягу. Дворовой не обидится. Ну же, закрывайте глаза… Живо!
– Вы обещали почитать мне. Где ваша книга?
– Я же, кажется, сказала вам, что у меня прекрасная память на стихи, – снова кокетничала девушка. – В той книге все равно страниц не хватает. Первых. Там на том столе стоит зеркало с свечою, два прибора на столе. Загадай, Светлана. В чистом зеркала стекле в полночь, без обмана ты узнаешь жребий свой: стукнет в двери милый твой легкою рукою. Упадет с дверей запор, сядет он за свой прибор ужинать с тобою… Вот я и решила погадать. Только ко мне мертвец сразу вошел, когда я еще и в зеркало не взглянула. Получила я тогда, вместо жениха, трепку от Федора Алексеевича за порчу книги…
– Аж странно от него ждать такое трепетное отношение, пусть даже к бумаге, – перебил граф.
– Знаете, – насупилась девушка, и он даже испугался, что Светлана сейчас с соседней лавки поднимется и уйдет. – О мертвых либо хорошо, либо ничего – все остальное: сплетни и доносы. И некоторых, да будет вам известно, смерть облагораживает. Если пропорционально смотреть, то он на тот свет людей при жизни больше отправил, чем после смерти… Да, с живым бы я с ним встретиться никому не пожелала, но сейчас он ничем не хуже вас, а может быть даже лучше, – добавила она уже с вызовом.
– Прошу простить мне мою бестактность, – с улыбкой проговорил граф. – Больше ни слова не скажу ни про вашего отца, ни про вашего прадеда. Божиться не буду. После нашей беседы вы вряд ли в такие клятвы поверите. Так что же было после гадания?
– Вот Светлане мнится, что под белым полотном мертвый шевелится…
– Погодите, Светлана, уже и не шевелюсь я почти. Лишь губами могу двигать. Бросьте свою колыбельную. Скажите лучше, кого себе нагадали? Ни в смерть не поверю, что не гадали после!
Светлана вскинула голову и снова набок свесила с игривой улыбкой:
– Гадай не гадай, а отдадут, не спросят. Без родительского благословения из дома не сбегу… Лучший друг нам в жизни сей Вера в провиденье, – пропела она, – а остальное в балладе и не важно… Спите, а я пойду уже…
– Светлана…
– Вот же напасть! Да спите уже, но чутко… Чтобы вас здесь не придушили.
– Да пусть бы и придушат. Души-то нет…
– Спите… Спите… Бездушный вы мой душегубец.
И Светлана на цыпочках пошла к двери, и граф больше не позвал ее. Сон под лоскутным одеялом оказался смертельно глубоким.
Глава 24 “Академик печных наук и прочих мук”
«Рассвет уж близится, а Олечки все нет», – повторял, как заведённый, Фёдор Алексеевич второй час. И уже даже дорожку протоптал от входной двери до спальни бывшей курсистки. Окна крохотной комнатки выходили во двор, на котором ничего интересного не было. Да и ничего не было, кроме балагана, где жили тахи и зебры. Впрочем, интересовать они могли лишь любопытных соседей, но соседи, сколько ни были любопытны в силу того, что жили по соседству с нечистью, так и не нашли никакой лазейки во двор Фонтанного дома. Мирные же, менее любопытные, горожане и слыхом не слыхивали никакого ржания, потому что тахи и зебры были приличными лошадьми и без повода не ржали. Повод же они получали, лишь когда их запрягали в княжеские экипажи, но смеяться над хозяевами, как известно, дело неблагодарное, так что жительницы балагана были особами выносливыми, незаметными и немыми.
Впрочем, даже ржи они во всю глотку, то Олечке Марципановой не было бы до них никакого дела. В силу некоторых причин она запретила себе любопытничать вообще. Впрочем, окно в ее камере намертво заколочено было совсем по другой причине, по любовной: здесь часто дневал княжеский секретарь. А совместным ложем им служила старая лодка с пробитым дном, которую притащили с Фонтанки – доски насквозь провоняли рыбой, и этот запах убаюкивал Олечку лучше всяких ласк, а в арсенале упыря имелось довольно притирок, чтобы скрыть дневные грешки от тонкого нюха княгини Марии.
Дно не латали специально – через него спускали горючие слезы прямо в водосточную трубу, а слез в этой камере исправительного заключения было пролито немало. Когда в тысяча восемьсот семьдесят девятом году в руки княжеского секретаря волей случая попал перевод книжечки английского математика Чарльза… – это было, пожалуй, единственное имя, которое Федор Алексеевич пытался запомнить и никак не мог, – он твердо верил, что автор сказки про девочку Алису выдумал реку из слез. Так случайно Фёдор Алексеевич нарушил главное правило загробной жизни – в сказки верить не только можно, но и нужно, иначе сказка станет явью… Например, в лице Олечки Марципановой.
Если живые девушки имеют привычку плакать над своей нерадостной судьбой перед сном, то мертвым это делать нравится по пробуждению. И ладно бы Олечка тихо всхлипывала в подушку, но она заливала лодку морской водой. Бедная пыталась закрывать слезоточащие глаза руками, но слезы фонтаном продолжали бить между пальцев, превращая Фонтанный дом в миниатюрную копию Петергофа.
– Не стоило топиться в фонтанной речке, – отвечал Федор Алексеевич зло, когда Олечка с выражением полного отчаяния на лице, выжимала в лодку свою ночную рубашку. – Мой тебе совет: спи нагой.
Лично он не рисковал ложиться в лодку даже в нательном белье. И не найдя в старых номерах журнала «Архив судебной медицины и общественной гигиены» никакой информации о том, какое влияние оказывает морская вода на мертвую кожу, приобрел будильник.
– Это реликвия, – заверял его старьевщик. – Конец восемнадцатого века. Знаменитый будильник американца Леви Хатчинса, если слыхали о таком? Одна беда у него, опять же, если не знаете, – звонит только в четыре утра.
– Ничего, разберемся! – буркнул Федор Алексеевич и дома сразу же сунул механическое приобретение в руки Бабайки: – Настрой на четыре часа пополудни.
Домовенок любил не только ломать, но и строить. Так что, обтерев руки от сажи, тотчас принялся за дело, и будильник третий год исправно будил княжеского секретаря до начала соленого потопа. Правда иногда Федор Алексеевич думал, что его ранние уходы из лодки и являются причиной русалочьих слез, но желание выйти сухим из воды было намного сильнее желания услужить временной пассии. Хотя сегодня, глядя на одиноко стоящие на столике стакан утренней крови и стакан утреннего молока, Фёдор Алексеевич почему-то с горечью подумал, что нет ничего более постоянного, чем временное.
– До сих пор не приплыла? – Бабайка с опаской заглянул в приоткрытую дверь и под гневным взглядом упыря весь съежился. – Выслать котов на поиски рыбы?
– Нет, рано… – Федор Алексеевич взглянул на заколоченное окно и зевнул.
– Так спать идите… Ну что с ней станется. Не сбежит!
– Да пусть бы уже сбежала! – огрызнулся упырь и отвернулся к окну всем корпусом, чтобы скрыть от Домовенка эмоции, бушевавшие на его бледном лице. – Тогда б поймал и в реку Колыму сослал на посмертное!
– Спать ступайте, барин. Вечер утра мудренее…
Федор Алексеевич молча шагнул к стулу и сел.
– Баба с лодки, рыбаку не легче, – сплюнул Бабайка в сторону. – С вашего разрешеньица, – он бочком вошел в комнату и прикрыл дверь. – Я тут покумекал над вашей проблемой…
– Нет у меня никакой проблемы, – буркнул княжеский секретарь, но глаза на лохматого нарушителя его беспокойства все же поднял.
– Будильник – это хорошо, но тягостно. У вас вон, уже третий ряд синяков под глазами от вечного недосыпания, простите меня великодушно, проступил. Раз слезы русалочьи унять нет никакой возможности, давайте-ка мы с вами воплотим в жизнь проект Леонардо да Винчи, – Бабайка принял вид удивительно важный и даже поднял вверх указательный палец. – Вместо клепсидры у нас глаза девицы Марципановой будут. Под лодку мы весы подложим – можно незаметно медные из рыбного садка умыкнуть. И вот как только слезы наполнят чашу весов, лодка поднимется – и либо вода морская выльется, либо вы вывалитесь сухим…
– Пшел вон! – заорал Федор Алексеевич. – Ломоносов чертов!
Бабайке дважды повторять не потребовалось. Секретарь тоже решил уйти – пойдет, почитает, что ли… Все время быстрее побежит. Но мимо детской пройти не смог. Сынок Олечки Марципановой не плакал, а вкушал урок истории земли русской. Тихий голос у Арины Родионовны – пришлось сесть на пол и ухо к замочной скважине приложить. Подсматривать – грех, а подслушивать – учение.
– Ответствуй, дед, почем девицы горючи слезы льют ручьем! – зычным шепотом говорила нянька. – И отчего во всей столице я не встречался с мужичьем? – И тут же перешла на стариковский хрип: – Наверно, путник, издалече забрел ты в наш унылый край и не слыхал о смертной сече, о нашем славном князе, чай? Снискать желая славы бранной, отверг соседей помощь сам. И с братом лишь и ратью малой отправился во вражий стан. Стояли воины все на смерть, кропили кровью мураву. Не приняла земля их матерь, лежат их косточки во рву. На смерть мужей мы посылали. И не забудется в веках, как жены, сестры их стенали, слез не осталось в матерях.
– Так кто ж тот князь? – послышался голос Игорушки. – Кто так бездумно людские головы сложил и степь чужую русской кровью, багряной кровью окропил? Не Мирославушка ли уж?
Засыпать уже начал Федор Алексеевич под сказ Родионовны, но от сыновнего вопроса разом проснулся и затылком о дверь шарахнул – от злости. А дверь вдруг отворилась, незапертой оказалась, и секретарь как был, так на коленях и ввалился в детскую.
– Что с тобой, ворон наш сердечный? – всполошилась Арина Родионовна.
Со стула подскочила, вязание своё бросила и к упырю склонилась, а тот уже сам не рад, что подслушивать взялся:
– Сердце не на месте, – простонал он, чтобы начать про Олечку Марципанову говорить, но не успел.
Нянька ахнула, к своему сердцу руку прижала, на свой счёт заявление упыря приняв:
– На месте, на месте… Куда ж ему мертвому деваться-то?
– У меня, говорю, не на месте… – зло прошипел Федор Алексеевич и выпрямился, но на беглянку сетовать передумал: – Богатырь в три года не знает, кто такой князь Игорь…
– Знаю, батюшка, знаю… – возопило дитя из деревянной кроватки, но, к счастью, не выкатилось из нее. – Тот, за кого княгиня, в честь которой мать мою назвали, город голубями спалила…
– Другой это Игорь… Потом его слово выучишь…
– А меня в честь которого назвали?
Федор Алексеевич подскочил к кроватке и прижал вязаное одеяльце по обе ее стороны растопыренными пальцами.
– Спи. Что тот, что другой плохи, а ты третьим – хорошим – будешь. Спи давай… Время утреннее.
Вышел, наконец, из детской и в столовую пошел, а там Бабайка тайком, пока княгиня Мария мертвым сном в хрустальном гробе спит, в саже копается – страсть как любит он это дело. А чтобы хозяйка ничего не заметила, заблаговременно все ковры скатал, а пол решил вымыть, когда русалка вернется: что зря воду тратить, за ней и подотрет лужи.
– Слышь, Бабайка?!
Домовой поднял голову – и чуть поклонился княжескому секретарю:
– Раз у нас дачные рыбные дни нарисовались, сгоняй-ка на садок…
– За весами?! – как угорелый, отскочил от печи обрадованный Домовенок.
– За гостинцем! – отрезал секретарь канцелярским тоном. – Для девицы Марципановой.
И ничего не добавив, сунул деньги в зажатый кулак неудачливому академику печных наук и выскользнул из столовой, будто и не было его тут вовсе. Бабайка с тяжелым вздохом закрыл дверцу изразцовой печи и покачал лохматой головой:
– Баба в реку, ему бы в гроб… От любви до гроба и от гроба до любви один…
И тут Бабайка задумался. Даже космы почесал гребенкой с обломанными зубьями, которую ему Олечка Марципанова от всей своей русалочьей души презентовала, когда та в негодность пришла. Но и это не помогло ему найти формулу любви, и Домовенок с тяжелым вздохом, заложив за щеку полученный монеты, отправился выполнять поручение расстроенного упыря.
Солнце все никак не могло пробиться сквозь плотные серые облака, и Бабайка Резво дошагал до Аничкова моста, а там на рыбной барже народищу уже пруд-пруди – не протолкаешься. А заядлому воришке это только на руку: руку в чан сунет – живого судачка за хвост вытащит и за пазуху сунет; к бочкам бочком проберется – вытащит пару селедок и все за пазуху, за пазуху. Славный улов нынче – и русалки сыты будут, и деньги целы.
Так-то оно так! Но надо бы еще и дворника уважить. Для этого грешного дела у Бабайки булка в кармане припасена. Достал он булку и с другими, кому задарма полакомиться охота, в очередь к приказчику встал. Знает заранее, какая икра горькая, какая солоновата: просит для пробы намазать самой крупной, чтоб дядя Ваня не подумал, что пожадничал на него запечный друг.
– А ну… – закричал зоркий приказчик, но Бабайка не повернулся.
Не ему ж, думал. Много тут любителей на халяву икоркой побаловаться. А он всего только на одну булку пробу взял. Что таить, бывало часто таскал сюда маленькую княжну. Для расфуфыренной девочки приказчики не скупились, жирно икру намазывали – думали, уж этой точно купят на завтрак. Но карлик с жиденькой бороденкой никогда ничего не покупал, все сберегал копейку к копейке, в тайне от князя и его секретаря. А Светлана не выдавала Домовенка, потому как умело врал тот, что сэкономленные деньги в церковь нищим носит. Совестно девочке врать было, но так хотелось в ларчике побольше блестящих монеток иметь: кощеевский синдром развит в домовых не хуже воровского. И спал, и чах Бабайка на сундуке – и тратить не на что, и бедным раздать совесть не позволяет. Такая уж странная она была эта совесть у деревенского домовенка, случайно попавшего в блистательный Петербург: ни то, ни се, не то совесть, не то…
– Не то тебя!
А это уже, кажись, ему… Только тогда и заметил Бабайка, что рыбину не под мышкой зажимает, а между коленок держит, но терять улов жалко. Так и поскакал в раскорячку на набережную. Народ хохочет, но не выдает маленького вора – встал стеной, и приказчик, молодой парень, сколько ни прыгал над толпой, а низенького юркого воришку так и не смог увидеть.
– Ужо тебе! – погрозил он в хохочущую толпу.
– Ужо, ужо… тебе! – вторил Бабайка, но не своей совести, а рыбине, которая таращилась на него круглыми невинными глазами: а я что? – Я ниче, просто скользкая от природы…
А булку с икоркой все же крепко в руке держал, крепко-крепко, а то дядя Ваня крепко хватит метлой…
Осторожно сунулся Бабайка в кухню – думал кинуть рыбу в раковину, оставить на столе подношение и тикать. Не вышло: дядя Ваня как раз собирался чай пить. Самовар пыхтит на столе, а дворник пыхтит под столом – нож точит, точно голову рубить кому-то собрался.
– Чего это ты? – опасливо покосился на него Домовенок, вытаскивая из кармана последнюю рыбину. – Зарезать кого удумал?
Дворник зыркнул на Бабайку из-под косматых бровей очень сурово.
– Селедку, кого ж еще? Принес селедку-то?
– А то как же… Все как велено – ее душенька Ольга, как ее там по батюшке кличут… Ах, да, Батьковна… довольны будут.
И расхохотался, глядя на извивающийся в раковине улов. Да так сильно разошелся, что поперхнулся. Забыл про клад за щекой. С трудом выплюнул монеты на ладонь и стоит любуется…
– Опять своровал, ирод? – напустился на него дворник, и нож в руке держит, точно саблю.
– Фу ты, ну ты… – сплюнул Бабайка, спрятав монеты в карман, и отступил к двери. – Скажешь тоже… Своровал… Это вон икру воруют поберушнички всякие, а я все честь по чести… Ты, дядя Вань, рассуди по совести, чьи озера и реки? – И сам же ответил: – Русалочьи, чьи ж еще?! Откуда следует, что и рыба озерная и речная вся русалочья. Вот, получается, взял я, что нашей Ольге Батьковне причитается по закону. Так за что плату вносить? А? Молчишь, дядя Вань?







