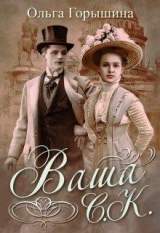
Текст книги "Ваша С.К. (СИ)"
Автор книги: Ольга Горышина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Глава 21 «Не ходите, девки, замуж»
Сашенька никогда не был для Светланы ясным соколом. Он даже не был голубком. Его поэтический псевдоним как нельзя лучше говорил о нем, как о человеке, чем все прочие эпитеты – он был серым. И единственной его отличительной особенностью являлись женские платья, в которые он рядился, когда выходил с дочерью Мирослава Кровавого в свет, то есть в подвал «Бродячая собака». И дело было не в маскараде и не в пристрастии юноши к женским нарядам, а в той простой причине, что он думал и не надумал, как бы еще и чем бы еще выделиться в многоликой – временами яркой, временами безликой – толпе работников пера и печатной машинки, которой у Саши Серого отродясь не было. Все, что у него было с рождения – так это бабские наряды. Его маменька, после негласного развода с мужем, который произошел, когда она находилась в интересном положении, мечтала, чтобы у нее родилась Александра, но родился Александр.
Недоразумение природы мать могла исправить только тем, что взять и обрядить сына в кружева, не стричь ему волосы и обращаться к нему на людях исключительно нежно – Сашенька. Сашенька и вырос девицей – скромной, незаметной, краснеющей между делом… Хотя дел у него никаких не было, то есть ни к какому делу он в сущности не был пригоден и не был приучен – к мужским в особенности, а умение вышивать крестиком и гладью он старательно скрывал даже от княжны. Об этом его умении ведала лишь княгиня – на почве вышивания он и сошелся с ней. Как любила шутить Мария – мы с тобой, голубь мой, на короткой игле…
Про длину его мужской иглы тоже известно было одной лишь княгине, но та держала сию информацию в тайне, даже от мужа. Но имея в доме бывшего опричника с собачьим нюхом на любые дела – государственного значения и личного плана одинаково – роман их высоким штилем писался не долго, а низкий княгине был не нужен, и полюбовничек, отваженный от будуара княгини, принялся обучать грамоте – а по-русски писать он все-таки умел, как и считать до десяти – ее дочь, чтобы иметь возможность хоть иногда, хоть одним глазком подглядывать за прекрасной Марией Кровавой. Ну, а Федор Алексеевич следил за юношей в оба. Сашенька княжескому секретарю не нравился – ему вообще претила любая серость.
– Ни то, ни се… И выкинуть жалко, и в доме не нужен…
Однажды, найдя в тетрадке у своего учителя – которого юная княжна всего считала девушкой – стихотворение странного содержания, Светлана пошла с ним прямо к отцу, объявив, что оное безобразие адресовано ее серой забитой гувернантке кем-то из бессмертной, бессердечной и бессовестной петербургской братии.
Стихотворение было следующего крамольного содержания:
Твой дивный взор и тонкий стан
Свести с ума спешат любого.
Что барин сельский, что улан
Тебя молить готов у Бога.
А ты, не ведая греха,
Мила со всеми без разбора,
Как будто баба потроха,
Себя торгуешь у забора.
Быть может, милая душа,
Тебя над пяльцами томили?
И оттого ты в ночь ушла,
Что были дни тебе не милы?
Да только, девица-краса,
Меня не сжечь коварным взором,
И пусть долга твоя коса,
Да только ум твой стерт позором.
Иль может быть в тебе тоска
Змеею вдруг зашевелилась?
И в дни Великого поста
Ты к Боженьке вдруг обратилась?
Но я не Ангел, что тебя
Готов извергнуть из позора…
Платок свой зря не теребя,
Не прячь огонь срамного взора.
Иль, может быть, игры за зря
Меня пленить в ночи решила?
Да только светится заря,
Чтоб ты сегодня не грешила.
Зачем тебе моя душа?
Ее другая обнажила
И осторожно, не спеша,
Своей изменой иссушила.
Мертвец я пред тобой стою,
В уголья чувства превратились,
И я молюсь, но не молю,
Чтоб ей ты вдруг оборотилась.
– Кто этот мертвец, папенька?! – тринадцатилетняя княжна с гневом взглянула на князя, когда тот наконец оторвался от чтения сего стихотворного шедевра.
– Сейчас узнаю… Ступай к себе, – сказал князь спокойно, но дочь чувствовала, что родитель в гневе и заранее радовалась от всего своего чистого сердца, что «мерзавец», оговоривший ее Сашеньку, получит заслуженное свое.
Сашеньку позвали в княжеский кабинет тут же, и вместо приветствия предводитель петербургской нечисти выдал:
– Подражать Александру Полежаеву у вас, молодой человек, получается очень слабо.
Сашенька сравнялся цветом с красным княжеским плащом, который был, по-домашнему, накинут на широкие плечи Мирослава. Это доморощенный поэт ещё не знал, что древнерусский витязь, сын варяга от рабыни, добытой в Гардарике, в домашнем исподнем обычно выражается иначе, но сейчас, в память Александра Сергеевича, а дело было аккурат шестого июня, Мирослав старательно подбирал приличные слова. А господин поэт, подтягивая юбки до неприличия высоко – до самых колен – так же старательно краснел. Залившись краской до состояния помидора, Сашенька выпалил, что Пушкин является его кумиром так же, как был им у досточтимого Полежаева, и заодно – это смущенный юноша сообщил уже запинаясь и невообразимым шепотом – под «мертвецом» он не имел никого в виду.
Но вот Фёдор Алексеевич давно имел в виду его самого.
– Так он у нас ещё и поэт! – воскликнул он, раздирая в клочья тетрадный листок. – Пасквили писать не совестно? – добавил уже с хохотом и тут же: – Можем послать его куда подальше… – почти мечтательно протянул Федор Алексеевич. – На Кавказ, к примеру…
– Сейчас там не стреляют, – буркнул князь, собирая клочки бумаги в единое целое.
– Поэт всегда отыщет там себе пулю… – секретарь сгрёб выстроенный князем заново тетрадный лист в кучку и бросил в корзину для бумаг на вечное забвение. – Я хотел сказать – дулю.
– Дулю он найдет и здесь… Серая бездарность! А вот отослать его в Тифлис не такая уж плохая идея. Попадет там под чье-нибудь влияние, может и писать научится. В салоне моей жены его другим рифмам учили… Решено! Завтра же едет.
Вот так просто в одну ночь в Фонтанном доме решилась литературная судьба Сашеньки. Его жизненный путь решился чуть позже. По возвращении – вернее, по обращении. Вскоре в Фонтанный дом доставили телеграмму, в которой сообщалось о плохом состоянии здоровья подопечного. Князь уже хотел ответить – так вылечите, но Федор Алексеевич остановил его:
– Княже, ты разве хочешь иметь в доме упыря, кусающего всех за пятки? Или коленки, я не особо разбираюсь в тонкостях кавказской кухни…
– Да, я об этом как-то не подумал, – почесал за ухом князь. – Федька, а ты кажись никогда не был на Кавказе…
– Завтра же буду, – откланялся секретарь, и через несколько дней вернулся с голубком под мышкой.
Со все еще живым… К больному тифом приглашали лучших докторов. Даже того доктора, у которого проживала тогда еще никому неизвестная Олечка Марципанова, но даже недоктора знали, что спасти жизнь поэта, как и поэта в нем, может только чудо…
– Этому пациенту поможет только переливание крови, – это заключение сделал вовсе не доктор, а Федор Алексеевич, и по-быстрому провел процедуру умерщвления и воскрешения серости российской поэзии.
А сейчас эту процедуру собиралась проводить ветряная ведьма Туули. Светлана на это надеялась, потому что особого доверия к бабке не было у нее никогда. Еще со времен ловли соколов к обеду, Светлане приходилось обелять перед домашними любимую Туули и брать всю вину на себя, говоря, что ищет того, кто ясным соколом оборотиться может – царевичем, значится. Маленькой девочке такое баловство прощали, а ведьму стращали: силки ставь, а не могилу ребенку рой!
Но разве женщины – в особенности ведьмы, бывшие по молодости колдуньями – будут слушать мужчин? Особенно того, кого выкормили и вырастили. И того, кого ни во что не ставили, ибо есть он собака-опричник, из-за которого вода в реке Волхов даже лютой зимой не замерзает в том самом месте, куда влилась река крови мужей новгородских, по приказу псов царских зарезанных. Туули специально хранила бутылочку с волховской водой и преподносила дорогому гостю всякий раз за место крови. Федор Алексеевич не отказывался, выпивал всю чарку до дна, не поперхнувшись.
– Не у тебя, финка, мне прощение вымаливать… – возвращал он ей пустую.
– Да умеешь ли ты молиться, собака?
Никогда ничего не отвечал на это красавец-кравчий, молча поднимался из-за небогатого на угощения стола и уходил, не крови нахлебавшись. И уводил с собой пра-пра-пра-правнучку Светлану.
– Твоя кровь не принесет ей счастья, – прошипела как-то раз Туули вослед нежеланному гостю, покуда внучка названная ее не слышала.
Обернулся тогда Федор Алексеевич и рыкнул:
– Не переживай, финка. Муж из нее всю мою кровь выпьет. А я святой воды поднесу ему после, чтобы очистить от своей скверны.
Затаила на него злобу финка еще более лютую и начала настраивать внучку на безбрачие, ибо в душе любила девочку, как никого никогда не любила. Даже Мирослава, выросшего в ее землянке, когда хворь до времени прибрала его родную мать, которую мальчишка хоть и силился, а вспомнить не мог. Так что никого у Мирослава, кроме финской ведьмы, и не было, пока княгинюшка не появилась, но о ней поминать никто не любил… Много веков прошло с ее жуткой гибели.
– Женушки они для мужа, для свекрови же рабыни… Невозможно быть хвалимой у свекрови, быть желанной в доме мужа… – начинала Туули нараспев всякий раз, наевшись сокола.
– Какая свекровь, бабушка… – отвечала умная девочка… – У упыря-то…
Насупится Туули и потом снова выдаст:
– Но все равно учись поклоны делать ниже да расточать слова получше…
– Учусь, бабушка, учусь… И не засыпать под вечер учусь и утром слышать крик петушиной, всему учусь, бабушка… Я и так всякую ночь выхожу смотреть на месяц ясный и по Медведице время знаю. Коль прямо к югу головою станет, а хвостом своим на север кажет, то время мужу спать ложиться…
Насупится Туули еще сильнее и начинает гонять внучку по землянке: то пол подмети, то стол вымой…
– Не только сверху, но и сбоку, и ножки мой… И стены обмети, и скамейки облей водой… А что думала, за тобой муж как отец, точно за царевной, ходить будет…
– Вот разошлась старая… – это скрежетал клыками Федор Алексеевич, топчась у порога. – Светлана, домой!
Выскакивала к нему девочка черная, что домовенок из печки.
– Сколько лет ей, знаешь?
Светлана кивала.
– А сколько в этой норе живет, знаешь?
– Столько же.
– Вот то-то… Единственное, что верного в ее словах: как мышь, ушами слушай и как заяц, бегай ногами. А то догоню!
И наутек бежала от него девчушка, только пятки сверкали… И никогда не догонял ее прадед, всегда она его побеждала. Зато бегать резво научилась – хоть какой прок в его воспитании. А бабка только и ворчала:
– Не ходи без сарафана, не ходи ты без сорочки, не ходи и без платочка…
– А почему? Потому что приятно то мужу?
Менялась тогда в лице старая ведьма.
– Это кто тебя научил такому? – и руки в боки встанет. – Сколько раз тебе отец говорил на озеро не бегать… И без башмаков не ходить! – кричала уже внучке вдогонку, когда та улепетывала от бабки к русалкам в омут.
Если бегать ее прадед научил, то плавать – подруженьки, лады простоволосые… И другим премудростям – пусть лишь на словах да все же без скромностей – обучили. А иногда Светлана еще и подслушивала разговоры бабки с отцом:
– Дочь, что яблонька, взрастить-то ты ее взрастишь – гляди, сколько помощников у тебя, а посадить не сумеешь, ох не сумеешь… Нет достойного ей, нет… Один, что лапать в лохмотьях, у другого воронье тело. И у всех рот от волков…
И как клацнет зубами на князя, тот даже отпрянет, а она хохочет – дико хохочет. Даже все травы под потолком трясутся от ее хохота.
– Не отдашь ведь, не отдашь…
Спугнули тогда сороки девочку и не услышала она ответ отца. Зато бабка на другой день снова подступилась к ней:
– Издавна у нас мужей учили правильно бить жен: все по плечам березовым прутиком, а по спине лишь немного. А глаз и ушей не касаться, чтобы шишки с синяками не вскочили и никто б не догадался, что волком, кто изодрал и медведем, кто измял, муж был… Так учили, так и делали. Так и делают…
Не стерпела тогда Светлана, к отцу с расспросами полезла. Сощурился Мирослав и сказал:
– Учили, учили… Да только мне это не пригодилось. Я другой совет принял: будешь ласков ты с желанной, будешь девой мило принят.
– Все равно не хочу замуж! – топала Светлана босой ногой.
– Да куда ж тебе замуж… – смеялся Мирослав. – Тебе б за башмаками сходить сначала, а потом уже замуж.
Вот и сейчас стояла перед бабкой семнадцатилетняя княжна босой – уж больно ноги натерла.
– Ты мне не гадай, бабушка, ты мне ноги лучше подлечи… А я уж как-нибудь до своей судьбы на них доковыляю…
Строго глянула на нее ведьма и отвернулась.
– До свадьбы само заживет. А я в этом деле тебе не помощник.
– Какая свадьба, бабушка? Ты про смотрины прошлые, что ли? Так это карнавальная ночь была, как у Его Императорского Величества. Все в старые одежки нарядились. Ты бы Федорушку нашего в шитом золотом сарафане видела б…
Обернулась к ней ведьма, шикнула:
– На колу б я его лучше увидела в драной рубахе!
И рукой махнула:
– Отойди. Сейчас красного дракона пускать буду…
Глава 22 “Не злите Кикиморку”
Пустить красного петуха – поджечь дом, так в народе говорят. Пустить красного дракона – на судьбу погадать, так говорила ветряная ведьма Туули. Однако княжна сызмальства знала, что и птица, и ящер, оба огнём были. Настоящим. А с огнем играть опасно, но еще опаснее мешать гаданию. Совладать с разбушевавшимся драконом под силу только самой Туули. Сердце Светланы неистово билось, и пусть она отступила почти к самой двери, глаза ее расширились, как бывало в детстве. Не до гаданий девочке было, просто любила Светлана смотреть, как из клубов дыма вылезает огненная голова и идёт туда, куда ведут ее старушечьи руки, то вверх, то вниз, то в стороны разные, а то и вперед, прямо к Светлане. Та аж жар чувствует, но рукой не прикроется – нельзя. Должен огненный огонь всю ее облобызать, заглянуть в душу, пройти сквозь тело и выступить на коже крупными каплями росы. И исчезал дракон так же быстро, как появлялся.
Нынче же Светлана вела себя как плохая женушка – простоволосая, без платочка, босая жалась она к стенам землянки. Отругала ее бабка так, что хуже некуда. Потому без зазрения совести задрала княжна рубаху, под которую забыла впопыхах сорочку поддеть, и утерла раскрасневшееся лицо. А когда обернулась к ней ведьма, внучка уже подол расправила и руки перед собой в замок сомкнула, как должно.
– Уходи, – шикнула на нее бабка. – Чтобы духу твоего здесь не было!
Зажмурилась Светлана – глаза щипало от едкого дыма.
– А что дракон сказал?
– А то, что знать тебе не надобно. Вон ступай…
– Ухожу, ухожу, бабушка… Только как…
Глянула Туули на босые ноги и туфли, которые внучка в руках держала, прошла сквозь зыбкие клубы дыма в угол и вернулась с мешочком.
– Пошла вон…
Уже не в приказном тоне сказала, но по-прежнему тихо. Поклонилась Светлана старухе в пояс и скрылась за тяжелой дверью. Даже отошла шагов на десять, прежде чем на пенек присесть, чтобы к ногам лопухи с мазью приложить. Закрутили ноги, точно портянкой, и туфли натянула, подвязав их на манер лаптей вытащенной из волос лентой. Потом вздохнула тяжелешенько и поплелась к дому – торопиться некуда, там ее до заката никто не ждет, а в лесу ждут в любое время дня и ночи, да не велено князем к омутам близко подходить. Не велено, а хочется, только ослушаться при госте нельзя – княгиня научила мужа чтить этикет и дочь достойно воспитала, а что до русалок – так ненавидела их барыня лютой ненавистью и дня три, по возвращении с дачи, не допускала с князем встреч в одних комнатах: все ей рыбой воняло… Впрочем, и князь не особо искал тогда с женой встреч. Недружно жили родители, ох недружно – и отсутствие семейной идиллии в Фонтанном доме куда больше отвращало юную княжну от замужества, чем все причитания Туули вместе взятые.
Светлана шла то быстро, то медленно. Ноги не болели, но шелковые ленты не держали лопухи и постоянно скатывались по ноге гармошкой. Светлана поправляла их и шла дальше, прислушиваясь и оглядываясь, не бегут ли за ней волки. Нет, бросили ее – позабыли и княжеский, и графский наказ. Но в лесу светло и приятно – некого бояться, да и лес всяко безопаснее гранитных мостовых Петербурга будет даже ночью.
И все же Светлана с облегчением вздохнула, когда опустилась на скамейку возле дома и сняла с ног лопухи – ножки, как у младенца, чудо мазь у Туули, чудо… Пусть и с Сашенькой бабка чудо сотворит, не виноват он, что юродивый…
Огляделась Светлана – странно пусто вокруг, куры не кудахчут, петух не поет. Походила княжна вдоль лавки и тихо свистнула – никто не отозвался. Задумалась – куда делась Аксинья? Она мала для любовных игр, пусть и в прабабушки княжне годится. Всегда в крапиве дожидалась возвращения сестриц. Позвала княжна русалочку по имени – снова тишина. В прятки играть удумала. Заглянула тогда Светлана в сени, схватила грабли, завалив все вилы, выругалась в голос, как дворник дядя Ваня бывало на хулиганистых мальчишек, и вернулась во двор, чтобы в крапиве пошарить: не нашла русалочку, зато вытащила граблями петуха. Дохлого. С болтающейся шеей.
– Вот те раз…
Оглянулась Светлана – пусто. Как-то нехорошо ей сделалось, передернула она плечами, но все же донесла петуха на граблях до скамейки, там и оставила. А грабли в сени вернула и тихо поблагодарила хозяина за них и извинилась за шум.
– Так не спят они, – высунулся из соломы длинный нос Кикиморки, а потом и вся она вылезла, отряхнулась, одернула на тощем теле сарафанчик и прошастала вниз на своих куриных ногах. – Петуха Аксинья-злодейка придушила, вот и не спят… Без петушиного крика утро у них не наступает, видать…
Нос вздернула и стала тыкать им в рубаху княжны, и только тогда Светлана увидела, что от носа нить тянется прямо к веретену, которое неустанно крутила в руке Кикиморка.
– Не спят днем. Значится, ночью спать будут, а мне снова к прялке не подойти…
– Да кто не спит-то?! – топнула обутой ногой княжна.
– Да басурманин ваш и не спит! – Нос у Кикиморки от волнения надвое разошелся, точно клюв у цапли. – Чтоб ему еще раз в сундук свалиться!
– Граф? Здесь?
– Здесь…
Это ответили уже из-за стенки, и Светлана так вздрогнула, что аж подпрыгнула. Потом сделала несмелый шаг к двери, но наступила на куриную лапку – Кикиморка между ней и светелкой встала, намертво…
– Голодные они…
– И что?
– А то, – буркнула Кикиморка.
И принялась вдруг круги вокруг княжны наматывать, и все сильнее и сильнее затягивалась у Светланы талия, что кругу на десятом она уже и вздохнуть не могла.
– Помилуй! – взмолилась княжна.
– И не подумаю… Распоясанная ходишь тут, тень на плетень наводишь…
– Куда и что я навожу? – рассмеялась княжна звонко. – Снова ты все попутала, Кикиморка!
– И не попутала, это ты попутать меня хочешь… Куды пошла?
А Светлана идти никуда и не могла – крепко примотана была к веретену Кикиморки.
– Пусти!
– И не подумаю… Куды собралась, спрашиваю?
Светлана зло сощурила глаза:
– Ты плохая хозяйка тут, а я хорошей буду. За петухом пошла. Что добру пропадать, а злу голодать?
– Светлана, я сегодня очень добрый… – снова послышался из-за двери голос графа фон Крока.
– Вот вы-то точно, граф, вздор городите! – рассмеялась княжна. – Вам никак по табелю о рангах добрым быть не положено. Да пусти ты, злыдня! Сейчас на вилы тебя посажу!
И снова в сенях все повалилось, и снова раздался за дверью голос графа:
– А вам, Светлана, самой добротой быть положено…
– А я когда голодная, всегда злая, – проговорила княжна, вырывая из рук Кикиморки веретено. – А каша моя в печи, а у печи вы, а во рту у вас кровавой росинки еще не было…
Она заткнула веретено за пояс, который накрутила ей Кикиморка, и, вернув вилы на крюк, пошла во двор. Кикиморка следом выскочила.
– Ручки белые марать не будешь, красавица? – ехидно проворчала она, когда княжна остановилась над мертвым петухом.
– Не буду, – гордо выдала она. – Твои-то на что будут? И знаю, все равно за мной пойдешь…
– За тобой не пойду, за веретеном своим пойду, родимым, – закудахтала Кикиморка, хватая петуха под мышку.
Светлана потащила ее в сени, дверь плотно прикрыла и постучалась к графу.
– Открывайте, не бойтесь, – шепнула она, хотя следовало сказать «не бойся» да про себя, а то сердце так в горле стучало, аж под самым подбородком, что не ровен час зубы в разные стороны полетят.
– Да как же я открою, коль я узником тут, а не гостем гощу.
Светлана рванула дверь на себя, потом одумалась и толкнула, даже плечом налегла. Знала, что замка нет.
– Кто держит ее? – выкрикнула княжна звонко.
– Я и держу, – пробасил, кряхтя, Домовой. – Жду как снова свиньей ругаться станешь.
– Не дождешься! А-ну открывай, что тебе говорят! А то… – Светлана выхватила из-за пояса веретено. – Веретено переломлю…
– Ой, горе мне, горе! – упала перед ней на колени Кикиморка, а Светлана на всякий случай ещё выше руки подняла. – Горе мне, горе…
– Не мычи коровой! Вели муженьку своему отпустить дверь!
– Да как же это можно?! – Кикиморка выронила петуха и теперь обеими руками цеплялась за подол княжны, а та аж на цыпочки поднялась, чтобы еще выше стать. – Где это видано, чтобы жена мужем помыкала…
– У нас в дому видано! – отрезала княжна. – Сказала, что переломлю, значит, переломлю. Ну…
Но Кикиморка только узким длинным носом между половиц попала и голову руками прикрыла, и до княжны сразу же донеслись ее всхлипывания – тихие, что мышиный писк.
– Фу ты пропасть, аж тошно! Получай свое веретенко обратно, – Светлана хотела бросить его на пол, а оно повисло на нитке, не коснувшись половиц. – Что валяешься, курья твоя нога! Режь нить, говорю, а то не увидишь веретена – в колодец брошу. А ты отпирай, а то… – Светлана постучала по двери кулаком. – Дворового позову… Самовар ставь!
– Фу ты, ну ты…
Зашуршал старик одежами, и дверь скрипнула. Светлана вошла с поклоном и сразу к графу, а тот отступил от нее, отпрыгнул аж под самый красный угол.
– Грозная вы княжна, – проговорил он, делая шаг вперед, чтобы присесть на лавку, куда она его по приезду усадила.
Ставни снаружи закрыты – а она и не заметила. Светлячки над черепом нимбом светятся. Темновато, но разглядеть можно. Хотя и нечего разглядывать – все, кажется, в полном порядке на своих законных местах. Кроме самого графа – рубаху банную скинул. Снова сорочку надел и камзол на плечи накинул.
– Ой, батюшки! – ахнула княжна и рот прикрыла, а граф с лавки вскочил и озираться принялся, ища, что могло княжну напугать. – Я у бабки плащ ваш забыла, вот балда так балда… И фуфайку Бабайкину тоже… Но я живо назад сбегаю…
– Да куда ж вы все бежите, милая княжна? То ко мне, то от меня… – граф тяжело опустился на скамью. – Да пропади пропадом этот плащ! Вы же голодны… Из-за меня…
– И вы, как вижу, тоже… Из-за меня, – Светлана на шаг дальше отступила и напустилась на Кикиморку, чтобы поторапливалась.
Та шасть к печи за занавеску, схватила нож и раз, голова птицы долой и потекло что-то на дно кружки.
– Да что ж вы так на меня смотрите, граф? – княжна отвернулась и тут же услышала тяжелый вздох трансильванского гостя. – Что такое?
Она обернулась и смотрела уже лукаво…
– Поторопите служанку, княжна, тогда и разговор будет ладиться, а то сейчас у меня что ни слово, то зубной скрежет, так и без клыков останешься, – он тоже улыбался, да только губами. – Секрет откроете? Не силой воли сдерживаю себя нынче, а чьей-то другой силой, превосходящей мою в стократ.
Княжна молча ткнула пальцем в пояс из нитей, намотанных на нее заботливой Кикиморкой.
– Ах, вот оно что… Волчья шерсть никак? Никогда бы не подумал…
– Да не в шерсти дело, граф. А в колдовстве домашнем. Она вам сейчас и завтрак наколдует. Такой, от которого уснете крепким сном.
– Не мертвым хотя бы? – усмехнулся граф: его верхняя губа чуть приподнялась, и в сумраке избы сверкнули белизной клыки.
– А какой вам нужен? Живой, что ли? – уже кокетливо хихикнула Светлана и тут же нервно передернула плечами. Затем вмиг сделалась серьезной и обернулась к печи: – Поторопись, Кикиморка, тошно мне… Твой пояс горло перетягивает…
Хозяюшка тут же вынырнула из-под занавески с полной кружкой и прошипела:
– Так бы и придушила…
– Меня, что ль? – снова нервно хихикнула княжна, протягивая руки к кружке.
– Обоих вас… Два сапога пара, – и Кикиморка руки от кружки отдернула, точно от заразы какой.
Княжна обошла ее и с поклоном подала угощение графу.
– Да помилуйте, Светлана! – трансильванец подскочил со скамьи. Так резво, что чуть не вышиб протягиваемую ему кружку.
– Тише, тише! – княжна сделала шаг от стола и дождалась, когда петушиная кровь в кружке перестанет трястись. – Так принято… В деревнях всё по-старому, прежнему. Стар уклад, хоть ему не рад. Здесь не город столичный ветреный. Верят свято, что мал, что стар: за грибы в пояс кланяйся лешему…
– Это я уже знаю, – улыбнулся граф, припомнив, как кружился среди сосен. – Но не прописано нигде, что в пояс гостю кланяться требуется от хозяюшки, если гость сам того не требует?
– Да кто ж вам в пояс-то кланяется, граф, кто? – и Светлана поставила кружку на стол и отступила назад к печке. – Пейте, потом петушиться будете…
– По счастью, у вас тут поросенка не зарезали, – покачал головой граф, делая первый глоток, а за ним и второй, на третьем лишь оторвался он от кружки. – А вы сами что ж не едите? Помнится, говорили, что в печи вас каша дожидается…
– Вот я и иду к печи за кашей.
– А на что у вас служанка тогда?
Княжна бросила суровый взгляд сначала на Кикиморку, потом на графа:
– Нет у нас тут служанок, здесь каждый сам себе слуга. Я уж сама как-нибудь себе соберу на стол, а то Кикиморка и мне свое веретенко в рот засунет, пикнуть не успею.
И вдруг спохватившись, Светлана подбежала к столу, растеряв в единый миг напускную степенность.
– Срежьте нить, прошу вас…
Граф взглянул в горящие глаза княжны:
– А вы уверены, Светлана, что колдовство не в веретене спрятано?
– Уверена. Режьте. Молю вас, не тяните… Не ровен час, она другое придумает, а папенька от подруженек до вечера не выйдет… А как вас-то выпустил?
– Я сам ушел.
Княжна сильнее вскинула голову и часто-часто заморгала.
– Как это сами? Из папенькиной бани никто по своей воле не уходит. Да и как же, в России быть и в баньке не попариться, это как укусить и кровь не высосать! – и добавила уже совсем тихо: – Так Федор Алексеевич говорит. А вы ушли…
– Ушел. Коль сам не мог, значится, выпустили… Князь слово с меня взял, что не трону вас… Тяжело мне слово это дается, да потом горше будет, коль не сдержу его. Жаль только не сказал, как уберечься от хозяев вашей избы…
– А этого папенька сам не знает, – снова нервно хихикнула княжна. – Да режьте уже… Я же видела, как резали вы ногтем свои путы. Я вас освободила, теперь вы меня освободите… Тошно мне… Сил совсем не осталось…
И граф еле успел руки подставить, как княжна без чувств свалилась в его объятия. Бросив в сторону печи румынское проклятие, он опустил девушку на стол, будто покойницу. Отступил, потом размахнулся было, чтобы по щекам отлупить, но передумал. Схватил кружку и выплеснул оставшуюся кровь в бледное лицо. Та потекла красными ручейками за уши на стол и по подбородку и шее на светлый лен рубахи. Княжна открыла глаза, часто-часто заморгала, а потом села и отплевываться начала, размазывая кровь по лицу.
– Что ж вы наделали! – ахнула она, увидев, как замаралась ее рубаха. – Нет у меня другой здесь. Она же обережная…
– Да что вы, княжна, право… – граф отступил от нее на шаг, потрясая пустой кружкой. – Неужто хотели, чтобы я вас ударил? У меня удар не человека. Я не оживить, я убить могу…
– Уж это точно! – княжна спрыгнула на пол. – Где я вам свежей крови найду теперь?
– Я не голоден больше, княжна, – проговорил граф тихо, когда девушка принялась тереть шею, на которой билась заветная жилка, заставляя его нервно сглатывать слюну с горьким привкусом петушиной крови. – Дайте сюда ваше веретено.
Он дождался, когда Светлана сама подойдет и одним махом перерезал нить ногтем указательного пальца.
– Благодарю сердечно за вашу заботу, – проговорила Светлана, но графу вовсе не понравился ее тон. – Кикиморка, держи, и чтобы сидела за печкой тихо, не мешала нам…
– А кто ж ему помешает-то, – злобно захихикала Кикиморка, вцепившись в веретено обеими ручками. – Мне дела нет до тебя, срамницы. В таком виде шастать даже перед знакомцами совестно…
– Брысь за печку! – буркнула княжна и плюнула на пол. – Брысь сказала! Натравлю на вас Дворового, будете знать…
– Тьфу на тебя. Пропади ты пропадом, дрянная девка!
Кикиморка потопала для пущей важности курьими ногами и шасть за занавеску.
– Не воспитываете вы слуг, а с ними строгость нужна. Как с детьми!
Княжна обернулась к графу, который по-прежнему стоял посредине светелки с пустой кружкой.
– Да что ж у вас с памятью-то! Не слуги они…
– Тем хуже… К таким хозяевам в гости не хаживают. Такие дома за версту обходят…
– Так что ж вы за версту Фонтанный дом не обошли?
– Я не собирался в Петербург. Собирался в Париж, в Лондон, там меньше солнца и темно ночами, но потом… Надо было ехать хотя бы в великое княжество Финляндское. Но что сделано, то сделано. Заварил кашу, сам и расхлебываю… Кстати, как там ваша каша в печке поживает? – и когда Светлана сделала шаг в сторону печи, шагнул следом. – Дайте я сам проверю… Поухаживаю за вами.







