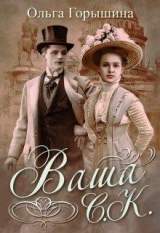
Текст книги "Ваша С.К. (СИ)"
Автор книги: Ольга Горышина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Глава 19 «Госпожа Буфница и классовая ненависть»
За три года Олечка Марципанова по долгу службы какой только нечисти не перевидала в Фонтанном доме. Однако госпожа Буфница вызвала в ней живой интерес. Олечка поздоровалась, чуть привстав со стула, но белое лицо в круглом капоре, появившееся на месте совиной головы, в ее сторону даже не качнулось.
Правда, и в сторону княжеского секретаря дама в белых перьях тоже не сделала реверансов. Просто села на отодвинутый для нее стул и замерла, выпучив на пустое кресло круглые глаза, желтизна которых соперничала со светом, коий отбрасывала на зеленое сукно стола керосиновая лампа. Затем принялась забавно ухать, точно пыталась отдышаться, и Федор Алексеевич тут же поставил перед гостьей миску и вылил в нее полграфина воды. Напившись вдоволь, госпожа Буфница тряхнула плечами и снова замерла.
Федор Алексеевич не нарушил повисшей в приемной тишины даже вздохом. И кресло под ним, согласно тайному уговору, тоже не скрипнуло. Открывать первым рот он не собирался и просто подмигнул стенографистке. Олечка по команде подняла руку. Однако с превеликим трудом опустила перьевую ручку на бумагу, потому что госпожа Буфница, вместо сообщения полученных ею сведений, принялась распевать песню, непрестанно пожимая при этом плечами, точно отсчитывала слоги:
– Сколько держится мир, будет вера свята:
Не ложится пшеница в землю овса.
Коль жених дорогой наш прост как овёс,
К благородной пшенице не суй-ка свой нос.
Не сплетутся их корни, не родится зерна:
Благороден жених – плодородна жена.
На первых словах секретарь и стенографистка переглянулись, и по молчаливому благословению, Олечка Марципанова дважды окунула перо в чернильницу, застенографировав странные слова, непонятно какой рифмой относящиеся к делу графа фон Крока.
– Кх, хм, – кашлянул Федор Алексеевич, когда понял, что петь больше гостья не собирается.
Он впервые обращался за сведениями к румынской сове и боялся ненароком спугнуть гордую птицу, нарушив какой-нибудь ее дорожный ритуал. Вдруг это она так перед каждым отчетом прочищает связки… Не только ж воронам каркать во все горло. У сов горло тоже ого-го какое!
– Записали? – спросила вдруг госпожа Буфница, и когда секретарь кивнул, виновато заухала и выдала: – Только в случае досточтимого графа, все наоборот вышло: благороден жених и простая жена. Овсянка, с вашего позволения.
Секретарь и стенографистка снова переглянулись, и Олечка так и записала: графиня фон Крок – овсянка. Потом зачеркнула и написала просто – кобыла и в скобках добавила «любила есть овес», но не удовлетворившись подобной записью, постучала пером по чернильнице, требуя разъяснений. Теперь уже на нее смотрели две пары глаз: упыря и совы. Русалка-стенографистка виновато улыбнулась, а потом и рот раскрыла, но не для вопроса, а потому что голова госпожи Буфницы продолжила свое движение и оказалась лицом к спине. Но и теперь Олечка ничего не могла бы сказать, потому что вестница при виде запертого в клетке лакомства ужас как громко заухала. Тогда Олечка решила следовать логике и приписала пояснение: жена графа в девичестве носила лошадиную фамилию, предположительно – Овсова.
Но счастье совиное было недолгим, потому что Федор Алексеевич легонько постучал по плечу госпожи Буфницы пером, которое для вида держал в руке и временами скреб отточенным концом по чистому листу бумаги. Румынская сова нехотя повернула к нему голову.
– Премного благодарен, – проговорил княжеский секретарь, когда покрытый пушком подбородок гостьи наконец коснулся кружевного жабо. – Мне хотелось бы получить более точные сведения о графе фон Кроке.
– А что тут непонятного?! – всполошилась сова и снова заухала. И обиженное уханье ее растянулось чуть ли не на пять минут. – Пою ж вам русским языком о неравном браке. Мезальянсе по-ихнему. По любви, дескать, взял в замок крестьянку, и та родила ему мертвого ребенка, потому что овес не живет с пшеницей, и сама того – концы отдала.
– Да причем тут овес?! – нервно откинулся на спинку кресла княжеский секретарь.
– В нашем Ардиале так бают. Люди бают. Не травы. А я ничего не знаю. Я мышей люблю.
– Вот это я знаю, – буркнул Федор Алексеевич. – Давайте начнем с простого. Когда родился? А потом уже, когда женился. Хотя это меня не волнует. Он вдовец, верно? Впрочем, ничего нового вы мне не сообщили… Он это выболтал сам по пьяни, половину князю, половину мне.
– Тысяча шестьсот четырнадцатого года он. Женился поздно. В тысяча шестьсот сорок четвертом году. В том же году овдовел.
Федор Алексеевич нервно постучал чистым пером по исцарапанной бумаге и спокойно спросил:
– Был он в чем-нибудь замечен?
– Он вообще не был замечен до тысяча шестьсот семьдесят пятого года… Даже воронами, – добавила госпожа Буфница, заискивающе ухнув, но глаза ее при этом остались по начищенному полтиннику.
Однако ж когда госпожа Буфница говорила, голова ее начинала медленно склоняться к плечу, и крючковатый нос то и дело касался жабо. Федор Алексеевич помянул Бога в суе, когда сам нашел ухом плечо, непроизвольно повторяя движения госпожи Буфницы.
– Подробнее, подробнее, – пытался подбодрить он вялую рассказчицу.
– Да нет никаких подробностей. Как у вас говорят, не состоял, не привлекался, – и госпожа Буфница снова заухала прежде чем добавила: – ни в каких тайных обществах, ни в каких беспорядках. Даже с цыганами, – и заключила: – Наискучнейшая личность, ваше благородие. Все сороки удивились, когда он отправился путешествовать в преддверии своего трехсотлетия. Во время путешествия нигде, вы уж извиняйте, не засветился. Могу я при таких скромных сведениях рассчитывать на мышиное вознаграждение?
Федор Алексеевич вынул изо рта край пера, который разгрыз от досады, и сказал:
– Вы свою работу выполнили, милостивая государыня. Кто ж виноват, что наш граф ни рыба, ни мясо, то бишь я хотел сказать, ни зверь, ни птица – недонетопыренный он… Но для начала мы должны составить протокол…
Он махнул рукой, и Олечка Марципанова пересела за соседний столик к пишущей машинке. Тут следует отметить, что и в русалочьем обличье бывшая курсистка Марципанова оставалась существом незаметным, но в работе делалась очень громким, потому как ей вменялось в обязанность отпечатывать все дела – и не дела тоже – на печатной машинке, за которой она проводила все ночи, а порой и дни. Не мни себя дядя Ваня дворником просвещенным, прозвал бы он нового жильца Фонтанного дома дятлом – просто и сердито, но он называл ее вундеркиндом Фонтанного дома. И вовсе не в силу выдающихся способностей Олечки Марципановой, коих русалка не имела даже при жизни, а в силу своих собственных заурядных способностей в плане запоминания новых слов. Имелась в виду пишущая машинка – ундервуд. И вот сейчас, не больше чем через три минуты, на зеленом сукне стола появился печатный листок.
– Это что еще за вольное литературное творчество?! – почти что вскричал секретарь, увидев словосочетание «лошадиная фамилия». – Это официальная бумага, а не «Летучие заметки» из Петербургской газеты, рыба моя! У нас только вестница летучая!
– Перепечатать? – спокойно спросила Олечка Марципанова и уже было протянула руку, чтобы забрать свое выдающееся литературное творчество, как Федор Алексеевич схватил разгрызанное перо, обмакнул его наконец в чернила и зачирикал половину листа.
– Ни Антоша Чехонте ты, а Олечка Марципанова. Обождите… – выдохнул он, увидев, что когтистая совиная рука потянулась за его пером.
Федор Алексеевич вытащил из ящика огромную перчатку, натянул ее на правую руку и только после этого подал протокол на подпись вместе с пером. Расписавшись, как кура лапой, сова вспорхнула со стула уже в птичьем обличье и принялась биться о клетку с мышами, но не могла ни открыть замок, ни просунуть когти сквозь тонкие прутья. Тогда она снова ударилась оземь и превратилась в подобие человека.
– Хотите, чтобы мы ушли? – спросил Федор Алексеевич, поднимаясь из кресла.
Капор закачался из стороны в сторону, и вдруг госпожа Буфница вновь запела:
– Терпи, не плачь, невеста, не выплакаться впрок,
Терпи, уж коль сменила кокошник на платок.
Тяжёл платок наш бабий, но вида не кажи:
Под ним умело прячем все горести свои.
Терпи со всеми вместе, наш бабий крест неси.
Олечка Марципанова тоже сделала шаг от стола, но голова госпожи Буфницы последовала за ней, как и голос:
– Ох, бедная невеста, хорош ли выбор твой? Чем худо выйти замуж, так лучше прямо в гроб!
– Ступай! – подтолкнул ее в спину Федор Алексеевич и за дверью сказал: – С голодухи у нее котелок не варит.
Они проследовали в гостиную, и Олечка без спросу подсела к роялю. Стучать она умела не только по клавишам Ундервуда. Краснеть ей в приличном обществе оставалось лишь за неумение танцевать. Играла Олечка, конечно, не как выпускницы Смольного института, но ее любительское музицирование никого в Фонтанном доме не смущало, а порой даже забавляло. Хотя аккомпанировать собственному пению ей категорически воспрещалось.
Вот и сейчас Олечка, от греха подальше и для услаждения слуха своего благодетеля, как все порядочные барышни, заиграла «Лунную сонату», но только ее начало. Ко второй части, разученной Олечкой самостоятельно еще в квартире доктора, она переходить боялась, чтобы не вышло у нее ненароком увеселительного скерцандо, как у всех нечутких исполнителей сего творения Бетховена. Однако она чуяла плохое настроение Федора Алексеевича, который обмахивался совиным протоколом, точно веером.
– Триста лет, а дурак дураком… – выдал упырь явно не о себе.
Олечка не перестала играть, потому что решила промолчать. Однако не преминула подумать, что другой и в полных триста шестьдесят три года особого ума не нажил. Отсутствие ума у Фёдора Алексеевича подтверждалось тем прискорбным фактом, что он ну ни в какую не соглашался сделать мамзель Марципанову честной нечистью. Другими словами, пользовать пользовал, а колечко дарить не спешил, говоря в шутку: придумай, рыба моя, сперва-наперво, какой царицы племянницей приходишься, а там уж я подумаю, стоит ли мне жениться во второй раз… Олечка сразу менялась в лице – оно становилось ещё белее и ещё прозрачным. Тетка ее служила кухаркой, и если и была в каком-то роде царицей, то только расстегаев. Расстегаи выходили у Клавдии Савишны отменными и Олечка Марципанова сейчас не понимала, как раньше могла не любить пирогов с семгой. Ей захотелось их прямо сейчас, она так размечталась, что заиграла запрещенное скерцо.
– Вели своей рыбе уплыть отсюда! – услышала она, хоть и не сразу, голос разъяренной хозяйки Фонтанного дома. – Меня без рыбьей вони мутит…
Княгиня Мария стояла, вцепившись в дверной косяк и, по всей видимости, не могла от него отойти, как от позорного столба. Лица ее за черными траурными перьями не было видно, но Олечка Марципанова и без того знала его выражение. Она поднялась из-за рояля и уплыла в соседнюю комнату – выйти через черный ход у нее не получится, Ее Светлость, сейчас ужасная Темность, не пропустит. Олечка с опаской заглянула в приемную: там никого уже не было – ни госпожи Буфницы, ни мышей. Только клетка валялась на полу раскрытой. Олечка не стала ее поднимать.
Она вышла через дверь на набережную, подошла к ограде и, вытащив из-под шнурков доски, принялась неистово колотить ими, подняв ночью невообразимый шум, нисколько не заботясь ни о спокойствии законопослушных граждан, ни о пьяной голове княгини Марии. Особенно о ней – классовая ненависть в Фонтанном доме была на лицо, на два лица: Олечкино и Марии.
– Вы что ж это, барышня, такое творите?
Олечка вздрогнула, замерла, повернула голову в сторону городового и, по живой памяти, испугавшись, сиганула через решетку прямо в воду. Вот тут поднялся настоящий крик – уже городового. И впервые ему на помощь, а не чтобы поколотить, пришла толпа «чижиков”-правоведов. Студенты поскидывали свои зеленые мундиры и сиганули в воду, но понятное дело – никакой девушки не вытащили. Хорошо, сами не утопли. Теперь мокрые они с благословения блюстителя порядка и в соответствии со всеми изученными ими законами Российской Империи распивали за упокой утопленницы на Фонтанке водку и даже не из рюмок, а прямо из горла, горланя при этом во все горло арию царя Додона:
– Буду век тебя любить,
Постараюсь не забыть.
А как стану забывать,
Ты напомнишь мне опять.
– Я их убью! – кричала в это время княгиня Мария, пытаясь вырваться из железной хватки секретаря своего мужа.
– Куда тебе еще водки, зараза! – шептал он, пытаясь оттащить Марию от косяка и каким-нибудь образов водрузить мертвецки пьяное тело на второй этаж.
Месть Олечки Марципановой за оскорбление ее рыбьей натуры удалась нынче на славу!
В спальне княгини высилась кровать под балдахином, а под ней держали гроб для таких вот особых случаев. Хрустальный, чтобы иметь возможность контролировать похмельное состояние княгини. Федор Алексеевич сбросил в него Марию и хотел уже опустить крышку с приказом «Проспись!», как княгиня вдруг взглянула на него абсолютно трезвым взглядом:
– Ты знаешь, что в прошлом году английскому летчику Марселю Дезуттеру брат-инженер сделал протез из алюминия?
– И что? – спросил Федор Алексеевич, продолжая держать крышку открытой.
– А то… – глаза княгини вновь заволокло пьяным туманом. – Мне сегодня один инженер с глазами кролика рассказал… Алюминий самый легкий металл, верно? Если сделать Игорушке такие протезы, он сможет ходить и даже в шахматы играть, а то сейчас только фигуры на суконочке головушкой толкать по натертому полу может…
– Проспись, а?
– Я дело говорю…
Но Федору Алексеевичу хватило на сегодня дел. Он захлопнул крышку и вытер лоб – на нем проступил не пот, но дрожали капли росы, упавшие с траурных перьев. Но уйти у него не получилось: княгиня постучала в хрусталь гроба.
– Что еще? – спросил он, чуть приоткрыв крышку.
– Материнское сердце не на месте. Загляни к Светлане…
– Загляну. Спи покойно.
И закрыл наконец с большой радостью хрустальный вытрезвительный гроб.
Глава 20 «Мирославушка и лады простоволосые»
В предбаннике с трудом дышалось от густого запаха полыни, которая в пучках висела под низким потолком. Князь Мирослав тоскливо взглянул на тот, что болтался прямо у него над головой, и еще сильнее раскачал его. Сам он сидел прямо на полу между двух русалок, которые подтянули свои подолы так, что светились белые коленки. Князь с ехидной улыбкой шлепнул по коленке ту русалку, что прижималась к его плечу. Мертвая девушка тут же запустила руку ему под рубаху, чтобы достать гребень, который сама туда и уронила, и принялась чесать свой длинный светлый волос:
– Что плетёшь, ответь, девица? – обратилась к ней нараспев вторая русалка, прикладывая голову на левое плечо князя. – Все мы сестры, что стыдиться?
– Не плету, а расплетаю, женихов я приглашаю, – гребень так и мелькал в волосах певуньи. – Со всех изб, со всех дорожек пусть сбегутся на порожек. Живо лапти надевают, не то девку прозевают.
– Что найдут в твоей светёлке? – не унималась вторая, а первая только крепче жалась к князю и чесала теперь уже его волос, приговаривая:
– В шерстяных портах мышонка, в старых лаптях муравья… Поспешайте, господа!
– Не идут… – покачала головой самая маленькая русалка, худенькая, угловатая, совсем еще девочка. Она уместилась в щелке от двери и то и дело привставала на носочки, чтобы стать чуть выше ростом.
– Если будет медлить кто, удар хватит в раз его! – пела тем временем та, что укладывала рядами княжеские кудри. – Нету силы никакой, чтоб вернуть парней домой. Прямиком к моей светёлке пусть несутся вперегонки!
Князь тряхнул головой, и вся русалочья работа пропала даром. Русалка надулась и отвернулась от князя. Тогда вторая прижалась к нему и с мольбой заглянула в глаза:
– Сыграй для нас, княже…
Мирослав запрокинул голову и почесал затылок о край скамьи. Перед глазами вновь качалась сухая полынь, навевая зевоту.
– Ах, подруженьки мои милые! – выдохнул он тяжело. – Отчего же вы все красивые? Оттого ли вы все красивые, что до времени хоронимые?
Обиженная русалка вытащила из-под лавки гусли и возложила князю на колени. И лишь тронул Мирослав струны, затянула она звонким голосом тоску свою девичью:
– Нам судьбинушкой уготовано по лесам бродить одинокими и манить людей в темны омуты, чтоб забылись те, кем целованы, кем без спроса мы распоясаны, нам друзья теперь только ясени… Нам срывать рукой бело-тонкую мать-крапивушку больно жгучую и сплетать венки подвенечные… Ничего теперь нам не надобно – был б крапивы лист да гребенушка. И любовь твоя, Мирославушка…
И уткнувшись князю в плечо, певунья разрыдалась.
– Ну, будет тебе, будет, Дуняша… – Мирослав вытащил из дрожащих пальцев гребешок и воткнул русалке за ухо. – Перед гостем не позорься…
– Идут! – взвизгнула караульщица и шмыгнула под лавку, только ее и видели. Свернулась там котенком за корзинкой и не видать.
– Да будет тебе, Аксинья! – поднялась с пола вторая русалка и постучала по лавке «туки-тук». – Выходь! Кто на такую, как ты, позарится…
И расхохоталась, но тут же получила по круглому заду гуслями, подхватила их и спрятала под другую лавку, чтобы князю было не дотянуться, не встав.
– Злые вы, девушки, злые… – бросил Мирослав, поднимаясь с пола не за гуслями, а чтобы одернуть рубаху. – Как живые меж собой грызлись, так и мертвые грызетесь… А что делите, самим невдомек.
На последних его словах отворилась дверь, и с низким поклоном в баню вошла Прасковья, прижала дверь спиной, пропуская графа фон Крока, и затворила за трансильванцем дверь.
– Долго ж ждать нам тебя, милостивый государь, пришлось, – выговорил гостю князь.
– Меня задержала нерадивость ваших слуг, – проговорил граф с достоинством, смотря прямо в глаза князю, даже мельком не взглянув на его бледную свиту. – Но княжна прояснила для меня ситуацию, и я не держу на них зла…
– На дочь мою зла не держишь? – без прежней мягкости, но с дежурной улыбкой продолжил Мирослав.
– На дочь вашу зло не держится…
– То-то же. Для злых намерений девы иного племени имеются в наших краях в большом достатке, – князь повел рукой в сторону, не спуская взгляда с трансильванца, оттого не заметил, как певунья шмыгнула ему за спину, с глаз гостя долой. – На любой вкус. Которую предпочитаешь?
– Для какой цели они здесь? Для увеселительной? – уточнил граф, так и не услышав за девичьим хихиканьем ответ от хозяина.
– А для каких еще… Для других у нас чарки имеются, братец мой… Уж прости скудость стола моего, не ждал в гости вампира…
– Скудость угощения восполняется прекрасной компанией вашей дочери…
– Не часто ли ты дочь мою поминаешь, любезный? – голос князя понизился до басов, и все девушки сбились в уголок. Одна лишь Прасковья осталась стоять, где была – у двери в парилку.
– Исправлюсь, князь… Вели отжать для меня крапивы, и не помяну больше имени Светланы в суе…
– Отожмите ему крапивы, лады мои простоволосые…
Из-под лавки тотчас вынырнула маленькая Аксинья с корзинкой полной крапивы, той самой, что нарвал Раду, и резво принялась жать ее над деревянной кружкой своими маленькими ручками, точно белье выжимала. И силы столько в ее руках оказалось, что потек крапивный сок, точно молоко из козьего вымени. Граф фон Крок молча принял подношение и, выпив залпом, поблагодарил только князя.
– А теперь отошли либо их, либо меня, – вдруг сказал трансильванец, расправив плечи так, что головой тронул пучки полыни, но даже не поморщился.
– Что так? Не люба ни одна? Другим любы, а ты особенный?
– Как мне они любы могут быть? – спросил граф таким тоном, будто князь усомнился в прописных истинах. – Они же уже мертвы.
– Да и ты, братец мой, не шибко-то жив, как я погляжу…
– А вот я гляжу и в толк не возьму, кем будете вы, князь?
Долго они глядели друг другу в глаза, прежде чем князь бросил сухо:
– Сам бы знать того не отказался. Так, выходит, отказываешься от лад моих? Не пожалеешь ли потом?
– Жалеть, князь, нужно лишь о том, что не сделал при жизни. После смерти жалеть не о чем… Позволь мне без баньки твоей уйти. Моя кровь успокоилась, не разгоняй ее напрасно…
– Да шут с тобой, граф! Хоть под солнце иди, мне едино… Эй, Аксиньюшка, беги, милая, ручки у тебя крепкие, попридержи пока за горло петуха…
Поклонилась девочка князю в пояс и стрелой выскочила на улицу.
– Не смотри, что мала. Она еще в крепостных ходила. Барина своего за поругание сестрицы вот этими голыми руками придушила, а уж потом только утопилась, ну и эта за ней следом… – Мирослав зыркнул на ту русалку, которую ранее гуслями отходил. – Так что…
– Да что вы стращаете все меня, князь? Я смутить ваш покой даже не пытался, а вы мой – за милую душу…
– Ступай уже, умник-разумник! Петух не мужик, вырвется…
Трансильванец едва заметно кивнул и быстро вышел, поэтому не услышал, как сестра Аксиньи выплюнула ему в спину:
– Индюк!
– Стой! – это Мирослав приказал Прасковье, когда та шагнула к двери. – Видишь же, тяготится горемычный нашим обществом. Урок мне будет – всякую шваль иностранную в дом не пускать. Не зря не понравился он Машеньке, неспроста… У нее наметан глаз на шушеру всякую… Умеет от благородной публики отличать.
– Последить за ним, княже?
Русалка Прасковья свысока взглянула на князя Кровавого, и Мирослав покачал головой.
– Для слежки у нас друг твой любезный имеется… И рожи мне тут не корчи, пигалица! Тебе лет-то по пальцам пересчитать, вот и веришь, что у Федьки в зазнобах долго задержишься… Ступай в свой омут и носа не кажи… Не зли меня – пожалеешь…
Прасковья не изменилась в лице, но в пояс все же поклонилась и шагнула за порог аккурат под крик петуха.
– Не гони нас, Мирославушка, – прижалась к нему певунья и, поймав руку, к губам поднесла.
Только князь сразу высвободился и легонько подтолкнул ластящуюся к нему русалку к двери:
– Ступай, ступай, Дуняша… Не для себя звал. Не до ласк мне нынче… Сердце болит…
– А я успокою сердечко твое, – упала она перед ним на колени и принялась неистово целовать руки.
Мирослав снова высвободился, выдрал из русалочьих волос гребень и швырнул в приоткрытую дверь, в которую в тот самый момент заглянула Аксинья – гребень прямо у нее над головой просвистел. Сообразив неладное, девочка пригнулась к полу, и Дуняша перепрыгнула через нее, точно через пень корявый в лесу. Выскользнули следом и остальные русалки.
Оставшись наконец один, Мирослав тяжело опустился на скамью и потер грудь в районе сердца. Затем протянул руку и взял со стола полную кружку кваса, заботливо оставленную кем-то из русалок.
– К матери сходить, что ли? – спросил он сам себя, испив кваса, поднялся на ноги и снова сел. – Да что ж такое… Ноги не идут…
Он откинул голову и закрыл глаза, потом взял и во весь рост растянулся на лавке, даже руку под голову заложил.
– Да какая ж она мне мать… Ведьма! Ведьма, – повторил смачно, растягивая каждый звук, а потом выплюнул: – Финка!
Не первый раз говорил такое. Давно дело было, давно… Сейчас с лавки не вскочить, а тогда легко еще было…
Вскочил, словно уходить собрался. Да разве уйдешь от Туули, пока та сама не отпустит.
– Так и ты не русский будешь, сынок. Про отца забыл? Да что им от рабыни рождён? И как от расправы вас с матерью спасла, укрыв в своей землянке, тоже позабыл?
Помнил, никогда не забывал, да только всё добро, что финкой сделано было, всё в миг единый перечеркнулось, когда отказалась она принять корзинку со спящей живой девочкой. Сел Мирослав обратно на лавку, нож из-за пояса достал и в стол воткнул меж собой и ведьмой.
– Совсем ссохлась, карга старая, – сказал уже и не злобно вовсе. – Мож помирать собралась? Так скажи. Чем могу, пособлю…
– Не торопи меня, родимый. Там меня, как и тебя, не ждут. Но что о здоровье справился, сердце греет.
– Ну вот и славно! Хоронить тебя и мне не с руки. Куда хаживать стану? Одни мы с тобой. Что мне, что тебе приткнуться некуда…
– Уж дом городской тесен стал… – начала Туули ворчливо, но по-доброму.
– Не береди душу, – в голосе Мирослава доброты больше не слышалось.
– Говорила тебе, не женись на Машке своей, не женись… Одна жена свыше дана, вторая ножом в сердце войдет. Так не послушался…
– Что так постыло было, что этак. Какой палец не укуси, все одно – больно… Не гони… Одно младенца спасла, не дала мне варяжский меч узнать, а другого на клык насаживаешь? Нехорошо…
Финка тоже серьёзной стала, на нож глядит – хорошо засел, самой костлявыми руками не вытащить, не прогнать сынка приблудного.
– Ты с матерью был.
– Да, в матери ты уже не годишься, но бабка ты хоть куда…
– Ничего для него делать не стану…
Мирослав вскочил, оперся на стол и навис над ветряной ведьмой.
– Для меня делай! Федьке Светлана не нужна… Он у нас без роду-племени. Мне нужна!
– Третьей женой обзавестись решил? – усмехнулась зло Туули.
– Тьфу ты, ведьма! – сплюнул Мирослав и сел обратно на скамью. – Как дочь выращу. Не получилось из Машеньки жены, так может матерью хорошей станет…
Отвернулся от финки, на дверь смотрит, но не уходит. Сердце прихватило, ноги затряслись.
– Не слышишь, не слышишь… – зашипела змеей ведьма. – День дуют ветры, другой, третий дуют, а не слышит дуб мой… Убери нож свой, сынок. Я и так без без любви живу все время…
– То-то любовь тебе нужна… – прищурился Мирослав.
– От кого нужна, тот не дает, а кто дает, пущай себе оставит. Муж хороший пытает нрав жены, муж плохой исправляет…
Мирослав вскочил и выдернул нож.
– Сам выращу, без тебя… – и шагнул к земляным ступеням.
– Неси корзину. Что ж на холоде дитя держишь, злыдень…
Князь обернулся:
– А у тебя, пусть и натоплено, так мороз все едино до костей пронимает.
– От холода мазь у меня сварена, – ведьма поднялась и, тяжело ступая, поплелась к яме, чернеющей в углу землянки. – Из коры дуба, медом пропитанной, девять дней варила… Мажь себя, коль болеть что начнет.
Мирослав точно очнулся. Вскочил с банной лавки – никого нет, ничего нет, а ведь тот узелок достаточно было к груди приложить и отпускало. Надо идти к матери. Возвращаться таким в город нельзя. Развалина, а не предводитель у нечисти нынче…
Князь выглянул за дверь: там ветер не на шутку деревья гнет.
– Бушует старая. А я, дурак, пустил туда Светлану. Надо идти.
Он толкнул дверь. Та снова дала ему по лбу. Поднатужился и все же вышел во двор. Никого. Времени сколько, не понять… Раскинуть руки, оборотиться вороном, полететь… А никак – сразу в сердце болеть начинает. Придется ковылять по-стариковски.
– Куда собрался, Мирославушка?
– Да чтоб тебя!
Дуняша вылезла к нему из-под яблоньки, где сидела в теньке. Вся мокрая. Видно, из колодца недавно выпрыгнула.
– Сбегай-ка к дедушке Лешему, палку для меня попроси, – сказал тихо Мирослав.
– Зачем палка тебе, Мирославушка? На меня обопрись… Куда угодно доведу… Хоть в город!
– До могилы, если только, – буркнул князь, но не отстранился, когда русалка закинула себе на плечо его руку, точно коромысло.







