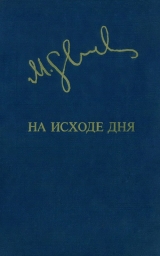
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Внизу вскрикивает «газик», вольная птица кличет другую птицу, зовет ее расправить крылья и лететь, лететь.
– Ног дома обогреть не дадут!
Ворчит она для вида – вихрь, занесший Дангуоле сюда, уже тянет ее прочь.
– Будь спокойна, не скажу отцу, что ты заезжала, – бросаю ей вслед, не в силах сдержать досады.
Впрочем, чего, кроме новой неопределенности, могу я ждать от ее набега? И выкрикнул-то, лишь желал напомнить, что не весь мир летит в тартарары сломя голову, большая его часть топчется на месте. Но Дангуоле, услышав мою реплику, вдруг замерла, как ядовитой стрелой пронзенная, обернулась, глаза, полные боли и вдруг уменьшившиеся, зло кольнули Посягнул на ее праздник? Схватил ножницы, искромсал ее невидимый праздничный наряд? Именно так и случилось когда-то: приближался Новый год, я млел от счастья, предвкушая елку, подарки и добрый дух Деда Мороза – что никакого Деда Мороза на самом деле нет, я уже знал. Время от времени поглядывав на стрелки часов, Дангуоле собиралась на бал работ ников искусств, где будут всякие знаменитости актеры, художники. В зеркале отражались ее голые плечи, по всей комнате были разбросаны предметы туалета, а надо всем этим развевалось нечто розовое, легкое, как дыхание. Отец по обыкновению торчал на дежурстве в своей больнице, сам ли напросился или его очередь была, не знаю. Дангуоле что-то напевала, вертясь перед зеркалом, поправляя тыльной стороной ладони тугой высокий шиньон, оттягивающий маленькую головку. А я подкрадывался к розовому облачку, распяленному на спинках двух стульев. Это было нечто невесомое и пока бесформенное, нечто, которое должно было превратиться в новогоднее чудо, но не для меня и не для отца. Минута-другая, и эта розовая невесомость украдет у меня мать, умчит ее в страну веселой праздной пурги, а я останусь здесь и буду в одиночестве слоняться между разворошенными постелями и разбросанным бельем. И сам не почувствовал, как оказались в руке большие черные ножницы. Черная сталь и розовый нейлон… До сих пор вижу схватку между черным и розовым, слышу лязг ножниц, словно режут они жесть, а Дангуоле не услышала. Странно, а может быть, и не странно – крутилась перед зеркалом, а в мыслях уже там, где толпились нарядные люди и вихрилась розовая пурга.
«Господи! Какое же ты гадкое создание! Гадкое, гадкое! И ведь понять не могла, с чего это он весь вечер такой тихонький, такой добренький… А он… Господи! И в кого только уродился? Какого дерева побег?»
Скуля, как побитый щенок, я был счастлив в этот унылый новогодний вечер – наши слезы смешались… Так и теперь: вот Дангуоле, вот я, а это ножницы, протяни руку и… Но я не протянул. Что было мне делать с ее праздником, от которого у меня когда-то дрожали губы и хотелось завыть в голос?.. Может, и тогда не был я счастлив, просто уговорил себя, что мне хорошо. А Дангуоле уже машет мне рукой из распахнутой дверцы «газика», молодая и незнакомая, сумевшая выдернуть посланную мной стрелу и отшвырнуть ее прочь. И ни следочка от недавней раны, ни капельки крови – ранен я… На улице живительная теплынь, а как же славно там, в лесах, у озер, где обосновались ее киношники. Не заглянуть ли на денек-другой? Нет, когда стремишься к определенной цели, отвлекаться нельзя. Но где она, моя цель? В чем? Кто-то неизвестный сточил ее на грубом наждаке, и я тупо уставился на окружающий мир… Где я? Кто я?
В самом деле, в кого я такой уродился? Какого дерева побег?
Отец не дорожил воспоминаниями, хотя, как я подозреваю, прошлое и для него не заросло еще травой забвенья, но реликвий не хранил, не то что мать – вспомните молоток, якобы принадлежавший некогда ее брату! Не любил Наримантас и разглагольствовать о былом, в частности, о том, что касалось их давних взаимоотношений. Картину их сближения мне пришлось воссоздавать по отрывочным фразам Дангуоле – человек характера непостоянного и такого же хаотичного мышления, она, как это ни странно, не приукрашивала былого ложью.
«Ах, Ригутис, – говаривала иногда, вздыхая, словно бы сожалея, а на самом деле гордясь собою. – Ах, Ригас! Никогда не женись из благодарности!»
Она искренне считала, что вышла за Наримантаса из жалости или благодарности – эти понятия она путала, а факты ее утверждению не противоречили. Однажды в праздник – пожалуй, отец тогда вкалывал лишь первый год – «скорая» доставила в больницу студентку консерватории с острым приступом аппендицита, было его дежурство. Как правило, большинство острых приступов падает на праздничные дни, когда ряды хирургов редеют. Операция прошла успешно, через неделю студентку выписали, однако ее оранжевая шапочка – этот головной убор и особенно броский его цвет имели немалое значение в развитии дальнейшей истории! – продолжала мелькать в коридорах больницы. Букетик фиалок, веточка сирени, калужницы… С полгода преследовали цветы и телефонные звонки молоденького хирурга, а главное – сияющие благодарностью девичьи глаза. Он сгорал от стыда, коллеги посмеивались над ним. Подозреваю даже, что он пытался прятаться от назойливой посетительницы. Застенчивого и неразговорчивого парни, безусловно, угнетало это поклонение, выставляемое на всеобщее обозрение. Обладательница сияющих глаз и огненной шапочки не уставала сообщать всем и каждому: это мой спаситель, мой милый, чудесный спаситель! Представляю себе, как, шепча, словно заклинание, эти слова, тенью ходит за отцом Дангуоле, не сводя с него восторженного взгляда. Актрисы редко одеваются со вкусом – пестрота красок, какие-то детали одежды, перекочевавшие в повседневный туалет из сыгранных или еще не игранных ролей… Не у Жанны ли д’Арк присмотрела себе огненную шапочку моя будущая мать? Тем сильнее должны были смущать и пугать увальня Наримантаса обрывки каких-то неизвестных ему монологов, повторяемые с фанатическим усердием… Пугать – да. Но и пьянить, как пьянит жителя равнин, непривычного к горным вершинам, первая увиденная им высота! Едва ли верил он, что является чудотворцем – не был самолюбив и в молодые годы. Поэтому и позже не ладил с Дангуоле, не только поэтому, разумеется! – но восторженный шепот, надо думать, придавал ему веру в себя, он смелел.
«Понимаешь, жалела я Наримантаса – очень уж он неповоротливый был, слова не вытянешь», – не раз слышал я от матери, хотя, конечно, существовали и другие мотивы, важные и для нее и для него.
В жизни каждого, самого сухого и обыденного человека, если хорошо порыться, можно сыскать жемчужинку романтики. Такой романтический огонек освещал путь моего отца еще до того, как ослепительно засияла ему оранжевая шапочка Дангуоле. Дружил он с одной медичкой, студенткой младшего курса, едва ли была эта дружба пламенной, но, верно, не без мечты о будущем. И вдруг в один прекрасный день эта девица исчезла из общежития, не сказав ему даже «до свидания». Что произошло? Почему отвергла она столь образцового студента с хорошими видами на будущее? Наримантас на эту тему не распространялся, а свидетельства Дангуоле, хотя в правдивости их сомневаться не приходится, говорят лишь о ее собственных расчетах, а не о том, почему разладилось у отца с той таинственной особой. Факт остается фактом: она выскочила замуж за другого, который нравился ей больше или чем-то превосходил Наримантаса. Отец отнесся к случившемуся стоически, волос на себе не рвал, однако для Дангуоле этот случай превратился в неиссякаемый родник переживаний. Вся «бесчувственность» и спокойная сдержанность Наримантаса служили, по ее мнению, лишь повязкой на вечно кровоточащей ране. Для того чтобы развивалось действие искренне разыгрываемой его драмы самопожертвования, Дангуоле необходимы были веские причины.
Из ее отрывочных рассказов, рассуждений и отдельных фраз у меня сложилось впечатление, что она внезапно изменила характер осады Наримантаса, отнюдь не преследуя при этом своекорыстных целей. В этом-то и таится величие парадокса ее характера, болезненно отозвавшегося во мне, ибо я унаследовал немалую часть ее талантов. Если взглянуть на ее поведение со стороны, можно подумать, что ведет она себя подобно людям, давно потерявшим стыд и совесть, однако все ее поступки вызваны честными побуждениями, желанием творить добро. Во мне же все это отразилось зеркально, плевать я хотел на чужие нужды и заботы, вместо добра могу сделать зло, потому что убежден: добряки – дурни или кающиеся подлецы; и только не поддающиеся контролю чувства все время сбивают меня с избранного пути.
Так вот, в случае с отцом Дангуоле вдруг тоже ступила на нетореную дорожку. Человек непрактичный, но обладающий здравым смыслом, она сообразила, что играет не на той струне. Кроме больницы, отец мало чем интересовался, и это она поначалу ошибочно принимала за робость. Нет, не из робости не противоречил Наримантас коллегам, не орал на больных – так он представлял себе этику врача. Без колебаний брался за любую, иногда непосильную операцию, если не видел другого выхода. И никогда не считал себя спасителем жизней. Не мечтал о лаврах знаменитости, просто работал как вол, любил свое дело и думал об одном – как бы еще лучше справляться с ежедневной нагрузкой. Между тем у Дангуоле провидчески мелькнула мысль, что он – меч, пусть неотточенный, ржавчиной покрытый, пусть ни разу еще в битве не звеневший, но меч! Едва выковали, как равнодушная рука воткнула его в землю – ржаветь… Ясно чья рука – той, бросившей его девицы… И с еще большей страстью решила Дангуоле влить в него уверенность, вдохновить, подобно тому как врач-акушер собственным дыханием заставляет работать легкие новорожденного.
Эти замыслы – догадываюсь по собственным поздним наблюдениям – были продиктованы не только женской жалостью или любопытством, но и склонностью Дангуоле к актерству. Здесь явно проявился характер матери, бесконечно влюбленной в сцену, не отличающей театра от жизни, как некогда идальго из Ламанчи не отличал фантазий от действительности. Она играла свою первую роль – роль спасенной и спасительницы одновременно! Иногда тексты противоречили друг другу, она говорила то от лица спасенной, то вещала как спасительница. Отцу же при всех обстоятельствах отводилась вспомогательная роль: чаще всего он должен был служить декорацией, отражающей эхо ее голоса, озаряемой сиянием ее глаз. Смертельным оскорблением было бы для Дангуоле, если бы кто-нибудь посмел усомниться в ее бескорыстии. Меньше всего думала она о себе; не строила никаких матримониальных планов, жила ролью, играла ее с абсолютной искренностью. Любой ценой спасти гибнущий талант, освободить его из западни безвестности, во что бы то ни стало убедить, что не скальпель и хирургические щипцы сжимает его рука, а меч, посвист которого должно услышать человечество!..
Подозреваю, что, не сумев преодолеть провинциальной неуклюжести отца ни восторженным шепотом, ни другими актерскими уловками, Дангуоле решила отдаться ему. Ведь во многих книгах именно этот акт словно топором разрубает самые запутанные узлы! Отец вряд ли руководствовался литературным опытом. Молодой и здоровый парень, конечно, не смог устоять против девичьей привлекательности. Вот и все… Все?
Ни один из них, как мне думается, не получил от брака полного удовлетворения, и это обоюдное разочарование тенью омрачало мое детство. Отцу не удалось сойти с пьедестала, на который он был возведен против воли, чтобы встретиться на грешной земле с девушкой, пусть взбалмошной и беспокойной, и просто любить, как любят друг друга миллионы подобных пар. Одновременно любовь к Дангуоле не побудила его подниматься вверх по ступеням успеха. Он смотрел только на нее, полон был решимости любить ее одну, и больше ничего ему не было нужно. Так и вижу молодого Наримантаса, взволнованного, серьезного, ищущего оправдания своей страсти, а рядом Дангуоле, переполненную фантастическими планами, ничего не смыслящую в его твердости и добропорядочности… Не его голову прижимала она к своей груди, а чело будущей знаменитости, собственноручного своего творения – ведь ей придется перековать его, пусть он даже сопротивляется, как титан! Неловкая его благодарность за тепло и нежность – подумаешь, открыл Америку! – только раздражала ее.
Когда же ему наконец удалось спуститься с пьедестала, он уже не увидел своего отражения в ее расширенных, немного выпуклых глазах.
Разочаровались ли они друг в друге уже в первые дни?
Вероятно, нет. Иначе каким бы образом появился я?
После того как «газик», этот нетерпеливый пожиратель пространства, зафыркав, укатил, задождило. Тихо, бесстрастно просачивалось в землю низкое небо. Квартира потонула в серой мгле, сузилась, сжалась, казалось, я не помещаюсь уже в своей комнате, потолок опустился и давит на плечи. Время как бы прекратило свое постоянное течение, остановилось, загустело, чем-то похожее на застывающий бетон; эта каменеющая масса оставляла навязчивый привкус, будто плохо прополоскал рот после чистки зубов. Почему-то казалось, что по брезентовой крыше «газика» дождь не барабанит – успел удрать от непогоды. За серой вуалью кипел и созидался солнечный мир, а я занимался самокопанием, как дряхлый старец. Зеркало помутнело и давало странное отражение: конечности мои набухают, растягиваются – на такие уродства насмотрелся еще в детстве, листая отцовский анатомический атлас, так иллюстрировалась там слоновая болезнь. Внутренним зрением уже видел себя таким распухшим, что пришлось бы вырубать топором дверной косяк, чтобы выбраться из комнаты. Собрав остатки воли, я выпрямился – фу, слава богу, разбухшие мяса опали, суставы работали без скрипа, я снова был молод и строен, да, строен, однако во рту все еще ощущался вкус мела. Хватит киснуть, надо связать выскользнувшие из рук концы нитей и, зажав их в кулаке, устремиться на прямую дорогу. Сколько этих нитей вилось вокруг – облепили, точно паутина, и не сообразишь, за какую хвататься, какая выведет на верный путь. Заманчивее всего ниточка Дангуоле, однако она чертовски непрочная… Отцовская бесцветна, пропахла йодом и кровью оперируемых… И не поведет она далеко – каких-нибудь три шага вперед, и конец, а мне необходимы солнце, воздух, простор! Викторас, кретин Викторас – вот кто пока еще не до конца разочаровал меня!
Подкараулил его у кинотеатра «Планета». Викторас – любитель детских мультфильмов. Он или не он? Морда топором тесана, не прибегала матушка-природа к стамеске. А где же тайна? Неспокойный, гордый взгляд? Э, нет, соображал я, таким взглядом дурак себя выдал бы, а Викторас туп, но не глуп… Недовольно ворчащего, утащил его в сквер. Под омытыми дождем деревьями парила земля, забредшие всеми четырьмя лапами в лужи, пустовали скамейки, даже спортивного вида молодые мамаши не катали еще колясок. По-за деревьями невысокий, в метр, чугунный заборчик, если что, перемахнуть плевое дело, а там лабиринт проходных дворов…
– Никто не нюхает следов? Ну?
– Чего ну?
– Выкладывай скорее!
– Что, что выкладывать?
– Все!
Глаза Виктораса расширились, но и теперь казались маленькими стеклянными шариками, вдавленными в большую плоскую рожу.
– Ну про этого, про доцента… Как ты…
Глазки стыдливо сощурились, совсем потонули в розовых мясистых веках.
– А ты не видел. Смотри, будешь болтать!.. – Мне снова почудился потный кулак-кувалда, но я не отступил.
– Постой, Викторас. Разве мы не кореши? Интересно мне, что ты чувствовал, когда врезал ему, когда…
– А, – на толстых губах заиграла самодовольная улыбка. – Чувствовал?.. Больше ты, гад, папирус лысый, не будешь Але лапать! Дурить ей голову импортными тряпками! Не будешь…
– А часы?.. Когда золотые часы?..
Шептал ему прямо в ухо, не обращая внимания на противный запах, вечно сопровождающий Виктораса. Оттого что смотрел на него с такого близкого расстояния, исчезла перспектива, нос его странно вытянулся, всегда казался прямым, а тут вдруг загнулся на конце да еще свернулся влево. И единственная складочка на лбу – углубленьице, куда обычно стекал пот, когда он, напрягая мыслительный аппарат, забивал «козла», стуча костяшками домино, – зияла жуткой мрачной ложбиной, необратимой, на века врезанной в лоб печатью. На этом, с малых лет знакомом мне лице, возбуждая ужас и удивление, вдруг появились метки, которых, готов поклясться, десять дней назад не было. Кольнуло: лицо вора не может быть как у всех! Будто под солнечным лучом, загорелись, засверкали лужи, усыпанные липовым цветом.
– Кхе-кхе! А ни черта я тогда не думал! – Викторас отстранился, словно это от меня, а не от него несло прогорклым маслом. – Понравились часики, вот я и взял. Разве лучше, чтобы другие сняли? Думаешь, этой дурочке Але бельишка не покупаю? На покрытие расходов…
– А что испытывал после этого?
– Ты что, чокнутый?
– Куда ты? – Я снова прижался чуть не вплотную, вцепился в него руками, голосом. – Да не бойся! Я же никому ни-ни!.. Слушай, а не почувствовал ли ты, ну, будто от каких-то тисков освобождаешься? Что теперь тебе все дозволено?
– Ты всегда был психом. – Викторас оторвал мои руки и старательно разглядывал отворот полосатого пиджака. – Твой папаша, часом, не в психбольнице вкалывает?
– Нет, старик! Как хочешь, не поверю, что, пока этот бедняга брел по улице, на каждом шагу ощупывая голое запястье, ты и в ус не дул!
– Плевать я на него хотел! Думаешь, его за Але по головке бы погладили в ректорате или там в других организациях? Будет молчать доцента к, как железобетон! Кхе-кхе!
Так кто же он на самом-то деле, этот кретин? Не грабитель, не преступник, а обыкновенный корыстолюбец, рассчитавший каждый свой шаг? Мне бы радоваться, что история с часиками благополучно окончилась, что не надо будет, проснувшись за полночь, прислушиваться к шагам на лестнице, но я чувствовал себя обманутым. Более того, осмеянным! Ночной эпизод успел разрастись во мне буйной порослью. Каждый звук – и как мы пыхтели на темной улочке, и как брякнулось оземь, точно мешок с отрубями, тело доцента – отзывался таинственным эхом, и не где-то там, за дальними холмами, а во мне, во мне! Я завидовал безумной смелости Виктораса и, завидуя, одновременно испытывал тошноту, как будто не его кулаки, а мои потные руки били человека. Насилие всегда вызывает яростный протест в моей душе, но иногда я представляю насильником самого себя… Смешно, ей-богу! Не я ли только что с почтительным ужасом обшаривал глазами таинственную ложбинку на этом лбу, не мне ли чудилось, что отмечено это лицо роком, и вот подрагивает оно передо мной от куриного квохтанья, как блюдо студня.
– А не махнуть ли нам вечерком на эстраду? Девчонки – люкс! Цыганские глазки – румынки, венгерки, югославки… Ну? Приглашаю! И ставлю.
Он и там, в гигантской чаше перед открытой эстрадой, будет кудахтать и дурашливо орать тонким голоском, брызгая слюной и на меня, и на сидящих впереди, как будто не замирало у нас дыхание, когда мы, словно слитые воедино, стояли рядом в темноте того вечера и в руках наших дрожала тоненькая ниточка чужой жизни – кажется, дерни посильнее, да чего там «дерни», ногтем царапни, и оборвется… А кругом тьма и дома с темными провалами окон, только проползают освещенные изнутри редкие троллейбусы, а в душе звучат голоса близких и далеких людей, пытающихся втолковать нечто важное, но так и замолкающие, ибо не можем мы понять суть, отгораживаемся от них, ошеломленные непостижимой простотой происходящего. Правда, внутренний слух – а он всегда бодрствует во мне, хоть на три грошика, но бодрствует – уже тогда внушал: нет тут никакой нити жизни, элементарный грабеж, воровство… А я относился к этому кретину с уважением… И что удержало меня от признания в преступлении, которого фактически я не совершал? Какая малость отделяла меня от того, чтобы проболтаться сначала отцу, а затем и матери?
– На концерт? С тобой?
– Уж не собираешься ли ты свинью мне подложить? – Викторас вытирает ладонью расколотый морщиной лоб, никак не может понять, чего я к нему привязался, чего мне надо; он же приглашает, значит, не только билет купит, но и коньячку граммов двести-триста поставит и все прочее, что вместе с коньяком ударяет в голову. Але предложит? Или какую-нибудь ее подружку, чья кроватка пустует? Добренький… Нет, не тороплюсь я стереть недоумение с его жирного лба, похожего на треснувшее полено. Пусть помучается. Пялюсь на него, как когда-то, в школе, когда был образцовым учеником и решал за него задачи, помогая перетаскивать из класса в класс этот «обязательный инвентарь». Упираюсь глазами и молчу, а когда он начинает взбрыкивать и его кулаки непроизвольно сжимаются и набухают – вот ведь привез кувалды из деревни! – примирительно улыбаюсь.
– Слышь, Викторас… Не доводилось тебе видеть Сатурн?
– Это какой? Кино, что ли? – Загнав пальцы в свои жирные волосы, он, как зубьями бороны, скребет их и облегченно вздыхает, а я продолжаю напряженно улыбаться – словно приближается ко мне дикий зверь, которого я выманил из берлоги глупым своим любопытством.
– Да нет! Не фильм. – Опасливо осматриваюсь по сторонам, будто черт знает какую страшную тайну собираюсь поведать, пока не опалило нас обоих; дыхание чудища. – Планета есть такая… планета Сатурн.
– А… так бы и сказал, а то… – Он светлеет, но моя улыбка становится еще трогательнее, в голосе усиливаются заискивающие нотки.
– А что я такое сказал? Планета, и все. Не видал такую в телескоп? Ну хоть в подзорную трубу, самую маленькую, которая только в шестьдесят раз приближает?
– Не… А что? – Он смело подставляет свой чугунный лоб.
– Дрожит в окуляре, как яичный желток или яблоко. Но не это главное – втиснут желток в светящееся кольцо, во множество золотых колец…
– А пошел ты… умник!
– Я много раз видел Сатурн, и, знаешь, страшно мне…
– Из-за колец?
– Погоди… Представляешь, мог бы всю жизнь прожить, а этой потрясающей штуки и не увидеть. Кольца! Кольцо в кольце, кольцо в кольце… Какая же это жуть, что рождаемся мы и помираем слепыми!.. А страшнее того… Представь, сколько всяких таинственных вещей кружит в космосе, их даже в самые сильные телескопы не увидишь… Что они такое? Зачем? Почему висят они над нашими головами? – Я поднимаю руку над его башкой, и кретин вздрагивает всем телом. – А ну как однажды возьмут и взорвутся?..
– Заткнись, гад, а то по морде схлопочешь!.. – Он отталкивает меня локтем, ему страшно; разумеется, не столько Сатурн, окруженный своими призрачными кольцами, которые, может, вращаются вокруг него, а может, и нет, нагнал на него страх, сколько мой пристальный взгляд, врезающийся в его лоб, словно у этого лба есть что-то общее с таинственной космической чертовщиной… А Сатурн извлек для меня из бесконечности вселенной дедушка; это было одно из самых потрясающих и ужасных открытий детства, покачнувшее веру в целесообразность окружающего мира. Какой смысл в тысяче и одном назидании, во всех запретах взрослых, если в кромешной бездне неба дрожит золотое яблоко, которому плевать, есть мы или нет, какой прок с того, будешь ли ты лучше, послушнее, будешь ли шантрапой или образцовым ребенком? Поля, леса, весенние и летние радости – все вдруг сжалось, уменьшилось до пылинки, которой никогда не сравняться со страшным золотым яблоком, а оно, в свою очередь, и само только пылинка, если поставить его рядом с квазарами или «черными дырами» – о последних я узнал уже без помощи деда.
Тут пришел черед Виктораса поизмываться надо мною – не пожелал он стать героем моего нерожденного шедевра, десять дней и ночей ткал я его портрет из крепко спутанных нитей страха, омерзения и невольного преклонения, а до этого целых три года терпел рядом, за одной партой, его жирные потные телеса, пытаясь вылепить из них если не Эйнштейна, то, по крайней мере, хотя бы мученика политехникума. Честно сказать, не ради него самого страдал, сочиняя письменные работы и разгрызая для Виктораса задачи, – жалел его матушку: никак не приживалась она, оторванная от родимых полей, на асфальте, между каменными громадами домов и машинами; даже мне, чужаку горожанину, пропахшему ненавистным ей запахом бензиновой гари, перепадал порой толстый деревенский блин, а то и жалостливая ласка – прикосновение теплой ладони, точно я сирота… А может, я и казался сиротой? Недавно, бродя по кладбищу, наткнулся случайно на ее могилку, уже зарос холмик будыльями, забросан мусором с соседних могил – Викторас со своим вечно пьяным отцом, отливая цементные шедевры, нередко сгребают сюда ошметки бетона… До чего же омерзительны все их кресты, открытые книги, шары и шишаки, – а ведь дефицит не меньший, чем импортная обувь. Так станешь ли удивляться тому, что, несмотря на мои героические усилия, Викторас не вытянул на аттестат и не поступил в политехникум? А может, и не из сочувствия к его матушке натужно толкал я Виктораса, точно воз в гору? Может, требовался мне достаточно обширный и одновременно тупой лоб, на котором удобно записывать всякие не находящие ответов вопросы?
– Слышь, Ригас, наклевывается одна халтурка! – Викторас покровительственно проводит лапой по моему лицу. Зажмуриваюсь. Потом в глазах снова возникает сквер, катится по лужам высокая коляска с живой куколкой, следом за ней прыгает взрослая кукла, нарядная, накрашенная; обок аллейки копошатся, предвещая ведро, воробьи и вороны. – Какие-то пижоны задумали взгромоздить на дедушкин холмик ангела. И чтобы вроде не ангел был. Кхе-кхе! Боятся, как бы не приляпали им: дескать, религиозный дурман разводят… Не вылепишь?
– Яне господь бог. Ангелов не творю.
– Получишь куш и станешь! Кхе-кхе!
– Плевать я хотел на твои вонючие деньги! – Кладу ногу на ногу и снова впиваюсь в него взглядом, которым пришпиливал его в школе к спинке скамьи. – Разве не знаешь? Наследство мне оставили!
– Не трепись! – сопротивляется Викторас, опасаясь, как бы я снова не набросил ему на загривок лассо. Не стану я вором, даже посидеть рядом с настоящим грабителем не довелось – пусть он за это пожует жвачку, скотина! Мозги мои работают как часы, сейчас из них выскочит кукушка, а то и ангел с трубой или сам дьявол.
– Дядя у меня в Америке. Неужто не говорил тебе? В штате Миссисипи.
Америку Викторас пропускает мимо, но «Миссисипи» застревает у него в ухе, словно хитро заброшенный крючок.
– Дядя Раполас. Фермер. Не автомобильный магнат, не владелец нефтяных приисков, фермер. Усек?
– Погодь, Ригас, это где Миссисипи? Хлопок там растят и эту, как ее, сою?
Ишь ты, запало что-то из физической географии!
– Точно, – веду его, как слепого, через забитый автомобилями перекресток, даже к локтю не прикасаюсь – сам идет! – Родина хлопка. Куда ни плюнь, хлопчатник. И соя – точно, соя. Американец, он хитрый человек, хорошие продукты сам жрет, а сою – голодающим.
– А этот твой… он что, сою или хлопок сажает? – Как бы не выскользнул из рук – вертится, словно уж.
– Сотню могу поставить, не отгадаешь? Не расходуй зря мозговых клеток…
– Брось голову морочить! Говори прямо! – Викторас повернулся ко мне, затрещали и скамья, и мои бедные ребра. – Ох, смотри, прижму я тебя как-нибудь, интеллигент паршивый!
– Ты только в обморок не упади, когда услышишь. Дядя Раполас разводит… крокодилов! Ясно? Крокодиловая ферма у него. Знаешь, какая у этих зверей кожа! Туфельки да сумочки – высший класс для миссис Джекки Онассис или для обворожительной Софи Лорен. Ну еще всякие там портфели, несессеры, чемоданы для дипломатов, миллионеров и чемпионов по боксу.
– Брешешь, черт!
– Брешешь? Да они, крокодилы, как цыплята, из яиц выклевываются. Пресмыкающиеся их даже не высиживают – прямо в песок кладут, и конец, а дядюшка мой, хитрец, яички их, засуча рукава, выкапывает и разводит эту заразу прямо в загоне, как свиней…
– Сам ты свинья! Подсвинок дохлый! – Большой темный предмет вдруг застит перед моими глазами дневной свет и окрашивает его в красное – из рассеченной губы сочится кровь… А, кольцо… Смотри ты, кольцо с рубиновым камешком! Ну, Ригас, многое ты проморгал в жизни, не стоит она на месте, построенный тобой робот восстал против своего творца… Во рту солоноватая кровь, но мне не противно, ибо это моя кровь… Хорошо, что течет, значит, живу, аж мороз по коже при мысли: если бы не эта красная, как кармин, жидкость, не двигаться бы мне, не дышать, не думать… И не вертелись бы в башке дурацкие мысли о всяких Сатурнах или еще более глупые: как бы смутить эту простую, не знающую сомнений душу? Что ему? А я и вправду трепещу, подняв глаза к звездным безднам, хотя им ни тепло, ни холодно, разгадаешь ты их тайны или нет, на них ты глядишь или чьей-то тупой мордой любуешься… Кровь, моя кровь… Вероятно, сознание потерял бы, увидев, как впитывает ее жидкая грязь под ногами…
Самое смешное, что не врал я, был у меня в Америке дядя. Не о нем ли свидетельствует мемориальный молоток Римшайте-Наримантене, с помощью которого она успешно решает проблему шкафов и вешалок?
Дангуоле отважно заколачивает им гвозди в изъеденные короедом бревна избушек, а ее братец сдирает шкуры с бедолаг крокодилов. И разве не пригодятся его племяннику несколько тысчонок долларов, ежели в один прекрасный момент мерзкое пресмыкающееся по ошибке схватит не крюк, а дядюшку?
…Если Дангуоле Римшайте-Наримантене, дожив до сорока, бросается среди ночи спасать литовское кино, то почему бы ее братцу не пасти крокодилов?
Викторас ушел, поквохтывая и разбрызгивая лужи своими модными коричневыми шкарами на платформе. Я еще успел увидеть, как подмигнул он кукле, толкающей коляску с маленькой куколкой. Солоноватая слюна во рту – вот что напоминает теперь о нашей былой дружбе. И не жалко мне лет, когда просиживали мы в школе одну скамью, жаль десяти дней, принесенных в жертву пеплу этой дружбы. Утоньшилась стопка перекидного календаря, солнце восходит раньше и закатывается позже, даже если и не видишь его. Пугливая трава расползлась из-под заборов по дворам и скверикам, одуванчики пытаются удержаться на протоптанных дорожках… Не ошибись, это не прошлогодние, тех уже нет и не будет, как не будет вчерашнего дня. Тупоголовому Викторасу размышления о времени ни к чему, однако он ухватил за рога быка времени – кольцо с рубиновым глазком, башмаки на платформе! А я? Мечтаю попусту, фантазирую, на отца и на маменьку оглядываюсь… Кретин, таблицу умножения не раскусивший, многого достиг… А я? Ведь наметил же себе путь… наметил!








