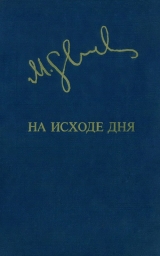
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
3
Со дня бегства Дангуоле – а что это, если не бегство? – с того отцовского торчания дома в рабочее время – надо же, педантичнейший Наримантас и вдруг прогуливает, ха! – отстучало семь суток. И на десятые перевалило после приключеньица, когда горящим угольком сверкнули золотые часы… И уже двадцатые пошли с того счастливого мгновения, когда довелось в последний раз лицезреть метра. Кто его не знает, тому не понять, какая это радость. Не хватает мелочи, чтобы стать абсолютно счастливым – совершенно и навсегда выкинуть его из головы; к сожалению, это не так легко. Подобные лица, точнее – хари, кишмя кишат в кошмарах Гойи. Иезуит и вздорная баба, отталкивающие друг друга от замочной скважины, – вот схематичный портрет маэстро. Прославился он в свое время, создав шедевр «Колхозные свиньи»: намалевал на холсте свинячью семью и, не краснея, снабдил подписью – «Колхозные». Поскольку было их не одна и не две, а целых пять, если считать за свинью и поросенка со вздернутым хвостиком, то конкурсная комиссия выставки поверила, что они «колхозные»…
После этого он целую свиноферму в искусстве развел – недурственно, видать, платили когда-то за розовые окорока на полотнах! – однако любовь к отряду парнокопытных не помешала ему выдавать себя ныне за поборника чистого искусства. В самом пустячном сюжетике, в формальных исканиях, в любом мазке вынюхивает он проявления индивидуальности и некую философию, а ежели не находит таковых, то жалеет тебя, словно ты неизлечимо болен. Будь у меня способности настоящие, не те, в существовании которых я убедил себя, почему отец и помог определиться в художественный, вырезав предварительно опухоль у его декана, написал бы я в честь маэстро породистую свинью. Такую бы рекордистку-свиноматку отгрохал маслом! Двухсоткилограммовую копию действительности. А тут вместо шедевра послал ему по случаю дня рождения лишь бледно исполненный графический силуэт хрюшки – обыкновенной, рядовой хавроньи белой литовской породы. Хавроньи с мольбертом под мышкой… И с факсимиле Наримантаса-младшего.
Ну и неудивительно, что успешно отсчитываю дни после такого афронта. Нет, меня не выгнали – сам гордо покинул институтские стены; разве можно было долго терпеть отечески укоризненный взгляд До глубины души оскорбленного метра? Этот взгляд пронизью ал меня, лез под череп, ввинчивался в легкие, пригвождал к кресту. Что оставалось делать? И я решил взять бессрочный отпуск. Родители, как я и думал, приняли крах художественной карьеры своего отпрыска сдержанно. Занятые собой – не застарелыми междоусобицами, а какими-то своими неотложными делами, – они не стали с утра до ночи пилить меня, какой я, дескать, неблагодарный, подлый и т. п. Дангуоле всегда была склонна возмущаться «попранием справедливости», а на сей раз розга несправедливости вытянула ее единственное дитятко, поэтому она на все корки разделывала самоуправство бюрократов. Отец, не одобрявший с самого начала мой выбор, надо думать, в глубине души радовался, что впредь сможет без краски стыда здороваться с деканом, тем более что жизнь он ему не спасал – опухоль-то была доброкачественной. А кроме того, не распалил ли я своим шагом старинную отцовскую мечту – загнать непослушного отпрыска в медицинские оглобли? Прямо он, конечно, не высказывается, но время от времени как бы между прочим спрашивает, что собираюсь делать. Что? Легко ли ответить? И что есть действие? Ушедший с головой в свою работу, ничего другого на свете не замечая, отец даже и не подозревает, что солнечные восходы, пируэты дождя на асфальте и тысячи других вещей, включая, кстати, и дела человеческие, созданы, может быть, не только для забвения и исчезновения, а и для того, чтобы в какой-то новой комбинации возродиться в чьей-нибудь хитроумной башке. И думаю я про это, не только защищаясь от отцовских вопросов. Иногда меня действительно не на шутку занимают просверки бытия, достойные чего-то большего, чем забвение, не оставляет равнодушным и прекрасное, всякие мелочи, то подчеркивающие, то как бы смазывающие его детали, и особенно занимает слово – меткое, острое, точное. И куда больше, чем снимание пенок с жизни, манит сама жизнь – нырнуть бы аквалангистом в ее пучину и там, пусть в жуткой тьме, ощупывая всякие скользкие водоросли и гниющие обломки, обнаружить бы… что? Жемчужину? К черту! Вот образ, подходящий какому-нибудь пускающему слюни писаке или дряхлому обитателю Парнаса, едва передвигающему венозные конечности. Нет! В моих жилах клокочет насыщенная гемоглобином кровь, легкие полны кислородом. Со стороны может показаться, что брожу по мелководью да пытаюсь ловить мальков, однако… Где-то рядом таится захватывающий дыхание бездонный омут, обросший по берегам непролазной ольхой, и там, в нем, зреет будущее мое открытие, и только сентиментальность да отсутствие самообладания заставляют меня шарить по неглубоким местам. Соберу в кулак все силы, волю, и тогда, тогда…
Бесшумно, по-кошачьи мягко подкатывает к нашему подъезду сверкающая лаком черная «Волга», за рулем не какой-нибудь частник, сшибающий рублевки, а вполне респектабельный, знающий себе цену дяденька. Разеваю от удивления рот, когда вижу, как из «Волги» выбирается отец. Бывает, возят и моего родителя на машинах, но, во-первых, ночью, а во-вторых, не на столь шикарных – с красными крестами. Вслед за Наримантасом вылезает высокий, широкий в плечах, представительный мужик; костюм на нем как влитой сидит, серебром отливает гордо вскинутая голова. Рядом с ним не только отец с его вечно подтягиваемыми штанами, но и солидный шофер кажутся бледными тенями.
Уже!.. Молнией обжигает мысль о прокуроре. Возмездие за любопытство? За дружбу с этим подонком Викторасом? Ему, кретину, что муху прихлопнуть, что подобному себе созданию череп проломить. Не видел, не знаю, рук не марал!.. Клянусь вам, ненавижу насилие, хотите, могу присягу дать. Как там? Отче наш, иже еси… Простите меня, граждане судьи и прокуроры! Я, такой-то и такой-то, находясь в здравом уме и трезвой памяти, свидетельствую… Постой! Катится по небу сияющий солнечный шар, сверкает машина, словно золотая карета, а не явился ли в ней королевский вестник, сменивший меч на пальмовую ветвь?
Никто не грохочет по лестнице, и лязга наручников не слыхать. Как же это хорошо, что я пока никому не нужен!.. Несколько мгновений наслаждаюсь благословенной тишиной – вой троллейбусов за окном только подчеркивает ее, как мелодия скрипки в замолкшем зале, оттеняет, как цепочка следов в зимнем лесу – белизну свежего снега. Но вскоре тишина эта начинает давить могильным камнем. Тебя уже нет… Ты пылинка, застрявшая в промелькнувшей и исчезнувшей складке времени. Но ведь я есмь, граждане судьи, я существую, не мой ли нос трется о стекло балконной двери?! И моя рука открывает защелку! И ежели я на самом деле есть и это в конце концов установлено, подкиньте и мне кусочек. Жажду видеть, слышать, принимать участие.
Автомобиль внизу – сейф, набитый тайнами; зачем приволокли его к нашему подъезду? Отец и его солидный спутник о чем-то беседуют, правда, Наримантас в основном молчит, говорит мужчина, доставивший его домой. Он все время в движении, покачивается из стороны в сторону, словно продолжает шагать, ехать, работать, делать дело, а родитель мой лишь поддакивает, кивает и по привычке дергает ногой, точно слушает надоедливого больного – лучше не возражать, а то конца не будет… Нет, показное смирение не обманет меня, твоего сына, вытряхнутого в бытие пинком времени в определенном году (месяц, день и час не имеют значения!), в таком-то городе, на некой улице; я твердо уверен, с большей охотой отец беседовал бы с больным попроще, с человеком, привыкшим ходить на своих двоих, и, словно раскусив отца, собеседник отходит от автомобиля. Больной? Этот шикарный мужик – больной?
Перевешиваюсь через балконные перила, рискуя загреметь вниз головой. У мужчины густая шевелюра, не то что у отца – жиденькие волосики, темя просвечивает, хоть лысины еще нет. Не поймешь этого чудака Наримантаса, по всему видать, не испытывает он особой охоты облекать высокого просителя в больничную пижаму. Кивает очень уж старательно, словно извиняется за привычку обращать человека в пациента. А может – лица-то я не вижу, – растроганно благодарит за оказываемую честь? Горд тем, что может погреться в лучах чужой славы? Или, не имея материальных интересов, доволен уже эстетическим впечатлением от этой сцены? Допустим, встретил высоко взлетевшего однокашника – знаменитого журналиста, ученого, какого-нибудь деятеля – и треплется с ним на равных. И не шевелится ли в нем раскаяние за то, что упустил золотую рыбку: ни диссертации, ни поста зав отделением, ни титула доцента?.. Ведь не тупее других, не прошляпивших эту рыбку. Почему позволил обскакать себя, затереть, оттолкнуть? Права Дангуоле, что махнула на него рукой… Пусть она на другое рассчитывала, но разочарованы мы в отце одинаково. Раскатывал бы в персональном авто, гордо вскинув голову, как этот подвезший его импозантный дядя, разве пришлось бы мне мотаться, как волку в клетке, чтобы мускулы не одрябли, инстинкты не притупились?
Треплются, и нет им ни до кого дела, но все больше и больше интересуют они меня. Ведь происходит это не на каком-нибудь киноэкране, а здесь, рядышком с помойным ведром Жаленисов, от которого несет тухлыми рыбьими головами, – выставили ни свет ни заря, когда-то еще мусоровоз приедет… Даже спина у меня возмущенно подрагивает. И чего это отец ерепенится? Ему бы хватать обеими руками, а он хорохорится, не желает идти на сближение, запачкаться боится, что ли? Вот раззява! Настоящий лопух!
Погибая от любопытства, скатываюсь вниз по лестнице, медленно, с независимым видом подхожу к ним. Чувствую запах новой кожи – это от его импортных туфель на платформе! – теперь слышу, о чем они толкуют.
– Так вы не очень настаиваете, доктор, чтобы я поторопился?
– Гм, гм… Как бы вам сказать?..
– Спасибо, что не берете за горло. Нужен мне месячишко-другой…
– Два месяца? Гм, гм…
– Я очень благодарен вам, милый доктор. Мне необходимо было все до конца выяснить. Спасибо, что вы нашли возможность снова побеседовать со мной.
– Видите ли… Я не сказал, что у вас много времени… Это ваше личное дело, товарищ Казюкенас… Но…
– Что вы! Я понимаю… Целиком и полностью доверяюсь вам, вашим рекомендациям… Но как сразу все бросить? Скажите, как?
Этот представительный мужик, хозяин великолепной «Волги» – больной? И что же именно – предполагаемая болезнь или высокая общественная ступень, которой наверняка достиг этот человек, – что заставляет доктора Наримантаса быть столь нерешительным? Неужели не пригласит его зайти? На сей раз рядом с нами, рукой подать, происходит нечто значительное, ведь самое большое, что случается на нашей улице, – дважды в день сигналит мусоровоз, чтобы хозяйки тащили помойные ведра, а тут действительно что-то важное, и отец не торопится ухватить быка за рога! Не может выдавить словечка полюбезней. Гмыкает да скрипит, цедит сквозь зубы. До чего негибкий человек! А гость-то улыбается, рассыпается в любезностях, хоть видно, что все это недешево ему стоит – губы дрожат. И зачем? Только затем, чтобы лицо доктора не превратилось в каменную маску? И ведь ясно, красивые, властные губы умеют улыбаться зло, язвительно, и посадка головы, и оттенки голоса свидетельствуют – этот человек пообтерся, этакий тип современного интеллигента первого поколения, не в его обычае кому-либо, кроме себя, доверять, подбородок тяжелый, крестьянский. Лицо как бы разделено на две части по горизонтали – лоб высокий, умный, а низ грубоватый… Но не только по горизонтали, делится это лицо и по вертикали, невидимая черта пересекает его и вдоль, и этого деления он как бы стесняется, о поперечном, может, и позабыл или совсем не знает, а вот о вертикальном помнит. Ах вот в чем дело, один глаз у него немного странный, неживой, что ли? Косится на меня только другим…
– Не спрашивайте меня, я только врач.
– Поймите, доктор, не о себе беспокоюсь. И не страха ради отсрочки прошу, хотя, признаться, как обухом по голове… Каждый бы на моем месте не очень-то радовался. – Наримантас молчит, собеседник его говорит за двоих, а я внимательно изучаю физиономию гостя – померещившиеся мне линии раздела исчезли, лицо сосредоточенно, на нем читается теперь лишь одно: во что бы то ни стало убедить в своей правоте этого сухаря доктора. – Ну да что об этом толковать… Я же отвечаю за планы, за реконструкцию. А тут, как нарочно, начали автоматику внедрять на предприятиях… Напортачат без меня, такого нагородят!..
– Я не встречал еще человека, которого болезнь не выбивала бы из колеи.
– Сделайте для меня маленькое исключение, доктор, – просительно всплеснулся голос Казюкенаса, согретый печальным юмором. – Очень вас прошу!
– Допустим, вы убедили меня. – Отец уже не подрагивает по привычке ногой – врос в асфальт, стоит, немного наклонясь набок. – Но кто убедит болезнь?
– Не знаю! Мне нужно только два месяца. Ну, поднажав, и за месяц справился бы… Хотя бы две недели, а?..
И гордо вскинутая голова, и плавные движения холеных рук – все гармонично, в высшей степени благородно, и в то же время чувствуется, что внутри у него что-то кипит, плещет, ища выхода. И отцу, и мне понятно, отсрочка нужна ему не только для внедрения новой техники, вдруг да за это время откроется тайна – что у него, действительно серьезное или пустяк? – но он не выдает себя.
– Две недельки, доктор. Что для вас значат две недели?
– Вам, вероятно, известно, работа врача не нормирована. Поэтому разрешите…
– Что вы, что вы! Даже в мыслях не имел намерения посягать на драгоценное время медицинских работников! – Казюкенас, как бы умоляя о прощении, прижимает ладони к груди, сухие пальцы с продолговатыми ногтями словно подчеркивают его смирение, и улыбка так дружественна и доверительна. – Честное пионерское, доктор!
Тут вдруг и у отца появляется на лице улыбка, как-то неохотно возникает, будто кто силой губы ему растягивает, но это улыбка, даже зубы обнажаются. Пусть не сразу, пусть не сейчас и не здесь, у нашего порога, но что-то произойдет, если этот щеголь шутит, а отец улыбается. И мне до дрожи обидно – исчезнет сейчас Казюкенас, словно метеор в небе, сверкнул нежданно и впечатляюще, и нет его. Голыми руками метеор не ухватишь, но я решительно делаю шаг вперед – ближе некуда! Ощущаю уже не только, как пахнет новая кожа его туфель, но и запах превосходной шерсти импортного костюма и даже дурной запах изо рта. Нездоров – свидетельствует этот запах, однако цвет лица и все остальные запахи отрицают болезнь. Я несколько отвернул голову, чтобы дух из его рта не бил мне в нос, и продолжал чуть не в упор – ближе невозможно – разглядывать Казюкенаса. Крупное, несколько одутловатое лицо – и впрямь, не от болезни ли? – июньское солнышко успело уже покрыть ровной коричневой краской загара, а может, еще март наложил свои мазки? Нетрудно представить себе франтоватую дубленку с меховой опушкой, вскинутую к плечу охотничью двустволку, нахмуренную бровь над острым прищуренным глазом. Или… Даже не зажмурившись, вижу, как эта холеная рука привычно принимает от золотоволосой стюардессы международного лайнера авиакомпании «SAS» чашечку ароматного кофе по дороге из Москвы в Стокгольм или из Стокгольма в Штутгарт. Подождите, сэр, и я с вами! Лайнеры взлетают и приземляются без меня, лимузины тоже не меня ожидают… Нет, вепрятины я не уважаю, в диком кабане частенько гнездится всякая нечисть, глисты разные, но стеклянный хруст снега, запах паленины, смешанный со сладким дымком смолистых еловых веток, поднимающимся к высокой и звонкой морозной синеве… Так пахнуло на меня дремучим зимним лесом, что я и думать забыл о рекламной открытке «S A S» с золотоволосой стюардессой, губы мои сами собой принялись насвистывать: «Ушел батюшка, ушла матушка, и все детушки в лес ушли».
Только-только начал куплет этой популярнейшей дайны – отец, ошарашенный неожиданной дерзостью, даже не успел меня одернуть – и умолк: заинтересовался машиной. Шофер со скрипом повернул свою бычью шею и не сводил с меня тяжелого настороженного взгляда, точно подозревал: уж не зажат ли у меня в кулаке гвоздь, не брошусь ли я сейчас царапать сверкающий бок его лимузина? Чего ты волнуешься, орел, опилками набитый? Ну кис бы ты еще в «мерседесе» с кондиционером и стереоустановкой – другое дело, а то обыкновенная «Волга»… Подумаешь! Вестник судьбы наконец-то ведь соблаговолил обратить на меня внимание, чувствую, как прощупывают меня его глаза, словно стараются определить, из какого теста я слеплен. Неожиданно в них, точнее, в одном из них загорается искорка. С чего бы? Признательность за высокую оценку, прочитанную в моем взгляде, или просто отблеск печали, волнующей его одного?
– Сын? Твой сын, Винцас?
Смотри-ка! Уже не «вы», не «доктор» и не «милый доктор», а «Винцас», да еще и на «ты», а отец, странное дело, не возражает.
– Смотри, какой дубок вымахал! Сын? Сколько ж ему? – спрашивает отца, а сам с меня глаз не спускает.
– Двадцать, – заторопился отец, чтобы не дать мне рот раскрыть.
– Какого могучего парня вырастил! Прости за откровенность, только на тебя не очень смахивает. Непохож. Баскетболист? Пловец? На каком факультете?
Не очень мне приятно стоять перед ним этаким экспонатом для осмотра, однако я улыбался, слегка улыбался в ответ, и он вроде обещал благосклонность. Неужели не промчался метеор мимо, не растаял в космических далях?
– Дубок! И думать, верно, не смел, что будет у тебя такой, а, Винцас? – Он вглядывался в меня или в кого-то другого, что стоял, прикрытый моими широкими плечами, а может, и не стоял, не существовал, был только воображаемым. – Уж с ним-то, конечно, обо всем говоришь… Молодые, они на язык остры, любят критиковать, но они лучше, чище нас. А, Винцас?
– Извините, товарищ Казюкенас, – отец сунул ему ладонь – испугался, как бы не ослепила сына приблизившаяся комета? – Мне надо передохнуть и снова на работу. До свидания. Пошли, Ригас!.
– До скорого, доктор, до скорого… – Казюкенас как-то смешался, сник, провожая нас, сделал шажок-другой к подъезду… А ведь это его ожидал лимузин с шофером, смахивающим на министра, это ради него, а не ради нас с отцом взлетали и совершали посадки воздушные лайнеры, рассекая во всех направлениях сжавшееся в комочек пространство планеты.
Я было вернулся, но отец решительно повлек меня за собой, чего обычно не делал. Казюкенас задумчиво зашагал по улице, поблескивая на солнце простроченной сединой шевелюрой, а машина, словно привыкшая к капризам хозяина огромная черная собака, медленно двинулась следом.
Поднялись к себе, в квартире запах запустения и одиночества. Затхлость. Не появись вдруг кто-то чужой, и не заметили бы, а тут паутина по углам вылезла, пыль… Дангуоле, пока мы у подъезда топтались, успела бы навести порядок – любит она спешные уборки, нежданных гостей. Видишь, как хорошо отсутствовать? Начинают по тебе скучать, любые твои минусы в плюсы превращаются… И отец вел себя необычно – не поддался, а уж как его этот Казюкенас умасливал, как в душу лез. Нет, он от своих привычек не откажется: хотя уже полдень, сейчас разденется и шмыг в постель, четверть часа будет лежать на спине с лицом счастливого дитяти. Поморгав, сомкнутся веки, и поплывет он в дальний, одному ему известный запив, где кто-то смажет ему поскрипывающие суставы, зарядит подсевший аккумулятор, и врач Наримантас, принесенный обратно белопенными волнами, вновь станет молодым и красивым, то есть отдохнувшим и годным для труда в операционной и палатах. Отключится на пятнадцать минут от всего на свете и будет неутомим до вечера. А ведь всего мгновение назад, чуть не опалив его, пролетела рядом комета…
Как и всегда, тщательно сложил брюки, аккуратно повесил их на спинку стула, зевнул, отдавая дремоте обмякшее тело. Басовито загудела пружина матраца, подбородок нацелился в потолок, напряглись и опали жилы на шее и висках, насупленные брови разгладились, прикрывая все заботы мягкой тенью. Ничто не могло заставить его отказаться от многолетней привычки – ни погода, ни настроение, ни смена сезонов, разве что затянувшаяся операция. Мог уснуть, хоть рядом из пушек стреляли бы. Дангуоле считала, что это еще одно доказательство его бесчувственности.
– Отец, а кто этот франт?
Наримантас уже было уплыл в сон, его уже несла ласковая волна, и вдруг, словно утопленник, застрял в камышах.
– Какой франт?
Брови снова сползлись, приоткрылся правый, налитый усталостью мутный глаз.
– Да этот, что внизу был.
– Казюкенас?
– Вот-вот, товарищ Казюкенас.
– Так. Больной. Дашь ты мне вздремнуть?..
Уже оба глаза краснели, точно в горячке. Наримантас безнадежно цеплялся за свой тающий в тумане залив.
– Больных много, отец…
– Тебя что интересует? Кем работает? Я и сам толком не знаю. Какая-то шишка: начальник управления, генеральный директор… И сколько он зарабатывает, не справлялся…
– О его болезни ты лучше информирован?
– Это тебя не касается.
– Предрассудок, отец!
– Для тебя предрассудок, для меня убеждение.
«Скажи только, он как, средней тяжести больной, тяжелый или очень тяжелый?»
– Не пойму, Ригас, что ты пристал! – Отец присел на кровати, делая вид, что хочет зевнуть. – Кто тебе этот Казюкенас? Дядя, которому в наследники метишь?
В самом деле, кто? Ни он тебя в лайнер какой-нибудь «Сабены» не возьмет, ни жареной кабанятиной у костра угощать не станет… Разве что поможет выкрутиться, если этот кретин Викторас, спасая шкуру, начнет топить… И только?
– А на кой черт он тебе, этот генеральный? Поделись. Не совсем вроде я тебе чужой, хоть и непохож, по словам Казюкенаса…
– Заткнись! – прикрикнул Наримантас. – Человек тяжело болен, а ты…
– Вот и попался! Профессиональная тайна – тю-тю! Врачебная этика и так далее… Нет, без шуток, давно знакомы?
Отец поджал ноги, ноги немолодого, скорее уже старого человека с набухшими венами. Ясно, он охотно бы махнул сейчас в больницу, подальше от меня, от Казюкенаса, даже не пожалел бы своих не вкусивших привычного отдыха ног.
– Мы из одного края… Земляки, как говорится.
– Не понимаю.
– Ну, из одного района. Все еще не сообразил? В одной волости росли, в одной школе учились.
– Так он твой школьный друг?
– Друг? – Наримантас даже поморщился.
– Враг?
– Тебе что, сюжет нужен? Погляди лучше на витрины ГАИ, вот где сюжеты! Это же смешно, сынок, – Наримантас попытался изобразить смешок, – спрашиваешь у врача, не враг ли ему больной!
– Все ясно. Благодарствую за информацию.
На самом деле ни черта мне ясно не было. Вероятно, и ему тоже. Не пристань я, он бы давно уже посапывал и блаженно пил из бездонного колодца времени свои четверть часа передышки.
В голове толпилась уйма вопросов, скажем, таких:
«А не доводилось ли вам служками у одного алтаря ходить?»
«Может, в одну девушку влюблены были?»
«А не изобретали вы, часом, на пару новое горючее для моторов вместо бензина?»
Только воздержался я от этих вопросов, остановили сурово поджатые губы отца. Он поспешно одевался.
– Ригас, милый! Как чудесно, что ты дома! Всю дорогу гадала, застану ли. Так волновалась, так волновалась!
Вместе с Дангуоле врывается в квартиру вихрь восклицаний, запахи свежего сена и дорожной пыли. Ее лицо и одежда покрыты этой пылью, у подъезда подрагивает «газик», мотор не заглушен, на борту у него фантастическая надпись: «Киносъемочная». Мать бросается целовать, я пытаюсь сбить неумеренную радость зевком. Даже не по себе, неужели еще могу так по-ребячьи радоваться? Ведь урчание мотора внизу свидетельствует, что из плена ширей и далей вырвалась наша Римшайте-Наримантене очень ненадолго. Ошпарив дыханием, огладив меня глазами и загрубевшими ладонями, она засучивает рукава – думает за несколько минут привести в порядок то, что начала разрушать еще сама, а уж мы с отцом догромили до конца? Со смехом и слезинкой, кто его знает, может, и насильно выжатой, но красиво поблескивающей на длинных ресницах, она мечется из спальни в мою комнату, в нашу маленькую гостиную, в кухню. Словно порыв ветра, все сметает, переворачивает и выстраивает заново по каким-то ей одной ведомым законам целесообразности. Наш беспорядок должен превратиться в ее беспорядок – вот к чему она стремится, подобным идеализмом, по-моему, страдает половина человечества, желающая добра другой половине…
– Ах, мальчики мои, мальчики! Вы даже не знаете, какие же вы замечательные! Держите экзамен на пятерку! Ну, с минусом… Факт, от голода и жажды не померли… Кефир! Фу, трехлетней давности! И колбасы на целую роту накупили… А тут что? Господи, везде грязное белье распихано! Разве это хорошо? Нехорошо! И о чем вы только думаете, мальчишки мои дорогие?! – Она ловит мою кислую улыбку и продолжает воинственно, нападая уже не на сына, а на отсутствующего главу семьи: – О чем думает отец? Трудно, что ли, собрать и отнести в прачечную после работы? Прогулялся бы, проветрил бы легкие, всякими ядами в своей больнице дышит… Соединил бы приятное с полезным. Интересно, чем он занимается, когда приходит домой?
Дангуоле проворно швыряет скомканные простыни и рубахи в ивовую плетенку, которую ухватила на ярмарке в день святого Казимира, наконец-то нашла применение своей покупке!
– Ведь заплесневеет! Разве так можно? Скажи ему от моего имени, пусть сегодня же отнесет! Я по телефону проверю, не открутится!
– Разве ты не собираешься его навестить?
– А время? Гоняюсь за одной знаменитостью, а она заупрямилась, не едет! – И упавшим голосом: – Что с ним? Ой, Ригас, не пугай меня!
– С ним? Ничего с ним.
– Ну дырявая же моя голова! Чуть не позабыла и обратно не увезла! – Дангуоле с грохотом скатывается вниз по лестнице, тащит рюкзачок. Приказав, как малышу, зажмурить глаза, вытряхивает на стол целую гору огурцов. Нарвала в совхозе во время съемки прямо с гряд и сама пахнет огурцами, огородами, теплицами, завидными буднями сельских тружеников.
Запахи травы и пыли продолжают щекотать нос… Подумаешь! Как будто, кроме нее, никто не закусывал в придорожном овраге… А было время, хорошо помню, сама разъезжала на машине, пропахшая тавотом, металлом, взахлеб рассказывала о женщинах, режущих сталь. И тоже притаскивала домой рюкзачок, только не с огурцами – с кудрявыми железными стружками, весь пол в квартире завалит, бывало, никому не нужным блестящим хламом. Если бы еще у нас или у соседей паркет был, можно бы драить его этими стружками, а так зачем? Верно, забыла уже те предвечерние приезды, такие радостные для нее и такие безнадежные для нас с отцом. Именно так начался ее праздник, суливший окружающим множество хлопот и неудобств. Опять сидеть нам на полуфабрикатах, опять будут расти горы грязной посуды…
– И о чем только этот Наримантас думает! На рынке полно овощей, а ребенок их не видит, хоть бы зеленый листик купил!
Все-таки мой намек, что отца следовало бы навестить, засел в ней, как заноза, и не дает удрать в манящие дали с гордо вскинутой головой – «газик» под окнами фырчит все громче, все зазывнее.
– Говоришь, отец в порядке? – своими словами пересказывает она мой ответ.
– В порядке, чего уж там! – Не хочу рассказывать о нем и Казюкенасе, как будто есть в их общей тайне и моя частица.
– А ты, Риголетто, сам-то ты как?
Это ей, мамочке Дангуоле, должен я быть благодарен за идиотское, бархатом и нафталином отдающее имя, не хватает только шутовского колпака с бубенчиками! Оперное имя призвано было напоминать ей о лопнувшей, как воздушный шарик, великой иллюзии… Из мира грез вырвало ее мое рождение, так она утверждает, хотя мы с отцом и сомневаемся в этом, ибо нет на свете человека, который помешал бы маме расправить крылья в час икс. Имя Риголетто скорее всего воплощало ее надежду на возрождение, надежду, которая из года в год пускала новые зеленые ростки, непреоборимо тянувшиеся вверх. Никакие неудачи прошлого не в силах заглушить пышное цветение ее чувств и фантазии. Живет она настоящим, не особенно крепко за него цепляясь, помани ее грядущее, взмахнет крылышками и полетит. Воображает, что многое еще может случиться. Разве нет? Но на что надеяться сорокалетней женщине, вступившей на подмостки в двадцать и покинувшей их девятнадцать лет назад? Радио, телевидение, Дом культуры слепых, заводские цехи, да, да, гудевшие от рева станков цехи, – что угодно пыталась Дангуоле превратить в освещенные яркими лучами прожекторов подмостки…

– Чем целые дни занимаешься? Смотри у меня! «Море» закончил?
Она шутливо грозит вымазанным в саже пальчиком. Ох уж это «Море»! С ним пролез я в институт, с ним же потихоньку и покинул стены этого храма искусства, сокрушенный благородством моего метра.
Обязанность следить за учебой сына кончилась для Дангуоле в тот день, когда вступил я на злополучную стезю «живописца». С тем минимумом способностей, которые у меня имелись, никак бы не проскочить мне конкурс, помог известный уже случай. С энергией реактивного двигателя, преодолев отцовскую инертность, Римшайте-Наримантене заарканила декана и втолкнула меня в конюшни Парнаса… Вот и принялся я чистить стойла, досыта в навозе перемазался. Хватит.
– Нет, мальчики мои милые, я горжусь вами! – В голосе матери снова чувствуется слеза, благородная печаль тонкой, но прочной пеленой отгораживает ее от унылых семейных забот. – Знали бы вы только, какую мы ленту крутим!
Восхищение нами, а еще больше своим фильмом зажигает изнутри ее глаза, перед ними великая цель, они так страстно вглядываются в нее, что кажется, вылезут из орбит, как при щитовидке – отец и впрямь предполагает у матери базедову болезнь, хотя анализы не подтверждают. В такие мгновения Дангуоле наплевать на то, как она выглядит. В горящих глазах – фильм, в дыхании – фильм, в порывистых движениях – тот же фильм, а ведь вполне возможно, что мелькающие перед ней отблески величия и славы останутся лишь в расширившихся ее зрачках. Она живет своим фильмом, еще не рожденным, верит в него, едва зачатого, и, если потребуется, пожертвует для него самым дорогим… Сколупнув с головы парик, девчачьим движением теребит слежавшиеся волосы… А у меня на языке так и вертится некое словцо, как тогда ночью, когда сбежала она из дома в свою экспедицию… Ну, не слово – несколько слов… Сказать? Прошептать, будто я один в комнате? А ведь ее и правда нет здесь, только глазищи, и в них блеск, неподдельное сияние, как у полированного серебра, которое и на зуб пробовать не надо. Не ошибся ли я, подозревая, что привезенный ею новый запах – просто запах дорожной пыли? Может, так пахнет творчество?








