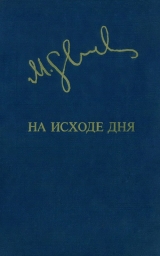
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
– Доктор Наримантас в больнице. – Не говорю «отец». – А что случилось?
– Андрюкас… Наш Андрюкас!.. Совсем скрючило бедняжку, живот схватило… Спасите!
– Гм, а «скорая»?
Я уже не я, а доктор Наримантас, когда он внимательно слушает, у него отвисает губа и начинает подрагивать левая нога – так он расталкивает рой забот, пытаясь найти местечко еще для одной.
– Что вы! Заберут да в инфекционное! Такого хрупкого ребенка… Нет, нет!
– Гм, придется звонить дежурному врачу, – я говорю вежливо, воистину не я, а хирург Наримантас рассуждает вслух. – Пока дозвонимся, пока приедут… Троллейбусы, как вы знаете, еще не ходят… – И вдруг я зажигаю надежду на их посеревших лицах. – А что ел ваш Андрюкас?
– Треску… – охая, выдавливает Жаленене. – Я на ужин свежемороженую треску жарила.
– Ну да, свежемороженую, – постанывая, поддакивает супруг. – Прямо с работы с портфельчиком в рыбный забежал…
– Так, – говорю, – ясно! – и едва сдерживаю радость: приятно поймать стервецов на горяченьком, как мелких карманников, весь дом своей треской провоняли! Солидно кашлянув на всякий случай, сухо, в отцовском стиле ставлю диагноз: – Причина недомогания – жареная треска. Несвежая попалась. Или недожарили. Пищеварительный тракт у детей особо чувствителен к недоброкачественной пище, этого нельзя забывать!
Но мы часто едим треску…
– И ни разу, поверьте, доктор, ни разу…
– Это не секрет, что часто, – не упускает случая ужалить отпрыск врача, польщенный титулом «доктор». – Раз на раз не приходится, уважаемые! Минуточку, – снова перехожу на официальный тон и тащусь в гостиную, где хранятся наши лекарства. Отвыкшие от света глаза не сразу отыскивают пузырек с касторкой. – Сколько вашему Андрюкасу? – вопрошаю, будто не знаю его, будто не сам десятки раз налаживал ему велосипед «Орленок».
– Одиннадцать…
– Одиннадцать и три месяца!
Оба отвечают так старательно, с такой надеждой ловят каждое мое слово, что я смягчаюсь.
– Пусть примет… столовую ложку. Если не поможет, стучитесь. Надеюсь, доктор Наримантас к тому времени уже придет.
– Огромное спасибо! Огромное!
– Не знаем, как вас и благодарить!..
Теперь и голоса их, и лица совсем не похожи на обычные. Жаленене – молодая женщина со свежими щечками. Они все еще топчутся на площадке, и мне приходится напомнить, что их ждет больной ребенок. На мгновение вспыхивает и тут же гаснет видение: я или кто-то очень на меня похожий шагает по больничному коридору, развеваются полы белого халата… Встретишь завтра, Жаленисы, насупившись, посторонятся, а если и нет, все равно услышишь звон наручников. Испортили сон, черт бы их взял!
Так и не дождался отца, унесла река сна. Медленно сплачивались малые и большие льдинки, наконец шуга спаялась в твердый ледяной панцирь, и в душном, томительном подледном пространстве сознание мое, оторванное от тела, сплетало какие-то странные образы. Доцент с лицом Жалениса умильно хихикал, впрочем, совсем это был не Жаление, а огромная треска с выпученными глазами, вокруг нее в шляпе доцента нагишом прыгал Викторас, но и у Виктораса было не его лицо, а мое. Вокруг нас извивались только что выпотрошенные рыбьи внутренности. Надо всем этим равнодушно высился отец, хотя я изо всех сил старался сунуть ему в руки часы, скользкие, вывалянные в рыбьей чешуе, еще больше похожие на золотые, чем раньше, отец небрежно повторял своим сухим, холодным голосом:
– Отравление треской, коллега. Пусть оперирует кто угодно, только не я! – А мое тело горело огнем, горели приклеенное к чужому затылку лицо и руки, которые никак не могли избавиться от часов.
Не потребовалось даже прибегать к внутреннему слуху, чтобы сообразить: отец дома. Наша квартира и без того пропахла лекарствами, но, когда он является, становится просто невыносимо. Еще не открывая глаз, увидел, как несет он аккуратно расправленное на плечиках – чтобы не помять! – пальто, как вешает на спинку стула пиджак с оттопыренными карманами. Еще малышом любил я исследовать их неизменное содержание: стетоскоп, аппаратик для измерения кровяного давления, выписанные, но почему-то никому не отданные рецепты. Не умершим ли? То, что отец общается с покойниками, вызывало у меня тогда боязливое уважение к нему, но хватило этого ненадолго – пожелтевшие рецепты свидетельствовали: сила врача Наримантаса не беспредельна, ограничена, как у всех смертных.
Это не фокус, что он приплелся домой под утро. Удивляло другое: неужели он все еще здесь, хотя сквозь щели безжалостно рвется день? Буянит, ищет, чего не прятал… Дождь, ветер, троллейбусы, воробьиное чириканье, кашель и отхаркивание живущего над нами пенсионера – все свидетельствовало: уже десять, если не половина одиннадцатого, давно кончилась ежедневная «пятиминутка», белые халаты обежали своих больных, некоторые уже сопровождают в операционную высокую каталку…
Что случилось, господи?
2
Наримантас не знал – и кто мог знать? – что этот и несколько последующих дней доведется вскоре ему перебирать шаг за шагом, слово за словом. Да что там слова – любая мысль, любое ощущение вспомнится, будто были они исполнены особого тайного смысла. Он будет распарывать прошлое, как поношенную одежду, прощупывать каждую складку, каждый шов. Так когда-то его отец кромсал дедушкин полушубок, надеясь найти зашитые стариком царские червонцы. Золота не обнаружил, но оба они – и отец и сын – навсегда запомнили и этот день, и тени на стене, и особенно запах паленой шерсти. До сих пор в глазах, точно развороченный дерн, клочья свалявшейся овчины, комки грязной ваты, торчащие из распоротой подкладки воротника, как если бы дедушку обдирали заживо; память об этом дне и поныне отдаляет сына от отца.
Кое-что Наримантас все-таки знал, кое о чем догадывался, однако еще мог отречься от этого знания, не погружаться в него, не наворачивать на себя, как бесконечную пелену на мумию. Надо было опереться на ясные и привычные мысли, а он лежал будто в невесомости. Именно такое ощущение испытывал, вытянувшись на узком диване, причем ноги торчали на валике выше головы. Пустоту он чуял как бы ноздрями, какую-то необычную, странную, давящую, и еще было ему тошно оттого, что проснулся не на привычном месте и приходится догадываться, с какой стороны солнце.
Он привык просыпаться от чириканья воробьев, а тут по подоконнику расхаживают голуби. Воробьиная стайка жила по соседству: по утрам юркие пичуги бойко чирикали в буйно взбирающихся по стене дома зарослях дикого винограда, не обращая внимания на городской шум. Эти серые комочки заменяли ему часы. Судьба их, по мнению Винцентаса, схожа с нашей – с судьбой горожан, тоже чирикающих в дыму выхлопных газов. А голуби… Голуби будили его в детстве, когда гостил он у деда, в царстве птиц и зверюшек. Над замшелыми крышами низеньких домиков вечно висело облачко белых и сизых перьев, именно облачком представлял он себе эти голубиные стаи морозными зимними утрами, когда его не пускали к дедушке. А когда подрос, и сам редко туда выбирался. Почему? И отца теперь не навещает…
– Кыш! – Наримантас постучал по стеклу, прогоняя воркующих голубей. Когда просыпаешься не на привычном месте, в голову лезут всякие необязательные воспоминания, словно можно вернуться туда, куда уж и следы заросли…
От неудобной позы да еще от торчащих пружин старого дивана болел крестец, Наримантас слепо помаргивал, будто в глаза попал песок, – раздражали оранжевые стены. В гостиную солнышко не заглядывало, а вот спальня весь день залита светом. Сказать правду, ему сейчас не очень нужно было солнце. И так чувствовал себя чучелом гороховым. Мятые брюки, одна нога в носке… И пахло от него не лекарствами – символом стерильной чистоты и порядка, напоминающим, чем будет он заниматься сегодня и во все остальные дни недели, – а потом и несвежей одеждой. Чем-то кислым. Он даже понюхал ладони. Несколько раз доводилось Наримантасу просыпаться в таком состоянии, и, право, часы, следовавшие за подобным пробуждением, не становились самыми успешными в его жизни. Не были они приятными и для тех, кому случалось сталкиваться с ним в такие утра…
Нет, не рекомендуется современному человеку, обремененному тысячами забот, просыпаться одетым и не на привычном месте! А тут еще он вдруг обратил внимание на вбитый в оранжевую стену кривой подковный гвоздь. Подошел, дернул – крепко сидит, глубоко загнали, алебастром замазали. Никогда прежде не видел, а ведь, наверное, не с сегодняшнего дня торчит. Рассматривая гвоздь, заметил рядом на стене потеки, похожие на набухшие, шишковатые вены. Повилика! Здесь висело кашпо с повиликой! Как же я забыл?
А куда оно исчезло? – заинтересовался Наримантас. Оглядел все углы, поочередно распахивал дверцы секционного шкафа, словно растение могло находиться между книгами, старыми гребенками и перегоревшими лампочками. Роясь в шкафу, навалил на пол кучу вещей, как иллюзионист, неизвестно откуда вытаскивающий их. Удивительное количество всяких нужных и ненужных приобретений. Не такова ли оборотная сторона моей жизни? Торопливо начал заталкивать барахло в шкаф, письменный стол, во всякие пластмассовые коробочки и ящики. Однако, как ни старался, они обратно не лезли. Какая-то фарфоровая ручка от чайной чашки, чашка без ручки, пуговицы, иголки, термометры, ломаные игрушки, флакончики с антибиотиками столетней давности. На мгновение у него мелькнула мысль, что он обречен теперь на веки вечные копаться в этой хаотической мешанине, саморазмножающейся методом деления, как в жутких научно-фантастических книжонках, над которыми изредка клевал носом во время ночных дежурств.
– Дангуоле… Дангуоле! – тихо, точно напроказивший мальчишка, позвал Наримантас.
Слава богу, у него была законная жена по имени Дангуоле, от своей девичьей фамилии она не отказалась и носила двойную: Римшайте-Наримантене. Это с самого начала было задумано как приманка для афиши. И действительно, изредка двойная фамилия мелькала на щитах для объявлений, но печатали ее такими маленькими буквами, что прочитывали только они двое. Так вот, эта самая Дангуоле Римшайте-Наримантене в отличие от своего супруга, которого профессия понуждала к скрупулезному порядку, была человеком не слишком аккуратным, правда, ее беспорядок не выглядел столь безнадежно, как нечастые попытки мужа, навалившись вдруг, привести все в порядок. По собственному выражению Дангуоле, она придает беспорядку художественный шарм, может быть, так оно и есть, ибо в большинстве случаев Наримантас с ним мирится и лишь иногда пытается продраться сквозь мусорные свалки к некой цели, которая и самому ему не вполне ясна. Зачем? Чтобы еще раз удостовериться, что без Дангуоле он бессилен? Хватился, видите ли, повилики! Не нравятся голые стены. В палатах пусть, там не дом, но дома должен же быть какой-то уют…
Прежде чем войти в спальню, он тихонечко побрякал ручкой двери. Со сна Дангуоле не бывает красивой, а главное, молодой – волосы растрепаны, под глазами мешки. Она это знает, подозревает, что и для него ее утренний вид – не секрет, поэтому, заслышав осторожное покашливание мужа, торопливо отделывает фасад. Если не успевает, забивается в уголок их широкого ложа, натягивает одеяло до подбородка, и только стреляют шальные глаза – один из этюдов времен учебы, эпизод из замечательного фильма, увы, безжалостно искромсанного при монтаже. В давние времена, когда они были молоды, такая игра в прятки обычно заканчивалась обоюдным счастьем, ныне она доставляет мало радости, будто подражаешь кому-то.
«Готова?»
«Входи, входи… Господи, какой ты медведь!»
Но сегодня… «Жди меня, и я вернусь. Д.».
Такую записочку увидел Наримантас на их застеленном оранжевой холстиной ложе, то окно ею завешивает, то кровать застилает… На зеркале отпечатки пальцев, под облупившимся стульчиком орехового дерева капроновый чулок – свидетельство некоторой торопливости, даже экспромта. Но такому выводу противоречил почти образцовый порядок, царивший в спальне: три запыленных транзистора, уйма зонтиков, шляпок и сумочек, обычно разбросанных по всей квартире – трофеи безалаберной и суетливой жизни Дангуоле Римшайте-Наримантене, – на сей раз аккуратно стояли и висели в нише.
Наримантас еще раз прочел записку, пощупал ее пальцами – ясно, информативно и достаточно любезно. Он рассмеялся. Смех прозвучал вызывающе, точно он хотел обмануть кого-то, но обманывал-то лишь себя. Знал, что Дангуоле нету. Он, Винцентас Наримантас, не любивший валяться где попало, скучающий по своему халату, как кадровый военный по сданному в химчистку мундиру, знал, что остался один. Последние дни он словно бы толкал Дангуоле к рюкзаку – возвращался под утро, даже не предпринимал попыток объясниться насчет одной симпатичной медсестры, про которую ей запоздало нашептали больничные сплетницы. Конечно, это было жестоко, догадывался он, растерянно стоя посреди пустой спальни, очень уж явно не скрывал я своего желания как-то отделаться от нее, от ее опеки. Сгинь, уезжай куда-нибудь на лето, хоть на месяц! Нет, она не виновата, ни в чем не виновата, он не просто стал тяготиться ею – ему потребовался простор для чего-то, чего пока еще не было и, может, никогда не будет… И вот пусто; что же теперь делать? Неужто признаться во всеуслышание – соскучился, дескать, по небольшому скандальчику из-за повилики, высохшей еще в прошлом или позапрошлом году, по маленьким капризам Дангуоле, по ее кошачьей ласковости? Ах, кошечка ты, кошечка, не всегда верна дому, иногда даже гадишь в нем, и все-таки… А мог бы я рассказать ей обо всем?
«Поклянись, ты будешь рассказывать мне о своей работе! Клянешься?»
Не нужна была ей никакая клятва – пьянили небуднично звучащие слова. Глаза сверкали каким-то нездешним, призрачным светом, на голубом берете развевалось перо – Дангуоле любила экстравагантные головные уборы, – и он с полной серьезностью обещал делить с ней не только кров и пищу.
Не сдержал обещания, и не потому, что забыл о нем. В молодые годы труд хирурга был для него окружен сияющим нимбом, а заниматься приходилось мелочами, дольше всего набивал руку на аппендицитах. Резекция аппендикса стала его постоянной обязанностью, как, скажем, заготовка дров в добропорядочном крестьянском хозяйстве – не с холодами начинается и не с холодами кончается эта работа. Новичку на первых порах ассистировали хирурги постарше, а потом, ухватив за лацкан, таскал он в операционную студентов, не очень-то отличавшихся от него по возрасту.
«Время у тебя есть, постоишь», – приказывал, стараясь говорить солидным баском, и будущий хирург так же солидно басил в ответ: «Ага, не учи!»
Аппендициты и грыжи, к которым впоследствии добавились завороты кишок и язвы желудка, не особенно интересовали Дангуоле. Не часто вспыхивали небесным светом ее глаза, когда она вдруг воображала, что вылущила из рассказов мужа нечто необычайное. Больше всего занимало ее, что он чувствует, когда режет живую плоть, а он в это время как раз ничего особенного и не испытывал – только до и после операции, как всякий, кто применил оружие, пусть с благой целью, пусть в защиту человека… Она должна была бы понять это, но не смогла и поэтому всячески высмеивала его за якобы крестьянскую тупость и бесчувственность. Правильно рассечь ткани, хорошо пройти, отделить лишнее, вновь все соединить – каждый сосудик, каждую жилочку, – вот что самое важное, а это означает, что ты не имеешь права думать о чем-то другом, кроме кровоточащего клубка, который необходимо размотать нить за нитью. Не сразу понял Наримантас, что Дангуоле волнуют в основном «художественные детали», в ее мире главным была не сама жизнь, а показ острых ее ситуаций. Сообразив это, Наримантас перестал быть сдержанным в своих описаниях, не жалел натуралистических деталей, которых прежде избегал, – даже думать о них противно было, теперь он рассказывал, как кричат оперируемые под местным наркозом, как вздуваются у них кишки, как вырезали двенадцать килограммов сала у одного толстого бухгалтера, которого душила страшная жировая опухоль, как…
«Не будь циником, дорогой! Неужели все у вас такие грубые?»
Наримантас и сегодня видит ту кожаную перчатку, синюю с беленькой каемочкой – интересно, куда она ее засунула? Когда он принялся толковать о бухгалтере, этой перчаткой она хлопнула его по губам, обдав ароматом надушенной кожи – не так ли пахла ее несбывшаяся мечта? Стоило ли рассказывать? А сейчас? Хочется ли ему намекнуть Дангуоле о том, что случилось, а может, еще не случилось, только мерещится? Надо ли тешить пустое ее любопытство?
По мере того как проходили годы за годами, энтузиазм Дангуоле мелел, подобно ручейку, текущему по постепенно осушаемой местности Иногда он еще выходит вдруг из берегов, бьет хвостом по воде большая рыба, но мельчают его омуты, зарастает тиной и камышом русло. Годы, семья, быт – вот они, все сильнее сжимающие ее неодолимые берега. В последнее время Наримантасу даже больше, чем ей самой, мешало сознание того, что она разочаровалась в нем – должнике, не платящем долгов. Еще тешили ее очередные попытки завоевать славу, какие-то вызывающие всеобщую зависть шляпки, а он в насмешливом равнодушии жены, как в зеркале, видел себя – педанта, ворчуна, бог весть кого… Он ведь очень нетребователен, почти всем доволен, особенно своей работой, ничего другого не нужно ему от жизни – только работать! – а необходимые жене «художественные детали» сбивают с панталыку, возмущают покой. Со временем он понял, для чего ей это, но по-прежнему верил лишь в то, что сам разрезал и сшил собственными руками.
Какую же историю упустила ты, Дангуоле? Ну просто божественный сюжет для фильма того режиссера, перед которым ты преклоняешься. Именно то, чего я прежде никогда не умел тебе поведать, – живая романтическая история! – послушала бы…
Хотя истории, тем паче сюжета, еще не было. Он таился где-то в глубине, напружив лапы и вглядываясь зоркими зеленоватыми глазами, подобно рыси, готовящейся к прыжку.
Наримантас и сам избегал этих манящих безднами, подстерегающих глаз.
В детстве занимали его не одни голуби Какие только зверюшки не водились в отцовской усадьбе, что стояла на окраине волостного местечка! Как-то привезли из лесу раненную топором рысь. Человек, поймавший ее, намеревался содрать шкуру себе на шапку, но рысь линяла. Отец отдал в обмен за дикую кошку пару кроликов, и рысь поселилась в железной клетке на их гумне. С той поры вошло в душу Наримантаса беспокойство. Оно так и осталось по сей день: глаза, шаги, запах рыси.
Ко всякой живой твари отец его был жалостливее, чем к людям.
Позже, когда у Наримантаса будет время, уйма свободного времени, а то, чему суждено случиться, уже произойдет, он станет казнить себя за непоследовательность своего сегодняшнего поведения. В это утро, одно из первых утр начинающегося лета, он звал жену, нелюбимого отца, даже деда, но не кинулся к сыну, чье дыхание слышалось за тонкой дверью. Впрочем, и прислушиваться не надо было, сын и так все время жил в нем, хотя встречались они редко, а разговаривали и того реже. Ригас спал на спине, казалось, объемистым легким молодого спортсмена не хватает воздуха в этой одиннадцатиметровой комнатушке. Летом он не часто обременял свое коротковатое ложе: практика, походы, кроссы и т. д. и т. п. Спать на твердом посоветовал кто-то из тренеров, по плаванию или по боксу. Вот он и спал на топчане, который давно стал ему короток. Родился семимесячным, в детстве был хилым, тянулся вверх, как деревце без солнца, из носа постоянно текло. А топчан сколотил сосед-столяр. Давно уже помер, но в квартире Наримантасов нет-нет да столкнешься со следами деятельности этого мастера – книжная полка, гладко выструганная скалка, вешалка в прихожей… Теперь некому сколотить новый топчан.
Сосед, от которого всегда приятно пахло свежими смолистыми стружками, чем-то напоминал деда. Умер дед двадцать три года назад, как раз когда Винцентас обмывал диплом. Со странностями был человек – точно знал, к примеру, о дне и часе своей кончины, или, как он говорил, о том времени, когда придет ему пора отправляться на покой. Его до сих пор помнят в округе. Новый топчан Ригасу мог бы, конечно, сколотить и отец Наримантаса, он еще бодр и полон сил, хотя заканчивает счет восьмому десятку. Правда, приезжает к ним редко, лишь когда требуется зубы подлечить; у Дангуоле, запутавшейся, точно муха в паутине, в разнообразных знакомствах, ходил в приятелях какой-то зубной техник, «работающий с материалом», он ставил коронки из золота, что было незаконно и потому стоило недешево. «Блаты» Дангуоле чаще всего обходились втридорога. Наримантас приобрел было доски на новый топчан, но старик ветеринар с недоверием отнесся и к доскам этим, и к инструменту сына – ненадежные, мол. Ему и вся жизнь сына, немолодого уже врача, казалась ненадежной. Вот и приходится Ригасу довольствоваться старым топчаном, подставляет в ноги стул, хотя со многим другим в доме, да и не только в доме мириться не желает. Атлет, настоящий атлет, дышит глубоко, ритмично, правда… и бокс и плавание забросил, и велосипед его гоночный с ранней весны ржавеет в подвале рядом со штангой культуриста… Гм, как же тут поступить? Найти точку опоры в трезвом утреннем солнце и, распахнув дверь, не давая ему прийти в себя, спросить в упор, твердо, без обиняков, как мужчина мужчину: новеллу ты мне давеча рассказывал, это что, очередной бредовый сюжет?..
Очень уж неожиданно появился Ригас в больнице, малышом-то, правда, частенько захаживал. А тут и не за деньгами. Подозрительно, очень подозрительно. Сестра Нямуните удивленно протянула «Сы-ын?», и Наримантаса словно горячей волной залило – осознал, что у него взрослый сын, о котором он знает меньше, чем об иных своих молодых сотрудниках. А ведь мечтал когда-то: пыхтят они рядом под бестеневой лампой, сначала сын ему ассистирует, потом он сыну… Только Ригас полез в искусство, да еще с его, Наримантаса, поддержкой, а недавно качнулся к литературе… И все-таки пришел?
Знаешь, отец, заявил он, наклевывается один сюжетец, но без консультации специалиста не обойтись. Всего рассказывать не стану, неинтересно, а вот некоторые детали… Значит, так: ночь, поздний прохожий, и вдруг удар кулаком по голове, он сразу обмяк, упал… Месть или с целью грабежа, мне пока неясно. А ты вот что скажи: можно ли отбить человеку память… временно? И надолго ли? Сознание вернулось, встал, хоть и пошатывался… а вот память?
Это для сюжета? Только для сюжета?.
И Наримантас не решается распахнуть дверь в комнату сына. Не он, а кто-то посторонний опытной рукой разматывал путаный клубок. Даже тогда, когда нить жизни пряма и звонка, точно струна, следует быть осторожным. Его жизнь такой не была, хотя он меньше всего думал о себе. Работа? Разве то, что делает он каждодневно, обливаясь кровью и потом – кровью чужой, но потом своим! – это лишь работа и больше ничего?
Прислушался к дыханию сына. И ему стало неловко, словно подглядывает тайком. Когда сын рядом, как-то не верится в ценность своей работы: наблюдают за ним насмешливые голубые глаза и видят его не у операционного стола, резкими короткими фразами дающего указания ассистентам – нет тогда для них ничего важнее приказов хирурга Наримантаса, – а в пропахшей несвежей пищей душной столовой, где стоит он, втиснувшись в очередь; опережая его, лезут к раздаче заведующие отделениями и разные другие шишки, им и кусок мяса помягче, а ты, проторчав минут пятнадцать, уносишь в тарелке подошву с подливкой и, утешив себя мыслями о важности собственной персоны, вновь отправляешься резать людей, это твоя привилегия, ею не обладают ни короли, ни президенты, может, только палачи в экзотических странах. Сыновнее неуважение – Наримантас не признался бы в этом даже под пыткой! – проникало в его душу, словно яд, отравляя единственную радость: вздохнуть полной грудью, успешно завершив одну операцию и ожидая следующей. А, шли бы они ко всем… такие радости! Как избавиться от недовольства собой, превращающегося в недовольство всем и вся, когда на тебя жаляще смотрят глаза сына? Не поэтому ли избегал он близости с Ригасом, каверзными вопросами разрушавшим то, что он упорно утверждал всей своей жизнью? Нападки Дангуоле, куда более шумные, возбуждали только насмешку и жалость.
– Не стоят ли твои часы, отец?
Ригас возник перед ним внезапно, даже дверь не скрипнула. Слова его заставили Наримантаса вздрогнуть, будто кто чужой подкрался и ехидно шепнул их в самое ухо. Какой-то подвох чудился в голосе сына, в глазах, в наклоне головы; до чего же на Дангуоле похож – вылитый! – и кожа такая же гладкая, и цвет лица ее, и повадки, хотя, ясное дело, он и ее презирает, подумал Наримантас, в упор, хоть и косвенно, спрошенный, почему торчит он вдруг дома, когда в его больничном муравейнике наверняка уже кипит жизнь.
– А твои, сын?
Ригас слегка приподнял левое плечо, и контрудар отца, не задев; скользнул по белой эластичной, как у женщины, коже молодого атлета. Знал, что нравится отцу в таком виде, обнаженный, в одних плавках, еще не стряхнувший тепла и чистоты сна, однако размякать нельзя, а то расслабишься, как позавчера, и еще выдашь себя – отец-то ничего не смыслит в литературе, для него все, что пишут, или правда, или ложь… Ха! Правда или ложь! Но смешок, короткий, словно икота, застрял в горле, когда у отца бдительно дрогнули брови. Нет, надо быть начеку, кто даст гарантию, не твои ли дурацкие «психологические изыскания» приковали нынче Наримантаса к дому? А ведь, кроме того ночного похода с Викторасом, был еще институт, а там тоже кое-какие делишки с душком числились, паршивые делишки, как подумаешь, тошно становится, и еще что-то висело на совести. Оно пока не обрело определенной формы, но висело, подобно черной туче – то ли уберется прочь, погромыхав над головой, то ли прорвется ливнем и затопит…
– Я бы на твоем месте не очень себя упрекал, – Ригас доверительно улыбнулся; появилась возможность перевести разговор на нейтральную почву, где ему ничего не грозит.
– А в чем дело?
Ну и хладнокровное же существо этот Наримантас!
– В Дангуоле… Думаю, на этот раз она долго не задержится.
Наримантас сделал вид, что не понимает сына, пытаясь этим скрыть чувство, очень близкое и к признанию вины, и к отрицанию ее. То, что сказал Ригас, вроде бы оправдывало его, и, хотя ощущалась в его словах нотка неискренности – сын, казалось, стремился извлечь из этой ситуации некую пользу для себя лично, – Наримантас не решился возразить ему, тогда пришлось бы взваливать на себя ответственность за действия Дангуоле, которые превзошли скромное его намерение создать между собой и ею кое-какую дистанцию.
– Как она уехала-то?
– На грузовике. Проголосовала на улице.
Теперь они оба видели Дангуоле Римшайте-Наримантене. Она летела в страну своих грез, мчалась во весь опор, чему изо всех сил способствовали огромные колеса грузовика, неслась, соблазненная громыхающей вдали грозой. Наплевать, что молнии этой грозы искусственные, что гром там делают, ударяя палкой по листу жести, она стремится к этой грозе сломя голову – или не зная о подделке, или не обращая внимания? – компенсируя себя за бесконечные месяцы, в пыль перетертые у газовой плиты да стиральной машины.
И отец и сын видели ее в безжалостном утреннем свете: длинные крашеные ресницы бросают на глаза густую тень – не потому ли ее лицо кажется белым как мел? – видели ее головку, склоненную к плечу водителя; аккуратный паричок сдвинулся, из-под него выбилась прядь жиденьких, с проседью уже волос; но даже и в эту минуту объединенные все еще дорогим для них беспокойством за хрупкую, неведомо куда устремившуюся женщину, они не переставали пристально наблюдать друг за другом.
– К чему ей эта клоунада? – пожал плечами Наримантас, стараясь смягчить их общую вину перед сыном, особенно свою. – Что я, легковой бы не достал?
– Достал бы? Но тебя же все нет и нет.
– Есть телефон.
– Попасть под ледяной душ твоей Нямуните?
– Вежливость – не порок. Кроме того, не вижу никакой связи между…
Не желал он ставить рядом этих двух женщин, хотя, отказывайся не отказывайся, какие-то сопоставления приходили в голову, тем паче что чувствовал он теперь себя свободным. Была ли на самом деле у Дангуоле нужда сторониться Нямуните, опасаясь ее холодной вежливости? Пустяки! Хотя… разве ожидание того, что может случиться, лишь пустая, выдумка, как и другие сомнительные выдумки Дангуоле?
– Да не казнись ты, отец. Перебесится наша мать, и все встанет на свои места. Добудь-ка лучше телевизор, да еще спицы…
– Думаешь, поможет?
– Один-другой сюрприз, чтобы не обрастали вы мхом, и…
– По-твоему, мы мхом обросли? Тошно тебе с нами?
А у него редкая проницательность, почти с нежностью подумал Наримантас о сыне, однако зазвучавшая в душе отцовская гордость не помешала ему трезво оценить роль Ригаса во внезапном изменении семейной ситуации. Отныне будет он лавировать между отцом и матерью, скрывая свои похождения и черпая из двух кормушек. Наримантас невольно любовался сыном, его чистая кожа поблескивала на солнце от едва заметного движения ребер при дыхании, от непроизвольно вздрагивающих крепких мышц, а может, просто от избытка здоровья. От парня все еще веяло теплым сном, как в детстве, и вообще что-то детское сохранилось в нем, но его проницательность принадлежала человеку, не по годам зрелому, поднаторевшему кое в чем, она прочно засела в этом юном теле. Ухватив ход отцовских мыслей, Ригас хмыкнул и тряхнул головой, откидывая со лба длинные волосы. Позавчера, мямля что-то о своем идиотском сюжете, он так же сухо хмыкал прямо в лицо оглядывавшей его Нямуните, хотя в ее вежливой улыбке и намека на оскорбление не было.
Ригас не любил себя таким, каким видел сейчас в оттаявших глазах отца. Еще минуту постояли они, уже стесняя своим присутствием один другого.
– Что думаешь делать сегодня?
– Пачкотней займусь.
– Живописью?
– Я же говорил тебе… Пишу кое-что.
– А-а. – В голосе Наримантаса прозвучало деланное разочарование, его мысли и внимание уже были прикованы к тому, о чем он продолжал думать, даже ощупывая разошедшиеся швы своей жизни Да, никуда не денешься от больницы, пусть до скуки будничная, реальная, она уже снова манила, окутанная дымкой расстояния, словно луна белесым венцом, предвещающим перемену погоды и загадочные перемены в жизни людей. Не начало ли этой цепи перемен – новое занятие Дангуоле? А я-то полагал, что все начал сам.
– А ты?
– Я? – Он наклонился к сыну – Я?
– Еще не пришел в себя? Что собираешься делать, спрашиваю?
– А тебе не все равно? На пенсию мне еще рановато…








