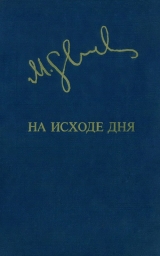
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
– Очень рад, Винцас, очень рад! Сегодня, как нарочно, работенки… Это хорошо, что ты подвернулся.
Радость излучают не глаза – стекла очков. Ритмически двигаются лопатки на широкой спине, под распахнутым халатом сереет мокрая от пота рубашка, правой рукой Чебрюнас пишет, левой отчаянно обмахивает лицо, помогая вращающемуся над головой вентилятору.
– Присядь, я мигом! – Между двумя осмотрами главврач шпарит отчет – один из множества, одинаково обязательный как для домоуправлений, так и для больниц. Смог бы – растворился в водянистых чернилах, в скрипении пера, и Наримантасу становится ясно Чебрюнас пытается укрыться под административной скорлупой. – Навицкене я выговор влепил Здорово, а? Санитарки – дефицит Сделал больше, чем мог, ха-ха!
– Как знаешь, – недовольно отмахнулся Наримантас, и к нему повернулось круглое улыбающееся похожее на созревший персик лицо Чебрюнаса. (Но под нежной мякотью твердая косточка – многие об эту косточку зубы притупили и еще притупят.)
– Значит, не требуешь, чтобы Навицкене извинилась перед твоей Нямуните?
– Нашей Нямуните, Йонас, нашей! Ты же не требуешь, чтобы Навицкене вдруг заговорила по английски!
– По-английски? Что с тобой, Винцас?
– Извинений требуют от человека, понимающего что такое элементарная вежливость.
– Ха-ха! – Круглое лицо лопается, как созревший плод, и твердая косточка выглядывает изнутри, не смягчаемая ни смехом, ни очками. – Сгущаешь, Винцас, сгущаешь… Всегда был спокойным, как Будда, а вот заводишься с пол-оборота. Не как главврач, по дружбе тебе выкладываю.
– Мне нужен главврач!
– Прекрасно, прекрасно. Закончу отчет, и мы выясним все неполадки и т. д. и т. п – Чебрюнас поворачивается к столу вместе с креслом больницу проектировали с размахом – кондиционеры, душевые кабины для персонала, – когда же строительные расходы превысили смету, от выношенных в мечтах кондиционеров остались лишь вентиляторы да несколько вращающихся кресел.
Снова скрипит кресло Чебрюнас уже любезно улыбается топчущемуся в дверях плотному мужчине:
– Минуточку, минуточку, товарищ директор! Сейчас мы с доктором Наримантасом вашего папашу посмотрим. Отличный специалист!
Комплиментами ты меня не купишь, Наримантас не улыбается ни главврачу, ни сыну того старичка со шляпой, очень неохотно отступающему за порог кабинета.
– Ничего не поделаешь. Директор завода металлоконструкций, ха-ха! – Глухо урчит под потолком вентилятор, тяжело вздымается грудь Чебрюнаса, коротким смешком он лишь прикрывает свою слабость – принимать больных со стороны в надежде извлечь из этого некую выгоду. – Оконные шпингалеты повыламывались, а ну как больной с четвертого этажа выпадет! Вот была бы историйка, а? – Глубоким вздохом и улыбкой он пытается смягчить предстоящий неприятный разговор.
Наримантас снова не отвечает на улыбку, прямой, всевидящий, безжалостный, словно его не мучает жара и не грызут заботы.
– Ну ладно, – Чебрюнас не выдерживает осады. – Расскажи-ка лучше, как твой Казюкенас!
– Это я пришел спрашивать, Йонас!..
– Доктор, делайте что хотите, не могу больше ждать! У меня важное заседание! – Плотный директор снова вваливается в кабинет и машет отцу, держащему в руках старомодную шляпу.
– Ах, вы уже тут! – Чебрюнас радостно улыбается, словно встречая дорогих гостей, и, подскочив, указывает старичку диван. – А вас просим на мой трон, просим, товарищ директор! – Усадив папашу, под руку ведет к столу сына.
Не касается это меня, решает Наримантас, пусть Чебрюнас в одиночку попляшет, однако старичок не может сообразить, куда деть шляпу, не знает, куда повесить пиджак, стаскивает верхнюю рубашку и растерянно держит все в руках, тогда Наримантас забирает у него одежду: нательная рубашка, дома пошитая, такую же, застегивающуюся до самого горла, носил дедушка, старик напоминает его и белизной кожи, и едва уловимым запахом свежего сена. Наконец он тяжело укладывается на клеенчатую кушетку – худенький, жилистый, таким будет и на смертном одре.
– Работай полегче да не ешь жирного, вот и не будет жилы судорогой сводить! – Чебрюнас тискает старика, а тот лежит, спокойный и прохладный, словно уже кончились для него земные заботы, терпеливо ждет, пока врачам надоест мять, щупать, барабанить по его костям. Наримантас отлично понимает: усердным вниманием, далеко не каждому в одинаковой степени уделяемым, а тут вдруг выпавшим на долю простого деревенского деда, Чебрюнас хочет склонить его к миру. Пусть недоразумений и споров избежать невозможно, но гораздо важнее каждодневный труд плечом к плечу, когда один другого понимает с полуслова, по учащенному или замедленному дыханию, не говоря уже о взгляде.
– Что с ним? – директор поворачивается вместе с креслом.
– Старость, дорогой товарищ, старость.
– Слышь, отец, не болен ты! – Подбежав, сын крикнул это прямо в ухо лежащему, тот зашевелился, слышно, как хрустнули суставы; сметанно-белое, десятилетия не видевшее солнышка тело старика начало дрожать.
– Вы не поняли коллегу Чебрюнаса. Старость – болезнь. Тяжелейшая из всех, от нее нет лекарств, – вежливо объясняет Наримантас, думая не только о чужом старике – об одиноком и заброшенном собственном отце.
– Все будем старыми, все! – обиженно вздергивает подбородок директор: так или иначе ремонтировать шпингалеты придется, а от медиков этих ни пользы, ни уважения.
– Да, старости не избегнешь, – кивает Чебрюнас, он тоже не забывает о шпингалетах и принимается выписывать рецепты. Изводит целую стопку бланков, и лицо директора постепенно светлеет.
– Восемьдесят шестой гоню! – ощупывает себя старик, проверяя, все ли косточки на месте – Наримантас, направляя его худую руку, помогает найти рукав. – Как не болеть.
– Два ряда яблонь прошлой осенью высадил, – сердится сын. – А кому нужны его яблоки? Говорил же: брось! Не надрывайся!
– Не работать? Как жить, если не работать? – Старик только теперь испугался белых халатов, а еще больше – строгого, мечущегося по кабинету сына. Кто сухие ветви обрежет, кто удобрит? Не обиходишь дерево, оно плода не даст… Выпишите лекарства – буду пить. Но не работать?
– Когда прижмет, переедешь ко мне! Будешь сыт, досмотрен, врачи вон под боком. – Сын постукивает ребром ладони по спинке дивана, ударяет не сильно, но повелительно, возражений он не потерпит, и у старика отвисает нижняя челюсть. – Будешь Рекса выводить. И сам погуляешь, и с людьми пообщаешься.
– Ничего вы не поняли, уважаемый товарищ! – Наримантасу внушает неприязнь вялая, холодная рука, хотя директор – мужчина коренастый, здоровый. Не выдумаешь болезни – шпингалетов не вытянешь! И все-таки напрасно старается Чебрюнас, угождая сильным мира сего и надеясь воспользоваться ими, пусть не для себя – для общего блага, улыбается да поддакивает, совсем раздвоился человек, уж и не знаешь, каков настоящий: этот ли, усердно увивающийся около каждого начальника, или тот, горячо убеждающий любого сотрудника, что готов за него, за больницу на Голгофу подняться.
– Что-что? – Шея директора багровеет, не решаясь спорить с худым доктором, он, словно ища поддержки, косится на пухлого главврача, более соответствующего ему по должности.
– Коллега Наримантас чудак! – И Чебрюнас что-то доверительно шепчет на ухо директору, не забыв подмигнуть и коллеге – даже доволен игрой, без нее задохнулся бы, чувствовал бы себя ненужным.
– Пусть я чудак, но и вы не меньший, товарищ директор! Приятно вам было бы, чтобы вас на склоне лет по городу собака таскала? Батюшка ваш деревья сажает, а вы ему – Рекса выводить, – зло выкладывает Наримантас и поворачивается к старичку, скребущему редкие седые волосенки роговым гребнем с повыломанными зубьями. – Работай, отец, сажай деревья, но понемногу, по одному. И будешь жить, до ста будешь жить!
– От дела оторвали! Нет у меня времени по больницам таскаться да добрые советы слушать! – Директор выкатывается из кабинета, волоча за собой не успевшего сказать врачам «спасибо» отца. Но долго еще после того, как умолкает перестук его шагов, в кабинете стоит запах другого мира – мира, в котором главное не яблоками лакомиться, а сажать яблони и, если надо, каждый год удобрять да обрезать их. Наримантасу подумалось, что таким был бы и Шаблинскас, доживи он до старости, пусть бы не землей пахнул – бензином. Шаблинскас почему-то занимает и Чебрюнаса.
– Как его электрокардиограмма?
– Шаблинскаса?
Минуту они смотрят друг на друга жадно и подозрительно, как будто каждый знает о том, что больше всего нужно другому, но ни за что не согласится выложить эту свою догадку.
– Честно говоря, неважно. – И Наримантас ощущает под сердцем холодок: а ну как распорядится отключить аппарат?! Ведь практически Шаблинскас…
– Вы уж смотрите там, – вспыхивают и гаснут стекла очков. Опасность миновала.
– Намучились мы с ним…
– Смотрите, смотрите… А старичок симпатичный, а? Зря ты вмазал директору. Хозяйственный мужик. Без таких не обойтись.
– Наверно, доброе у него хозяйство, если собак развел.
– Не защищай ты стариков. Им тоже в наши времена не угодишь. Самостоятельные, пенсиями испорченные! Не покупаешь телевизор – жмот, усадил у голубого экрана – отгородился от отца, не разговариваешь с его милостью! Сада нет – от земли оторвался, берешь участок – он землей по горло сыт, сам пачкайся! У тебя что, разве нет старика?
– Я со своим по другим поводам воюю.
– Видишь, и ты со своим… Все воюем, все, куда денешься!
– Мой старик хочет, чтобы я свет уравнивал, как Тадас Блинда [4]4
Тадас Блинда (умер в 1878 году) – предводитель разбойников, защитник бедноты, мстивший помещикам и царским чиновникам .
[Закрыть]. Маяковского через лупу читает.
– А ты по стопам Блинды, кажется мне, и скачешь! – Чебрюнас, даже шутя, гнет круто, от обороны незаметно переходит в нападение. – Колючий, злой… Тебе не угодишь. Твои больные особые, другие нас и интересовать не должны, только твои.
– Запахло демагогией, или мне показалось?
– Уже обвиняешь! Не себя, конечно, товарищей по работе… Самое удобное – начальников! Ну, чего ощетинился? Чего кидаешься? Я же тебя не упрекаю. У всех бывают… неудачи.
– Что ты сказал?
– А что слышал. Неудачная операция залог другой, более успешной. Так и наш декан говаривал, не помнишь?
– Значит, Навицкене права? Пришел ответ?
– Да, Винцас, да. Злокачественная.
– Почему же санитарки узнают это раньше, чем оперировавший хирург? Может, теперь мне перед ней извиниться?
– Никто тебя не обвиняет, успокойся!.. Только вчера узнали. Радости, конечно, мало. Вижу, переживаешь… Что, этот Казюкенас – друг юности? Жаль, но… Посоветуемся… Созовем какой хочешь консилиум. – Чебрюнас считает, что успокоил Наримантаса.
– Уже консультировались… Во время операции!
– В тебе заговорила амбиция, Винцас.
– Жаль, у тебя ее нет.
– Когда все с колючками, одному приходится быть мягоньким!
– Не мягоньким… Ищейкой! Так и вынюхиваете: кто, откуда да почему.
– А ты, братец, нет?
Нет, нет и нет! Но разве не позвал я главврача в ассистенты, когда укладывал на стол Казюкенаса? Значит, тоже делю больных на простых и привилегированных… А вот упрека от Чебрюнаса не ожидал, это как удар ниже пояса… Чебрюнас продолжает что-то говорить – более мягко и мирно, – Наримантас не слушает, молча сокрушается: болтаем о консилиуме, будто он важнее раковой опухоли в теле ничего не подозревающего Казюкенаса, важнее, чем страшная наша ошибка.
– Чем поможет консилиум, если… – Он не кончает фразы – удерживает протянутая к нему рука Чебрюнаса, короткая, с тупыми пальцами, столь непохожая на руку хирурга, однако принадлежащая небесталанному, даже отличному, врачу. Именно эта рука, гладящая то по шерсти, то против, ставшая хитрой, как будто обладает она собственным разумом, и остановила Наримантаса в решающий момент операции.
Жарко, чертовски жарко, Наримантас уже не может сообразить, зачем приперся к главврачу: узнать то, что давно знал, обвинять или просить о помощи? Яснее ясного видит, как скальпель рассекает ткани живота. Вот он, желудок, многократно просвеченный рентгеном. Оказывается, врос в поджелудочную. Ого, удивился кто-то, наверно, наивный Рекус. Между шапочкой и маской беспокойно блуждали близорукие, залитые потом глаза Чебрюнаса. Чего это он взмок, едва началась операция? Только что пошучивал с анестезиологом, и вот – словно из ушата окатили.
– Вытрите его! – рявкнул Наримантас, кричал не только потому, что взмокло лицо ассистента – пот струился и по его шее, спине, животу. Сестра марлей протирала Чебрюнасу очки, а тот тряс, как лошадь, головой и ворчал, что и так хорошо видит.

– Ого, какой узелок! – снова пропел Рекус, самый младший; ему бы помалкивать и терпеливо ждать указаний старших. – Крепкий орешек, доложу я вам!
– Спокойней, коллега! Какую, черт побери, терминологию употребляете! – Наримантас, скрипнув зубами, продолжал осмотр – щупал и щупал печень, чтобы не надо было глядеть на «узелок», который и не узелок вовсе, а узлище, мерзкий комок, редкая гадость!
– Прошу прощения! – Рекус зачастил, как на экзамене. – Калиозная язва с инфильтратом в область поджелудочной железы.
– «В область поджелудочной железы», – не удержавшись, передразнил Наримантас. – Поджелудочная-то насквозь прошита, а он – в область поджелудочной!
Бормотание Рекуса ему не мешало, напротив, заполняло пустоту – молчал Чебрюнас, любитель поболтать, выдать анекдотец; у операционного стола он чувствовал себя свободным от обязанностей главврача. В операционной приходил в себя, вновь становясь врачом, простодушным институтским приятелем.
– Что случилось, Ионас?
– Ничего особенного. – Чебрюнас подождал, словно смущаясь, и очертил язву скользким окровавленным пальцем, отграничивая и участок поджелудочной железы.
– Прошу прощения, – осмелел Рекус, проследив за пальцем Чебрюнаса, – мне кажется, здесь язва с дегенерацией в опухоль. Да, да!
Наримантас и глазом не моргнул в ответ на атаку ординатора.
– Случай трудный, ну и что?
Рекуса он не боялся, Рекус его по-своему взбадривал, а вот чего не хватало, так это поддержки стоящего напротив Чебрюнаса, не хватало добродушной его болтовни, которая действовала бы успокаивающе, как журчание воды в раковине, как беззвучное скольжение сестер и санитарок, как звон падающих в кювету инструментов. С чего же это ты язык проглотил, друг Йонас? Чем недоволен? Что предстоит трудная и тонкая работенка? Ну и черт с тобой! Наримантас повернулся, протянул руки, чтобы сменили перчатки; эти руки принадлежали сейчас как бы не ему, а какому-то лучшему, чем он, хирургу, главное, они твердо знали, что и как надо делать. Он пошевелил пальцами, торопя сестру, она почему-то медлила. Наконец-то! Дело не в том, что сулит язва, важно, что она перерастает или уже переросла в опухоль – наверняка переросла! – ах ты, гадость!
Рекус заговорил было тоном оракула о лимфоузлах, которые-де не увеличены, Наримантас недовольно буркнул, велел взять материал для анализа и для плановой биопсии – уже из более глубокого слоя. Санитарка двигалась не спеша, словно на прогулке, поспею, мол, «нечего горячку пороть»; Чебрюнас почему-то опал, как тесто, движения у него вялые, а желудок к поджелудочной железе припаялся – необходима ювелирная точность.
– Это тебе, Йонас, не бумажки подписывать! – пошутил грубовато, как привыкли хирурги друг над другом, чтобы подбодрить товарища.
Пока его руки – не его, а может быть, лучшего, чем он, хирурга – делали то, что было самым необходимым, а именно – отделяли желудок от поджелудочной и отсекали поврежденную его часть, – патологоанатом сообщил результаты первой биопсии.
– Что ты еще намерен делать? – послышался голос, которого долгое время не было слышно, голос, вылущившийся из молчания, невнятного бормотания и других бессмысленных звуков, голос Чебрюнаса.
– Будем продолжать, что начали. – Наримантас даже не взглянул на ассистента, все внимание отдано операции.
– По-моему, сделано все. Зашиваем – и к телевизору. Конные соревнования. Не интересуешься лошадьми, Винцас?
– А поджелудочная?
– Поджелудочная?
– Ослеп, что ли? Сестра, протрите доктору очки! Насухо!
– Не надо, я вижу. – Чебрюнас отмахивался от сестры, как от надоедливой мухи.
– Протрите, протрите! Он не видит опухоли, которую заметил даже наш молодой друг.
– Калиозная язва с признаками дегенерации! Принимая во внимание сращение желудка с поджелудочной железой… – Рекус замер с разинутым ртом, только теперь почуяв намечающееся несогласие хирургов.
– Биопсия не показала! Понимаешь ли ты, чем рискуешь? – В голосе Чебрюнаса, все еще дружеском и душевном, послышались нотки раздражения.
– Малое утешение. Смотри! – И Наримантас мизинцем очертил участок поджелудочной железы, который в начале операции отметил и сам Чебрюнас. Упоминание о риске Наримантас пропустил мимо ушей.
– Собираешься тронуть поджелудочную? – Раздражение Чебрюнаса нарастало, хотя оба они были привычны к небольшим спорам. – Гарантируешь, что не получим некроза?
– Что я, господь бог?
– А коль скоро не бог, учти, в лучшем случае получим фистулу, в худшем… Не новичок небось, не мне тебя учить!
– Я оперирую или?.. Кто разрешил расходиться? К столу! – Наримантас сердился напрасно – все стояли, как и прежде, только лица до неузнаваемости вытянулись. – Поехали дальше!
– Не горячись! Давай обсудим спокойно. – Рука Чебрюнаса прикрыла операционное поле… Теперь, по прошествии времени, этот эпизод казался чрезвычайно важным, тогда же Наримантас просто оттолкнул его руку. – Об ответственности подумал, Винцас? – Раздражение в голосе Чебрюнаса превратилось в предостережение, лишь чуть-чуть смягченное дружелюбием.
– О какой еще ответственности?! – Наримантас все еще чувствовал, что его руки лучше его самого знают, что делать, чтобы отвратительный узел перестал существовать. Все остальное было где-то далеко, как гудящий меж холмами город, как его личная, изборожденная заботами жизнь.
– Нет, ты одурел, с тобой невозможно договориться! – Чебрюнас развел руками, мотнул головой, оторвалась и далеко улетела капля пота.
– По-моему, коллега Наримантас прав, а коллега Чебрюнас… – начал было Рекус.
– Вашего мнения здесь не спрашивают! Слышите? Не спрашивают!
Наримантас прикрикнул не порядка ради, а со злобой, чего не любил делать, и Чебрюнас решил, что уломал его.
– Биопсия отрицательная, случай чертовски сложный: поджелудочная и так далее… Советую подумать о больном.
– Но… – Руки, готовые к манипуляциям, дрогнули, как от удара. – Во имя чего же мы бьемся, если не?..
– Все еще не соображаешь, кого оперируешь? Поджелудочная, здорова она или нездорова – неясно, а он – товарищ Казюкенас, величина! Думай, ты хозяин. – Чебрюнас деланно зевнул, подчеркивая свою, как у чернорабочего, подсобную роль, марлевая маска чуть не вся влезла в рот.
– Но ведь поджелудочная, Йонас, поджелудочная! Взгляни еще разок!
«Как хочешь, а я умываю руки!» – Чебрюнас отступил от стола.
– Торопитесь! – Глаза анестезиолога черными жучками начали бегать от одного к другому. – Давление падает… Торопитесь!
Послышался треск, словно перегорела лампа или кто-то неосторожным движением толкнул столик с инструментами. Нет, не перегорела, и столик никто не толкал, Наримантасу померещилось, в его мозгу замелькали картины, ничего общего не имеющие со стерильной обстановкой операционной… В куски разлетелось согласие, объединявшее хирургов, пусть даже спорили они иногда друг с другом… Наримантас огляделся, словно его вывели за красную линию и был он уже не врачом, а лишь человеком, обряженным в доспехи хирурга, и товарищи его изменились, они тоже не такие, какими были минуту назад, они тоже – только облаченные в одежды прежних. Сплотившиеся плечом к плечу, знавшие свои роли, место и последовательность движений, они рассеялись, словно разбросало их ветром. Неподвижно стояло в глазах единственное лицо, на которое Наримантас прежде старался не смотреть. Вылезло, не желая больше таиться под простыней, в нивелирующем тумане наркоза. Уже не маска вместо лица, безымянная, надежно ограждающая хирурга от оперируемого. Знакомое, отлично знакомое лицо… Человек. Личность. И черты его измученного лица не хотели исчезать, покоряться бесформенности. Они умоляли, заискивали, угрожали… Кто-то заговорил о погоде, об удачных покупках – кто, если не женщины? Обожгли ненависть к Чебрюнасу и презрение к самому себе за то, что не решился сделать, как хотел и как следовало, ведь не сомневался, нисколечко в тот миг не сомневался, что надо подрубить корни опухоли, злокачественной опухоли! Рак! Услышал голос Навицкене – гадкое, визгливо выводимое дегтем ка белизне стен ненавистное слово. Зашивая разрез, не сомневался в своем диагнозе, сомнения нахлынули после, уже когда сбросил насквозь пропотевшую одежду: кто знает, может, Чебрюнас и прав? Не о своем авторитете заботился – о больном, независимо от того, кто он такой, некий Казюкенас или товарищ Казюкенас, неважно, перебежал он тебе когда-то дорожку, даже не поинтересовавшись, кто ты есть, или встречаетесь вы впервые, правда, при неравных, страшно неравных условиях… В глазах стояла набухшая поверхность поджелудочной железы, и Чебрюнас, уставившийся теперь в скучный отчет, прекрасно тогда все видел, однако операционная уже перестала быть нейтральной землей, на которой не должны действовать мелкие эгоистические соображения: сосредоточенный, словно перед, сражением с врагом, строгий ее покой уже оскверняли запахи и шумы ярмарки.
– Значит, собираем консилиум? – Чебрюнаса тоже мучила неуверенность, может быть, даже чувство вины, но теперь он был облачен в доспехи главврача и не собирался представать в беззащитной наготе перед своим обвинителем. – Какой состав предлагаешь?
– Иду к патологоанатомам.
– Что, не веришь? Сам же орал, что опухоль.
– Я теперь во всем сомневаюсь.
– Напрасно, Винцас. Хотя случай, я согласен, особый и неприятный…
Чебрюнас все больше дивился Наримантасу – не пытается ни выкручиваться, ни обвинять, хотя мог бы, – и внутреннее напряжение главврача начало спадать; незлой был человек, недаром больные к нему, как мухи на мед, летели.
– Послушай, Винцас. Что ты дурака валяешь? Тебе же нечего бояться. Если и ляпнул я что-то, прости, браток, погорячился. Подумай, разве имел ты право рубить сплеча? Поджелудочная – не аппендикс. Никто бы на твоем месте, поверь!.. Знаменитый Бернард и тот предварительно запасается подписями, ха-ха!
– Да я, Йонас, и не боюсь…
– Так что же ты, скажи, что? – Чуть ли не со стоном ухватил Чебрюнас за лацкан той самой рукой, которая удержала в решающий момент. – Биопсия есть, мы свидетели. Ситуация изменилась лишь после основательного гистологического исследования. Вот теперь и будем принимать меры. Ты ведь, кажется, уже принимал? – Чебрюнас хитро подмигнул. – Что кололи ему вместо витаминов, а, признайся? Прекрасно! Между нами говоря, – взгляд Чебрюнаса скользнул вниз, покопался в ящике стола и вернулся, стыдливо помаргивая, – служебные дела товарища Казюкенаса не того… Ему бы здорово шею намылили за самовольное строительство, если бы не болезнь… Слыхал что-нибудь?
– Не думал я, Йонас, что так по-свински!.. Ты и я… оба… Так по-свински! – Наримантасу показалось, что Чебрюнас высказал его тайную мысль; она еще не родилась, еще только скреблась где-то, но уже отравляла кровь и выплыла бы, когда приперли обстоятельства. – Только чтобы выглядеть чистенькими перед начальством, так, да?
Говорили двое, отчетливо, громко, словно давали показания в суде, где он, Наримантас, был подсудимым:
– Чего Наримантас взбеленился, не понимаю! Предложил ему рюмку – чуть в глаза не выплеснул. Скоро люди будут помещаться на земле, только стоя на одной ножке, как аисты. Больных миллионы! За каждого сам под нож не ляжешь. Не отмучаешься! Не умрешь! Прости, Рекус, что правду-матку режу Мы-то знаем, неосторожно полоснул – и каюк!
– Позвольте и мне слово вставить, доктор Жардас Вы никогда не испытывали желания влезть в шкуру оперируемого? Побыть на его месте?
– Я не псих! По-моему, это Наримантас распсиховался. Наболтал Чебрюнасу невесть чего! Хорошо, что Йонас – парень с головой. Так-то. А насчет вашего вопроса… Достаточно своя шкура тешется, чтобы в чужую лезть, которая еще больше зудит!
– Смотрю я на вас, коллега, и думаю: кто вы такой, доктор Жардас?
– Ха-ха-ха! «Кто вы такой, доктор Зорге?» Кино было. Я, сдается мне, хирург, и пожалуй, довольно сносный. Дайте мне операционную доктора Бернарда, его инструментарий, медикаменты и обслуживающий персонал, так, может, и я кое-что… по правде-то, об этом не мечтаю, просто к разговору нашему… Мне ладно и как есть! Попотеешь, помашешь нашими косами, потом разгружаешься… Нет ничего лучше, братец Рекус, чем гудящий пивной бар! А утром – следующий на стол! Как, папаша, не боязно? Потерпи и сможешь жениться!
– Я не сомневаюсь, что вы хороший хирург, но…
– Жаль, что ты не любитель пивной пены, Рекус. Сводил бы я тебя в один бар… Буфетчице в прошлом году грыжу вправил – вход со двора, как начальнику продторга!
– Благодарю за честь, но разве этого достаточно? И нам, и другим, так называемым интеллигентам? Где просто человек, доверяющий нам самое дорогое, что у него есть, – свою надежду? Выздороветь – значит не только на ноги встать, но и воскреснуть! Да, да! А нас все чаще интересует не сам больной, а занимаемый им пост, его должность, гонорары, звания, шикарная квартира, еще лучше – собственный домик, не помешают выгодные знакомства, связи… Не кажется ли вам, доктор Жардас, что это страшнее, чем фантастическое столпотворение одноногих жителей Земли, которое вы предсказываете?
– Дорогой Рекус, ты вот читаешь, сам пописываешь – для хирурга это гибель. Живи, как все, не дури себе голову, с ума сойдешь! Этого еще не хватало, чтобы мы самих себя начали бояться… Мы, хирурги!
– Не себя, Жардас, равнодушия, отупелости. Когда не остается места чувству, блекнут и долг, и ответственность.
– Поговоришь с тобой и без вина, ей-богу, пьян становишься!
Наримантас слушал, как препираются Рекус и Жардас. Его слова, его мысли! Не хватало еще, чтобы себя начал бояться?.. Себя и боялся, говоря с Чебрюнасом, себя, не перестраховки главврача, даже не ошибки при операции – кто не ошибается? Себя боялся… И продолжаю бояться… Неужели сомнение в других – лишь оборотная сторона этого страха? Я боялся себя, как в детстве таинственной рыси…
Отцовская сермяга на крюке, покосившиеся избы, окраина волостного городка – подернутая туманом Земля удаляется, как огромный мяч, а вокруг в беспредельном пространстве повисает вечный холод, сковывает цепями ужаса ноги, сжимает незащищенное сердце. Кажется, само небо располосовано когтями рыси…
Потом, когда царапины на белесом небе превращаются в перистые облака, а избы снова, как вороны, усаживаются по обочинам проселка, он вспоминает себя бегущим. От проклятого запаха, от проклятого притяжения, тащившего его к зарослям ивняка, за которыми метался взад-вперед ужас. С гумна его выставил отец, сунув бутылку с притертой пробкой и наказавший отнести Казюкенасам, далеко, за несколько километров. В руках плескалась бутылка с риванолем для дезинфекции хлева – что-то случилось с Казюкенасовой свиньей, постоянно болела и дохла у них скотина; землю и скот получили они от властей в сороковом.
– Ты чего приперся? Нельзя к нам! – Это один из Казюкенасов, босоногий мальчишка; его давно нет в живых – той ночью, когда сожгли их лачугу, он тоже превратился в горстку пепла, – но тогда еще прыгал на груде бревен, сваленных у стены покосившегося помещичьего амбара, над которым гордо высилась труба. И хлев громоздился во дворе, и телега с поднятыми оглоблями, и новые бидоны на двух, за зиму не стопленных столбах – будущих воротах.
– Почему, Петркжас? Я же лекарство принес.
– Хочешь краснухой заразиться?
– Винцас в гости пожаловал? – пропела от колодца худая высокая женщина с запавшими глазами, тоже босая, и ее уже нет, потому что это Казюкенене, родительница босых голодранцев. – Не слушай, что он болтает, свиная хворь к людям не пристает! А как поживает господин доктор? – Старшего Наримантаса она уважительно величала доктором, он не возражал, говаривал: «господин доктор» лучше, чем камень в окно. – Алексас только намекнул, а господин доктор… Спасибо, спасибо! – Алексас – гордость Казюкенасов, Александрас, через много лет большому человеку Александрасу Казюкенасу он, Винцас, став хирургом, вспорет живот…
– А где он… Алексас?
Не подошел; нахмурившись, приглаживал ладонью волосы, всем, даже манерой стоять, стремясь выглядеть старше своих дет. Потоптался меж двух елочек и ушел, почти демонстративно показав спину. От меня бежит? Что я ему плохого сделал? И сразу посерело вечернее красное небо, погасли отблески на стене амбара и на лицах – земля вращалась без оси, без Александраса… Казюкенене сникла, но запела еще ласковее:
– Придет, сейчас придет! Веди, Петрюкас, гостя в избу. Задам скотине, тогда сыром угощу и яблочным кваском, свеженьким!
Петрюкас покрутился и тоже исчез.
– Гам! – коротко, как-то странно, по-собачьи кашлянула самая старшая в их семье – мать худой и бабка Петрюкаса и Александраса. Сидела она у маленького зарешеченного оконца, ржавый прутик как бы надвое делил ее лоб. – Гам-гам!
– Собачку дразните? – вежливо поинтересовался Винцас, не обнаружив во дворе их собачонки. И еще было странно, что старая без платочка, седые волосы торчат клочьями. Не особенно охотно вошел в избу, поздоровался: – Слава Иисусу Христу!..
– Гам-гам-гам? Чего тебе? Сгинь! – Старуха жгла его черными, словно уголья, воспаленными глазами.
Винцас я, ветеринара Наримантаса сын. Риваноль вам принес, бабушка.
Старуха не признала, хотя бывал тут не раз и она всегда ласково спрашивала, скошен ли уже луг, ставят ли вдоль дорог копны ржи. И снова странно загавкала, дразня собаку, которой не было ни в комнате, ни на дворе; в ее сухой груди что-то хрипело и булькало, яростно рвалось наружу, слов, казалось она не понимает.
– Гам! Пропади, сатана!
Их разделял стол, большой, из плохо пригнанных досок, в пятнах и саже от чугунов, которые почему-то в беспорядке валялись на полу. Не коснулась бушевавшая здесь недавно буря только кружки с водой, стоявшей на столе. Склонившись над ней, Винцас увидел свое перекошенное лицо. Сидевшая напротив старуха, выставив темные скрюченные пальцы, бочком двинулась к нему. Она приближалась так медленно и страшно, что внезапно повеяло запахом зверя, от которого он не раз бегал. Между ними было пространство стола, поднатужившись, можно было толкнуть стол и отгородиться, но Винцас лишь взял в руки кружку – как бы не пролила. Старуха отпрянула, словно дернули ее невидимые удила.
– Печень вырву! Воронам выброшу! – закричала она, но не двигалась, пока он сжимал кружку, а в ней дрожащее на поверхности воды, пытающееся улыбаться отражение своего лица; не подумал даже, почему схватил кружку, – обыкновенная зеленая эмалированная кружка, внутри белая, их давали в обмен на тряпье. Со стуком, бледная от испуга, влетела Казюкенене.








