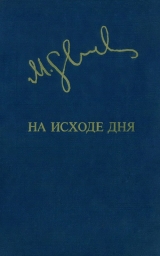
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)

– Слушай! Присядешь наконец или мне сматываться?
Одурев от табака, не сразу сообразил, меня или кого-то другого зовет прислонившаяся к стене Сальвиния. Потянулась к сумочке, которую я по-идиотски продолжал сжимать в руке. Не отдал, уселся рядом на свое спартанское ложе, она отпустила ремешок сумки, прижалась. Совсем близко ощутил ее украдкой царапающие ноготки, почти неподвижную, туго обтянутую грудь. Рванулись и заскользили по шероховатой материи руки, повернул к себе, как слепой, на ощупь нашел губы – отрезвляюще пахнуло алкоголем. Пьяна? Снова пьяна?
Мы покачивались, переплетя руки; искусственная атмосфера покидала нас, как в разгерметизированном космическом корабле. От бездумной, окутавшей меня доброты остались жалкие обрывки.
– Дурачок… Алкоголь не мешает. Спросил бы у мужиков.
Брезгливо отстранился, Сальве свалилась на топчан, будто ее толкнули. Обняла подушечку, поджала ноги, предусмотрительно стряхнула с них лаковые туфельки. Тлели окурки, вонял пепел, однако все эти «ароматы» забил запах водки. Значит, и водка пошла, не только коньячок или джин? Передо мной была уже не сверкающая Сальве, которой я восхищался, и не усталая, которую, оказывается, жалел, а просто плюющая на себя шлюха.
– Не стану возражать, если соблаговолишь отправиться восвояси.
– Ты что-то говоришь? – Она потерлась щекой о подушечку, провела рукой по сбившейся на бедро юбчонке.
– Допустим, меня не уважаешь. Но себя-то? Что они сказали бы?..
Кто они? Очухайся, осел! Мейрунасы, давно потерявшие надежду выгодно сбыть ее с рук? Наримантасы? На совесть мою они тоже давно рукой махнули. Омар Шариф или Арис с лошадиной мордой? Это же умора – толковать о морали с Сальвинией Мейрунайте? Блестящая юбочка задиралась все выше, обнажая впечатляющее женское бедро. Вялая рука Сальве и не собиралась поправлять ее.
Может, думаешь, что я… Что и впредь удастся подкладывать мне свинью за свиньей?
– Наставления свои побереги, знаешь, для кого? – Она сонно зевнула. – Раз уж такой рыцарь, свари-ка лучше кофе.
Саданув дверью с такой силой, что закачалась секция, я опрометью кинулся готовить кофе. Вернулся из кухни – Сальве не шелохнулась. Лежала помятая, опустошенная, словно обгоревшая на огне бабочка, нисколько не озабоченная впечатлением, которое производит ее внешность. Лишь кольца и серьги продолжали нагло поблескивать. Спит? Она спала. Даже похрапывала. Грудь сжала безнадежность – вроде не в свой поезд сел и обнаружил это слишком поздно, когда тебя уже далеко-далеко завезли, так далеко, Что не сможешь возвратиться назад, даже если и попытаешься. Не прикоснулся, ей-богу, не прикоснулся к ней, но чувствовал себя так, словно взял обманом и оттолкнул. Мучили омерзение и одновременно жалость неизвестно к кому: к себе, или к ней, или к чему-то, что могло получиться у нас иначе и не получилось Вскоре жалость превратилась в досаду, а досада в ненависть. А что, если все это продуманная игра, ловушка? Ведь уже не я за ней, она за мной бегает.
– Сальве, надо поговорить! – Тряс ее за плечи до тех пор, пока не проснулась.
– Господи, так сладко дремала! Как в детском саду. У нас там воспитательница была – вот соня! Мы спать – и она. Как уляжемся после обеда, так и прохрапим до вечера.
Села. Потянулась. Чуть было снова не поймала меня теплыми, уютными от сонного забытья руками.
– Остынь! – Я резко отвел ее руки и почувствовал себя дураком, не взрослым человеком – мальчишкой, которому недолго залиться слезами.
– Послушай… у тебя что, угрызения совести? – Брови Сальве беспокойно вздрогнули, она смотрела на меня, как я на нее спящую, недоверчиво и сожалеюще.
– Катись ты… Кореша жду.
– У таких, как ты, не бывает друзей.
– У тебя, разумеется, навалом!
– Нет, Ригас, и у меня их нету. Ты чересчур чувствителен, напряжен весь. Будто слишком туго натянутая струна. – Сальве осторожно подбирала слова, чтобы не задеть, не сделать мне больно, ее усилия меня сдерживали. – Таких не очень любят.
– Ну уж о тебе подобного не скажешь!
– Да. Ты – перетянутая струна, а я – спущенная.
– Признайся, много выпила?
– Немножко. Так, для храбрости. Эх ты, дитенок!
– Что? Я противен тебе? Ну говори, противен?
– Дите ты малое, – она потерлась щекою о мою, стараясь не дышать на меня перегаром. – Где же твой кофе? – Налил чашку, она, обжигаясь, отхлебнула. – Это я должна была мучиться, я отвергнута, не ты! Ты же мой ангел-хранитель!
– Допивай и езжай.
– Дите! – Она жадно прихлебывала из чашки. Был бы ты мне противен, и водка бы не помогла. При чем тут ты?
– Что, я пустое место?
– Плесни еще чашечку. – Я налил с гущей, теперь она пила спокойнее, языком слизывала с губ крупинки кофе. – Зачем ерунду болтать, если знаешь? Любила другого.
– Был, значит, у тебя муж?
– Муж – не муж. Любила, и все дела… Ты же славный парень, Ригас. Разве так трудно понять?
– И сейчас любишь? Только не лги! Любишь этого проходимца, этого Омара?
– Стараюсь забыть. – Бросила мне благодарный взгляд: даже прозвище его звучало для нее музыкой! – Выпью и освобождаюсь от него. Снова товарищей, друзей вспоминаю… Тебя…
– Спасибо!
– Ревнуешь, дурачок? Смешно! – Она вскинула глаза, но острый взгляд не задел, скользнул мимо Сальве хотелось говорить не обо мне, о нем.
– Ну так беги, лети к своему Омару! Дверь не заперта. – Я встал и широко взмахнул рукой, как бы вышвыривая ее из комнаты, но она не шелохнулась.
– Нет его, понял? Нет и не будет.
– А мне безразлично.
– Подлец он, понимаешь? Подлец. Дважды женат и не разведен!
– Говорю же, беги, умоляй! Может, пожалеет на один вечерок?
– Судить его будут за двоеженство… Господи, как одурачил всех! – Она уставилась в пустоту, куда в последнее время, вероятно, часто глядела, стремясь забыть обо всем.
– Что же, наученная горьким опытом, надеешься одурачить меня?
– Тебя? – Сальве презрительно и сухо усмехнулась, как тогда, во дворе велосекции, когда я выдирал из стойки свой велик, а она сидела на солнышке и не собиралась ехать со мной. – Насмешил, деточка! Тебя? – повторила она, проглотив злобный смешок, голубоватым от кофе языком вылизала из чашки последние капли. Ты не пирожное, одним куском не проглотишь. Если хочешь знать, я даже побаиваюсь тебя. Да, да, ты человек опасный! – Сальве прислушалась к собственным словам, словно их произнес кто-то другой, и поторопилась отвернуть в сторону от неприятного для нас обоих намека. – Прикажешь – явлюсь трезвая… Я и теперь уже как стеклышко… Не бойся, приставать не стану! Ты милый мальчик! Еще не мужчина – мальчик… Все тянула, тянула, не решалась позвонить тебе, а мне с тобой хорошо. Почти хорошо. Теперь, когда ты все знаешь…
– Все?
– Всю правду-истину, милый мой мальчик!
– Не называй меня так! Терпеть не могу!
– Хочешь, чтобы подлецом, как его?
Мы обменялись полными ненависти взглядами. И в ее и в моих глазах проглядывали досада и боль оттого, что мы не такие, какими могли бы быть. Но если чудом вернули бы свою чистоту, вероятно, не нужны были бы друг другу…
– Спасибо за кофе. Не проводишь?
Я не двинулся с места. Сальвиния трезво встряхнулась и выплыла в дверь, размахивая сумочкой, сверкающая, элегантная, будто и не валялась только что, мятая и жалкая, на моем жестком ложе. Слышал, как рывком открыла дверцу автомобиля – опять не заперла, назло мне, что ли? Включила ближний свет, он плеснул на улицу. Я распахнул окно, в комнату ворвался воздух, однако кислый запах окурков и пепла не исчезал. Казалось, все вокруг – вещи и я сам – было пропитано этой вонью, засыпано пеплом. Моя берлога, мое логово, где я мог скулить, как побитый щенок, уже не мое? Стреляло в пальце, и боль отдавалась во всем теле, точно крапивой его исхлестали. А щека еще ощущала бархатистую кожу Сальве – ни с чем не сравнимую нежность отдающейся женщины. Я сражался с этой обволакивающей меня нежностью, свирепея все больше и больше: какое коварство, какой цинизм! Проклинал себя за мягкотелость: надо было выгнать, плюнуть в пьяные глаза… Подстилка Омара Шарифа, вот ты кто! Слишком поздно сообразил, почему решился пригласить ее к себе. Собирался хладнокровно расквитаться за то весеннее поражение, да и за недавнее – около «Волги». Все получилось не так, как я задумал, хоть и не прикоснулся к Сальве – наоборот, оттолкнул ее. И все же чувствовал себя, словно воспользовался обмякшим, не способным к сопротивлению телом.
Шлюха, форменная шлюха! Я сжимал кулаки, все сильнее возбуждаясь от никак не выветривавшихся запахов – дыма, водки и еще чего-то сладковато-приторного. Запах ее голоса, запах воспоминаний о ее лениво потягивающемся теле. От подушки тоже тянуло запахом Сальве – ее духов. Этот аромат свидетельствовал, что здесь побывала изысканная женщина. Так пахнет роскошь, не растоптанная стадом стандартных слонов! А тягостные запахи? Что ж, каждое явление, каждый предмет имеют оборотную, непарадную сторону: в шикарнейшую мебель там, куда не проникает глаз, загнаны гвозди. А автомобиль?. Нету махины гаже – сверкающий полированный кузов и заляпанное грязью и маслом днище. И в человеке то же самое, разве нет? Поэтому к черту потаскуху Сальве! Даже не глядеть в ее сторону! Забыть, что живет в этом городе, что вообще существует! Хотя подобные клятвы я уже давал, когда еще в восьмом классе учился… В то время частенько заговаривала со мной и Викторасом толстоногая девчонка, ну и лопала же она мороженое на наши гривенники – по пять-шесть порции разом – и беспрестанно хихикала, покажи палец – зайдется! Иногда видели ее среди рослых десятиклассников, со спины и она выглядела старше. Всячески выказывала свою благосклонность мне, не Викторасу – они друг друга не очень любили. Бреду, бывало, в одиночку, безотчетно надеясь встретить ее; глядь – тут как тут! И все пристает, в гости напрашивается, разумеется, в отсутствие предков. Смех мутный, как поток грязной воды вдоль тротуара после дождя. Ничего я о ней не знал: ни кто такая, ни где учится, ни сколько лет. Долго выкручивался, пока наконец не решился пригласить. Едва нырнула в дверь, пустилась вприпрыжку к шкафу, перебрала все платья Дангуоле. Щупала, гладила складки и бантики такой не по-детски грубой рукой, что неприятного впечатления не смягчал и бездумный захлебывающийся смех. А теперь покажи, где твои папочка с мамочкой играются… Бросилась бегом в спальню, стянула на ходу юбчонку и повалилась навзничь на двуспальную родительскую кровать. Смех прекратился. Высились, словно два холма, толстые белые бедра. Зачем показывает свои голые ноги? И вдруг, точно молнией озарило, дошло! Я кинулся в дверь, прогрохотал по лестнице, едва поспевая за своим прерывистым дыханием. Было странно, что никто за мной не гонится, что под ногами не разверзается земля, а на улицах полно девчонок, которых я нисколько не интересую. Вечером того же дня Дангуоле хватилась колечка и блузки. Нашли подозреваемую, обнаружили пропажу.
Никакой восьмиклассницей она не была, училась в торговом техникуме. Я дал себе клятву: обходить ее стороной, что было совсем нетрудно, подумаешь о толстых бедрах – тошнит! Потом долго избегал девчонок. Обстоятельство это, в свою очередь, закаляло меня на пути к цели – вырваться, пойти далеко, совсем не в ту сторону, куда собирались приятели мои, Викторас с Шарунасом, и достичь большего, чем удалось отцу с матерью…
Странное дело, воспоминания, которые должны были бы укрепить мой дух, помочь выкинуть Сальвинию из головы, неожиданно склонили чашу весов на ее сторону. Предлагала себя, желая забыть прошлое? Только потому пила, что не могла найти иного средства? Средства забыть и забыться, сгладить разницу между тем, другим, и мною, нелюбимым, хоть и знакомым с детских лет? Таскаться с кем угодно – не в новинку для Сальве, но любить, а потом от безнадежности заливать горе алкоголем? Еще в школе преследовала она одного инструктора аэроклуба – спокойного, неразговорчивого эстонца. Побилась об заклад с подружками, что соблазнит этого бывшего военного летчика, который чудом остался жив во время испытаний нового самолета. Чуть не теряя сознание от страха, дважды прыгала с парашютом – только бы очнуться в его объятиях, но инструктор интересовался лишь ее парашютом. Так и уехал непокоренным. А ее турнули из аэроклуба за моральное разложение – с горя устроила пьянку… Сколько раз объявляла Мейрунайте о своем обручении, браке… удаляла с помощью абортов последствия поспешных связей… И все-таки способна любить? Мучиться из-за чувства, над которым надругались? Может, на самом деле она не такая, как многие? Совсем другая, чем представляю ее себе? Нет, нет! Здесь игра, все заранее срежиссировано, чтобы набить цену на залежавшийся товар. А вдруг – ответный ход в шахматной партии, начатой не мной, а кем-то другим? Разумеется, если вообще возможно начать что-либо, если завязки всех начал не предшествовали нашему появлению на белый свет – до того еще, как отделилась от хаоса светящаяся пылинка нашего сознания. Едва ли является для Сальвинии тайной, что она, даже такая, как есть, нужна мне… Однако признавать это – что нужна! – я не желал, клялся не видеть, не встречаться А как же моя цель? Какую цену придется платить, когда действительно достигну цели? Заляпанное днище машины – чистая роса по сравнению с той грязью, которая окатит с головы до пят, даже если из снимаемого фильма удастся вырезать кадры с другой девушкой по имени Влада. Как славно бы не думать, особенно о том, чего нет и, может, не будет никогда. Неужели подобная сумятица в башке именуется совестью? Я полагал, что давно уже разменял ее на трезвые взгляды.
…Купленный на барахолке бампер продолжал позвякивать в багажнике лимузина Сальвинии. Не означает ли это, что мы без слов согласились играть в четыре руки многоголосую мелодию? Вряд ли. Однако судьбами человеческими распоряжаются таинственные силы, и даже в пустяке может сверкнуть отблеск их могущества.
Я притаился в темноте; в глазах искры, в голову словно шипы понатыканы, и кто-то размеренно марширует по ней, с болью загоняя острия в череп. Лучше уж зажмуриться, чтобы не видеть бьющих в жуткую безумную ночь искр. А еще лучше залезть под душ, ловить горячечным ртом холодные колючие струйки и чувствовать, как отмачивается, мягчает и сваливается с тебя кусками корка запекшийся грязи. Но в ванне засел Наримантас-старший, сумрачно и безнадежно хлюпает там – затеял стирку, мокрые мыльные тряпки, кажется, хлещут тебя по лицу. Странно, очень странно, ведь он готов был куда-то податься, может, даже улететь, а вот старается пустить корни здесь. Не помню, чтобы отец хоть когда-нибудь стирал, всех-то делов – позвать санитарку или сестру, та же Нямуните опрометью прискакала бы, наконец, Жаленене предлагала снести в прачечную, так нет, сам трет, полощет, отжимает… Заикнись только, зачем, мол, ответил бы, что стирка для него удовольствие, любая работа – удовольствие. Оправдание мудрых неудачников! Не слишком опечаленный, я бы даже сказал, образованный бегством Дангуоле, снова взывает к ней, неумело стирая свои исподники? Невозможно ведь делать работу Дангуоле и не думать о ней! Да, внеплановый потоп в ванной… Не сбилась ли с курса на голубую звезду его ракета? Как там капсула с Казюкенасом? Не вышла ли из повиновения доктору Наримантасу? Нет-нет! Никаких катастроф не жажду, пусть исчезнет призрак с косой, пусть по-прежнему нерушимо стоит наша семейная стена – о ней позаботятся осторожные пальцы времени… Заляпанный мыльной пеной Наримантас стирает в ванне, а я, зачарованный его таинственным величием, едва не превратился в ползущую вслед тень… Как ребенок, радовался, отрезав Зубовайте: шпионить за отцом не буду! А ведь она только хотела ясности, и ничего больше, этой же ясности не хватает отцу и всем остальным… К черту всех остальных! Вовремя я все-таки спохватился, не связал себе рук, не брякнул отцу про Зубовайте. Правда, затекшие мои рученьки дурно пахнут. Хоть и погнушался было сотенной, а разменял. Не иначе, эта пенсионерка-иллюзионистка наколдовала! И одежда, даже трусы, воняет, но на сей раз – пусть она не радуется! – от домашнего пива… Терпеть это горькое пойло не могу, свинство поить такой гадостью интеллигентных людей!.. Что ни говори, а родители Ариса – деревенщина, хоть и топчут асфальт уже лет тридцать. Если по такому поводу не пенились реки шампанского, а шипела только заквашенная полуслепой теткой горькая жижица, сочувствую я Арису. Может, морда его лошадиная была бы лучше отесана, если бы не папаша – крыса с базы и не мамочка – мышь из магазина. Районному военкому чуть ноги не целовали, чтобы перезрелого, единственного их отпрыска заново им родили. Чего они ждут от армии – чуда? Стены дрожали от грохота наших каблуков и электронного усилителя. А потом мальчики-жеребчики взломали двери чердака, и весь табун устремился в темноту. Тут уж не одно пиво хлестали – мешали с водочкой. Арису-то скоро полы в казарме драить, чего ему жалеть головы приятелей – пусть дуреют паразиты, идиоты, подлецы!.. Только и умеют, гады, лизать родительские зады… Лучше и не вспоминать, что учинили, Мейрунайте вровень с парнями пила и ластилась всю ночь, будто кошка. Но стоило мне пустить в ход руки – сжимала их своими, как клещами Рассердился, откачнулся от нее – клещи ослабли, расширенные зрачки облили презрением.
– Если не терпится, вон Гражинка! А я погожу.
Возненавидел я в тот миг и темный чердак, и плоскую, как селедка, Гражину, и такую пухленькую аппетитную по сравнению с ней Сальве.
– Ты что, больна?
– Не хочу, и все, – не обиделась она.
– Так чего жмешься?
– О будущем думаю.
– А Шариф твой?
– Его судить будут. Розыск объявили.
– Так уж и судить?..
– Не знаешь адвоката Мейрунаса?
– Действительно! Уж если венецианскую люстру раскопать может, что ему алиментщика найти? Поздравляю!
– Не издевайся. Больно, Понимаешь?
– Ладно. Побуду за няньку. Идем танго танцевать.
Кое-какое расстояние между нами остается, но всем телом ощущаю ее живот, бедра, груди.
– Почему не целуешь меня? – равнодушно вопрошает она, и, отыскав губами ее насмешливый рот, я почувствовал, что голова пошла кругом, еле на ногах устоял – зашатало. Неужто все так просто, надо только наклюкаться? – Провожать не ходи. Я должна с Арисом проститься.
– Это ты всерьез?
– Отныне все буду делать всерьез.
– Ну и плевать!
– Потерпи, не плюй. Я с Арисом прощаюсь, а ты, не откладывая, с Владой! – Протягивает мне стакан чокнуться, с удовольствием опрокинул бы пиво ей за пазуху, в глаза бы выплеснул – даже пьяная, она насквозь видит меня, единоборствующего с порядочностью Наримантасов и призраком Влады.
Плевать! Сто, тысячу раз плевать! Во рту точно полк солдат ночевал, голова раскалывается, на куски расползается. Не плеснул я Сальве пивом в ее бесстыжие глаза – не принял, но и не отверг ее ультиматума, выдул стакан и, пошатываясь, побрел домой. Вот и валяюсь, хотя давно уже светло. Отец упорно плещется в ванне. Его ракета сбилась с курса, а моя, хоть и вызывает рвоту, на зависть точна – летит прямо к цели.
10
Маленькая палата, тишина и покой. Где-то там, далеко, остался Шаблинскас, его бесконечный бред, остались кликушеские заклинания Шаблинскене. Казюкенас до сих пор не в силах без содрогания вспоминать ее упреки, казалось, не мужу, ему… Можно перевести дух, не испытывая неловкости, прислушиваться, как возвращаются силы, нашептывающие о будущей жизни, о еще не использованных малых и больших возможностях Он не перестал интересоваться недавним соседом, однако не слишком горячо, осторожно, словно боясь наступить на край доски – как бы другой конец невзначай не ударил по нему. Безнадежное состояние Шаблинскаса напоминало о кошмаре, которым был охвачен он сам, когда сознание прояснилось после шока. Вот она, следующая ступенька вниз, безостановочное погружение в неподвластные человеку глубины, за которыми нет ничего. Настоящие и выдуманные ужасы гораздо меньше стали мучить Казюкенаса, после того как избавился он от Шаблинскаса. Неопределенный страх, что от него самого, возможно, скрывают диагноз, тоже как бы остался в той палате, с Шаблинскасом. Теперь его, Казюкенаса, беды стали вроде бы уже и не его, а человека, которого связывали с миром лишь девяносто шесть рублей.
Не надо больше отворачиваться, когда ешь – ведь беднягу Шаблинскаса кормит капельница, не надо закрывать глаз, когда преющее тело соседа протирают спиртом ничем не брезгующие руки сестры, и запах, быть может, воображаемый, запах разложения больше не мучит. А главное, это пробуждает в душе Казюкенаса глубоко запрятанное чувство стыда, которое ему еще доведется преодолевать! Главное, не станет он больше вытирать среди ночи холодный пот, тщетно пытаясь отыскать какой-то ответ на внушенные бредом Шаблинскаса вечные вопросы бытия. Бред, бред обреченного на исчезновение и забвение!.. На расстоянии уже почти непонятно, как вообще могла прийти в голову такая нелепость – будто не отличающий света дня от мрака ночи Шаблинскас странным образом общается со звездами!.. Бред, сон с открытыми глазами, только бредит уже не это запеленатое в бинты бревно, а он сам, человек, не привыкший к бездействию, к ожиданию от кого-то милостей… Черт с ним! И все-таки Казюкенасу хочется видеть одобрение на лицах окружающих, он опасается, что его осуждают за бегство из той палаты, как будто он обещал быть с Шаблинскасом до его последней минуты и не сдержал слова.
Доктор Рекус как мог успокаивал Казюкенаса, Касте Нямуните в ответ на его прямой вопрос лукаво рассмеялась, наверное, никто из посторонних не слыхал от нее такого смеха, и сказала: «Рыбка ищет, где глубже, а человек – где лучше, я бы на вашем месте не переживала!» Мнение Наримантаса Казюкенас узнать и не пытался, оно было слишком явным, таким недвусмысленно явным, что они оба какое-то время старались не встречаться глазами. Сначала казалось, что врач разочаровался в больном, разочаровался в своих собственных усилиях и влиянии, словно главной его заботой было не вылечить Казюкенаса, а переломить его, поставить в один ряд с Шаблинскасом. Потом разочарование сменилось удовлетворением, быть может, даже радостью, правда, не скоро: долго сопротивляясь этому, Наримантас наконец тоже связал воедино судьбы обоих больных; пусть бегство Казюкенаса – еще не спасение, но, оторвавшись от Шаблинскаса, он как бы оторвался от призрака смерти, уже давно маячащего у постели шофера… Однако в выразительном взгляде хирурга, избегавшем встречи с глазами Казюкенаса, особенно когда они оставались наедине, читалось предостережение: судьба Шаблинскаса – а жить тому осталось немного! – несомненно, повлияет и на твою судьбу, хотя, выздоровев, вы едва вспомнили бы друг о друге. Как и в каком направлении повлияет, пока неясно… Когда же взгляды их наконец встретились, предостережение ушло из глаз Наримантаса, а может, затерялось в лабиринте, по которому блуждал он, осаждаемый призраками; лабиринта этого Казюкенас не представлял себе, хотя сам на каждом шагу натыкался на его твердые стены…
Не слышно больше рядом клокотания, стонов и других звуков, которые, словно остатки ночного пира, вызывают утром тошноту; дышишь полной грудью и уже не опасаешься, что вдохнешь яд, способный проникнуть в ослабевшее тело и вновь раскачать только что переставшие колебаться чаши весов. Прискучит изучать в зеркальце лицо – как изменился; не узнал бы, встретив в толпе! – пожалуйста, рассматривай небо, однако уже не насилуя, не спрашивая себя, что сулит его простор тому, для кого мир сузился до острия иглы. Заглянул в щелку заколдованных дверей и отходи прочь – перед лицом бесконечности почувствуешь себя маленьким и ничтожным, чего доброго, и без Шаблинскаса кольнет: и зачем это еще нянчатся со мной, и зачем сам я упираюсь, не соглашаясь потихоньку уйти? Зато какая же благодать зарыться глазами в буйную живую зелень – перед окном горбится поросший сосенками и елочками холм; тянутся к солнцу их вершинки, такие непохожие, и откуда только это бесконечное разнообразие? А мы его, не задумываясь, топорами рубим, машинами уничтожаем, дымом травим…
Когда ты один, ничто не мешает мыслям парить, однако, не очень далеко отлетев, они тяжелеют и опускаются. Не мешает ли их полету отсутствие собеседника – понимающего, соглашающегося и лишь незлобиво что-то возражающего своим бормотанием? Уж не был ли таким единомышленником Шаблинскас, от которого он сбежал, словно от злого духа? Именно в обществе этого человека, угнетающем, успокаивающем и странным образом возбуждающем, ему не стыдно было звать детей, как уже много лет он даже мысленно не звал их! Правильно, что не закричал тогда на всю больницу, где прислушиваются к каждому его вздоху, и все-таки было так хорошо, хоть и грустно: будто тайком гладил их спящие головки… Не погладишь – выросли, очерствели. Да и руки связаны – едва почувствовав, как наливаются они ушедшей было силой, захочешь приласкать кого-то другого… Нет, нет, не думать пока об этом! И краешком мысли не касаться… Пропади он пропадом, Шаблинскас, временный попутчик! Темная личность – расхититель народного добра… За злыми словами прятал Казюкенас то жалость к умирающему, то зависть к нему, озабоченному не собственной жизнью, а чужими деньгами – сам я так не сумел бы, может быть, раньше, в давно прошедшие времена, только не теперь… Пусть нянчатся с ним, если так надо, врачи, сестры, санитарки, как будто не в аварии он пострадал, как тысячи подобных ротозеев, а спасая человечество! Разве в больнице, где люди рождаются и умирают чуть ли не каждый день, нет более серьезных поводов для размышлений?
– Ну а как вы сами думаете, сестрица, воровал Шаблинскас эти крышки? – как можно беззаботнее спросил Казюкенас, когда Нямуните упомянула в разговоре о бывшем соседе.
Она не подняла глаз от своих крупных рук, пытающихся смягчить боль от укола. Почуяла вспышку враждебности, словно впрыснула запрещенное лекарство. Нет, руки ее не ошибаются, нежно массируют припухлость, чтобы по стиснутым губам больного скользнула улыбка. Ведь он любит передышку после укола, когда сквозь влажную вату ощущает ее успокаивающие, ласкающие пальцы. Даже на более слабых больных тонизирующе действует ее близость.
– Снова крышки? – В этот миг Нямуните позавидовала Глории или какой-нибудь другой беззаботной сестре. – Не нравятся нам, женщинам, такие разговоры, товарищ Казюкенас!
– А мне очень важно знать ваше мнение. Именно ваше, сестрица.
– Ах, замучаете вы меня! Это же мужское дело. Главное, мне кажется, Шаблинскаса на ноги поставить, не так ли?
Ординатор Рекус, слышавший эту беседу, высказался яснее:
– Если человек никак не забудет о чужих девяноста шести рублях, то не украдет он ни других девяноста шести, ни девятисот шестидесяти. А?
– Значит, по-вашему, следователь из пальца высасывает? – Казюкенас обиделся, как будто, заступаясь за Шаблинскаса, медики усомнились в нем самом.
– Не знаю. Только я не склонен подозревать, пока вина не доказана. – Рекус сжал в горсти непослушную бороду.
– Но факты, факты! – упрямился Казюкенас, словно спорил с самим Шаблинскасом, а не с собственными мыслями о нем. – Крышки-то обнаружены, не так ли?
– Факты – еще не вся правда. – Рекус растрепал бороду и снова ухватил ее. – Не будем спешить с выводами, тем более с осуждением.
– Я не осуждаю, однако…
– Простите, товарищ Казюкенас, – Наримантас появился в самый разгар спора, все замолчали, почувствовав в его тоне вызов, который в последнее время копился, как летняя духота, с каждым днем затруднявшая дыхание и движения, заставлявшая натягивать халаты чуть ли не на голое тело. Из рук Нямуните выпал шприц, она не охнула, не бросилась поднимать. – Говорят, что вы какой-то дом отдыха на озере построили в обход закона… Так или не так?
– Не для себя строил. Для людей!
– Пусть и не для себя, но с нарушением закона.
– Клевета! Приобрел у колхоза старый дом, сделали пристройку, второй этаж нарастили. Ну, правда, деньги перевел заранее, чтобы другие не опередили. Оказалось, колхоз еще не выкупил дом у владельца… Поторопился я, вот и все. Нет, доктор, вины за собой не признаю! Превратил старую рухлядь в красивую виллу..
– И это все?
– Автобусами возим сотрудников. Купаются, загорают, ягоды собирают. Местным не понравилось, жалобу настрочили, а враги мои по всему свету разнесли..
– Вот вам и доказательство, как легко очернить человека, – заметил Рекус, смягчая улыбкой свой упрек.
Наримантас не успокаивался:
– Значит, для Шаблинскаса одни законы, для вас другие?
Казюкенас горько усмехнулся, подбородок выставился вперед, делая лицо грубым, жестким.
– И сравнили же вы, доктор! Я строил… А он, Шаблинскас ваш, крышки!..
– Доктор, к телефону! – послышалось от дверей, и Наримантас выбежал из палаты.
«Идиот я, идиот, с кем в спор ввязался, с больным? Уличая его, не доказывал ли я ему, что он так же безнадежен, как бедняга Шаблинскас? А может, и свое право на ошибку со скальпелем в руке отстаивал?» Расстроенный, он схватил трубку, тряхнул ее.
– Вам не звонили. А если больного Казюкенаса придется ночью приводить в сознание?! – Нямуните стояла рядом и дрожала – от возмущения, от мучительной любви к нему, не успев скрыть ее под налетом холодной вежливости, которая устраивала обычно и саму ее, и других в общении с ней. – Что с вами, доктор?
– Виноват. Забыл о психотерапии. Но не нанялся же я потакать ему! Что уставились? Вы же первая начали этот дурацкий разговор.
– Снова лимонад с Хардасом хлестали? Хорошо еще я была в палате, а не какая-нибудь другая сестра.
– Другая не убивалась бы из-за гибнущего авторитета некоего доктора Наримантаса!
– Возможно. Скажите, доктор… Вы действительно хотите его вылечить?
Нямуните вызывающе вздернула подбородок, и с ее губ, с гладкой, вытянувшейся шеи посыпался как бы рой искр, ослепляя и обжигая; Наримантасу пришлось на минуту сжать зубы.
– Не от всех болезней. Силы такой у меня нет. И я попросил бы!..
– Вместо того чтобы кричать на сестру, ступайте и успокойте больного! – И ослепительное лицо Нямуните посерело, словно по нему провели грязной тряпкой. Неуклюже повернувшись, она задела столик с лекарствами и, не извинившись перед коллегой-медсестрой, которая проводила ее удивленным взглядом, зацокала каблуками по коридору. Как в первый день своей работы здесь, когда не умела ни ходить тихо, ни закрывать дверей – нескладеха, и откуда только взялась такая? И вся эта метаморфоза ради уважаемого товарища Казюкенаса, которому не терпелось развенчать Шаблинскаса… Как будто судьба, оценив его превосходство, будет снисходительнее. Только ли это? А, не мое дело!.. И без того влип я с ним… А Шаблинскас?.. Если Шаблинскас – темная личность, то как жить, как работать?








