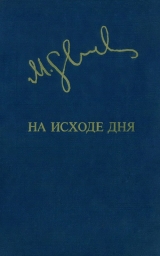
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
Смеющаяся, преувеличивающая, но – боже упаси! – не лгущая, возвращает она Наримантасу молодость, когда казалось, все на свете в твоих руках, все можно повернуть иначе, ежели быть более чутким и разумным Вот уже чудится ему, что, пока болтают они тут о пустяках, откроется вдруг не познанная еще часть ее существа и щедро одарит счастьем. Между тем своим вниманием к сочным, но столь далеким от него деталям жизни она все усерднее отгораживается от его заботы, постепенно становящейся навязчивым кошмаром. И оба они знают это, чувствуют, хотя и делают вид, что шутят, она – болтая, он – поддакивая…
Сунув в «газик» еще несколько плиток, водитель с невинным видом сдвинул кепочку на затылок, зыркнул по сторонам плутоватыми глазами и уселся за руль. Из-за края брезента высунулась сердитая, видимо, недовольная грузом физиономия.
– А это наша беглянка. Стелла. Ах, да! Ты же не в курсе! Понимаешь, ей надо было подержать цепь и поулыбаться этому быку, а она сдрейфила и удрала… Ничего, куплю цепь подлиннее! Весь город излазила, пока отыскала. Стелла! А ну-ка покажись! Историческая минута – перед тобой, Наримантас, будущая звезда экрана Стелла!
Наримантас внимательно оглядел «звезду экрана», будто и она свидетельствует в пользу Дангуоле, теперешней или былой, не столь важно. Гладкие темные волосы – не продерешь гребнем, личико – полная луна, сквозь обтягивающее платье выпирают двумя темными пятнами груди – на Стелле мокрый купальник, уж не на пляже ли отыскала свою беглянку Дангуоле? Наримантас не удержался, мысленно накинул на Стеллу халат – типичная медсестра, которая не умеет улыбаться больным, только зеркалу да молодым докторам, повезет – окрутит какого-нибудь раззяву, нет – найдет работенку полегче.
– Что скажешь? Моя находка!
– Бык, что ли?
– Протри глаза, Наримантас! – негодует Дангуоле словно Стелла – ее родная дочь, а Наримантас – неблагодарный жених и она не успокоится до тех пор, пока не убедит его в красоте, уме и таланте своего дитяти. И бык, ставший открытием, и девушка, которая только еще станет им, должны оправдать перемены в ее жизни, в правомерности которых она и сама временами сомневается, особенно натолкнувшись на тупое непонимание – Стелла, покажись!
Девушка нехотя спускает на тротуар изящно выточенную ножку, чуть погодя – другую, зеленые глаза стрельнули и лукаво и нагло. Наримантас не улыбается ей, стремящейся выйти из-под опеки Дангуоле. Округлое личико искажает гримаса страха: уж не кровь ли – бурое пятнышко на его халате?
– Видел бы ты ее на пляже! Талия, грудь! – Дангуоле вдруг спохватывается – все-таки Наримантас мужчина. – Стелла просто создана для кино, это я тебе говорю! И всем буду говорить! А ее, знаешь, куда заталкивают учиться? В торговый техникум! Такую мордашку – за прилавок? Нет и нет!
– Ну ладно, потрепались – и поехали. А то с такими покрышками… Двести километров – дело не шуточное! – подал голос водитель, ему не терпелось как можно скорее доставить добычу в свой садовый домик.
Дангуоле растерялась – ее, ассистента режиссера, душу фильма, на глазах у мужа унижает какой-то ловчила? Да стоит ей заикнуться, сразу на пенсию выкатится. Всю дорогу останавливался, каких-то бабок с корзинками чуть не на колени ей сажал… А теперь плитки эти…
– Сейчас, сейчас, – почти взмолилась она. – Минуточку, и поедем.
Водитель вновь скрывается под своей кепочкой, как под облаком, Стелла косится то на него, то на Дангуоле, не в силах сообразить, кто тут главный.
– Ну, Стелла, пройдись! Отсюда до… Да не так, душенька, нет! – Дангуоле выскакивает перед ней и, выставив подбородок, от чего небольшая ее головка становится еще меньше, вышагивает, словно танцующая балерина. Право слово, было бы смешно, сделай это кто-то другой – не Дангуоле Римшайте-Наримантене, ей все к лицу, даже легкая походка молоденькой девушки. Стелла потупилась, поджала большой палец левой ноги, Дангуоле не щадит ее самолюбия. – Ну, душенька? Оп-ля! – Она снова готова стать Стеллой – вырванной ею с пляжа, найденной, но не раз буженной еще от девичьих снов. И совсем неважно, что она, гордо именующая себя ассистентом режиссера, на самом деле даже не секретарша его, у которой постоянное место работы и четкие обязанности; а так, на посылках – бегает прыткой девчонкой, скрывая, что у нее высокое давление. Могла бы сбросить половину из своих сорока, показала бы этой буке Стелле, как надо ходить, стоять, дышать.
– Я тоже человек. Надоело! – Стелла топает ножкой.
– Ей надоело? А нам? По всей Литве разыскиваем барышню, а она… подцепила на пляже какого-то старика вдвое старше себя!
– Это мое дело!
– Твое? А кто из тебя, из куска глины, статуэтку лепит? Собираешься стать актрисой, знаменитостью, звездой, а лезешь в грязь! Спроси-ка вот у моего, не даст соврать. Дангуоле отважно призывает на помощь память Наримантаса. – В девятнадцать замуж выскочила, через год забеременела… И что от меня осталось? Пшик! Когда выбьешься, мужики за тобой табунами ходить станут, вот тогда и выберешь самого из самых!
Стелла, собрав губы во вздрагивающую куриную гузку, жалобно шмыгает.
Нет платка? – Дангуоле заботливо сует свой. В ее блестящих, навыкате глазах совсем другая девушка не грубая, недалекая Стелла, которая с удовольствием до умопомрачения жарилась бы на пляже, неважно с кем, лишь бы платил за обед в летнем ресторанчике, а она сама, какой была двадцать лет назад. А может, и не была?
Наримантас отворачивается, чтобы Дангуоле не прочла в его глазах ответа. Он понимает, реальную себя она не видит. В ее расширенных, где-то блуждающих глазах – девчонка, в которой все ладно и грациозно, от макушки до мизинцев ног, а если такой не было и не будет, то не возбраняется же воображать ее себе, и пусть ворчит бесстыдно ворующий тротуарные плитки водитель, пусть кусает губку, не понимая, какая она счастливая, эта неотесанная дуреха Стелла!
– Горе ты мое, – вполголоса кидает она мужу, прощально похлопав его по руке, и лезет вслед за Стеллой в «газик». – До скорого, Наримантас! Приглядывай за Ригасом, сходите как-нибудь в ресторан, не жадничайте!
Дома, люди и небо – все здесь слишком буднично, Римшайте-Наримантене спешит туда, где никто не посмеет покушаться на ее праздник, на никому не причиняющее вреда любопытство, не станет пугать адскими жупелами. Только уже за городом, когда колеса взобьют плотную пелену пыли, снова почудится за ее белым вихрем суровое и твердое лицо Наримантаса, но тут же сквозь деревья блеснет озерцо – миска, полная серебра, видела ли ты когда-нибудь такое чудо, Стелла? – и Дангуоле Римшайте-Наримантене окунется в ослепляющее сверкание, очищаясь телом и душой. Тряхнет на дорожном ухабе, она очнется, вспомнит напряженное лицо сына из тяжкого, недавно виденного сна – не возвратиться ли, не повернуть ли назад, чтобы хоть взглянуть, коснуться рукой? – на лужайке застучит в это мгновение копытцами жеребенок, словно из меди отлитый, и она радостно вздохнет, еще раз убеждаясь в том, как все-таки прекрасна жизнь.
А Наримантас, вернувшись в отделение, столкнется с Жардасом.
– Слышь, Жардас, не напоишь ли страждущего? Со свидания плетусь, жена заглядывала.
– Я назначаю свидания чужим. И тебе советую. Куда проще!
– Что, ни капельки нет?
– Как не быть! Помнишь старика-то? Внуки коньяк притащили и сухое.
– Как думаешь, коньяк пойдет?
– Лекарство! Только его и признаю.
– В перевязочной? – Наримантас упирается и ни с места. – Ну нет, коллега!..
– Брось! Официально будем пить лимонад. Лимонад и больным разрешается. Ну как? Пойдет лимонад? – И через минуту: – Значит, за собственной женой ухаживал? И вроде неудачно?
– Учусь ходить заново.
– После долгого перерыва опасно! Можно споткнуться, позвоночник повредить. Любя другого, все равно только себя ублажаем, так стоит ли стараться?
– А как жить, когда самого себя разлюбишь? Когда сам себе противен становишься?
– Глубока копаешь! Пили бы мы с тобой не лимонад, а что-нибудь покрепче, – Жардас подмигнул и расхохотался, – я бы сказал тебе: будь здоров, а ты бы мне ответил: будь! И еще раз, и еще, пока не стало бы двоиться в глазах… Вот мой рецепт!
– Ну так испробуем. Будь здоров!
Койка, вторая, третья… В этой палате три, в той – семь, в большой – одиннадцать… нарезали, как хлеба на сухари, удивляешься своим рукам: и когда столько успели? Шаблинскас-то с Казюкенасом, слава богу, не одни в больнице, хотя заслоняют других, лезут в душу своей беспомощностью, преследуют семейными бедами, прошлым и еще черт знает чем. Оклемаются, нет ли, было бы от чего с ума сходить, врач не чудотворец, делаешь, что можешь, иногда больше, чем можешь, глянь-ка, сколько их, кандидатов на тот свет, уже встало, встает или встанет на ноги, глянь, как светлеют от радости, и благодарности лица, стоит тебе только кивнуть, заговорить или на край койки присесть! Конечно, недостаток скромности, этакое самолюбование – трудился весь коллектив, сотни медиков, обслуживающий персонал. Разве я отрицаю? Не отрицаю и старой как мир истины: выкарабкиваются лишь те, кто цепляется за жизнь, не обращая внимания на суровую мину врача и безнадежный диагноз… но почему, скажите, готовы мы униженно благодарить какого-нибудь монтера, соединившего две проволочки, а врачу, выбросившему прочь кусок гангренозной ткани, стесняемся сказать спасибо? Ручонка-то была восковая. «Когда начну умирать – разбудите!» – вся больница дыхание затаила, а гляди, челюсти двигаются, губы чмокают – живая, значит, лопай, милая, поправляйся! Вот-вот взревешь от радости, словно тот бык.
И чего это я все вяжусь к Дангуоле? Что не пала ниц перед Казюкенасом, идолом моим, да еще занозу всадила, дескать, какой-то дом он на берегу незаконно построил?.. Здравствуй, девонька! Говоришь, лучше помрешь, чем дашься оперировать, боишься уродливого шрама на белой коже? Гм, действительно, порой скверно штопаем… Живот подтянут, груди, как полные чаши, руки-ноги как литые, и сотворит же матушка-природа в наш технический век! Прямо жаль резать такую… Зачем удрала с танцплощадки ночью без провожатого? Могли ведь и что поважнее отбить, хорошо, только селезенка лопнула, хотя, простите, коллеги, позвольте усомниться… Ну-ка, пощупаем еще разок, терпение, девонька, терпение… Боишься операции? Я, видишь ли, тоже: забираться внутрь человека – удовольствие сомнительное, будто в самого себя лезешь, не зная точно, что там найдешь… Ну, ну, птичка – прямо в губы чмокнула! – я старый, старый, да не такой уж дряхлый, чтобы не помнить кой о чем; ну спасибо, лети, голубка, как можно дальше, если будет болеть, хватай такси и к нам… И вас, мамаша, на той неделе выпишем, хирурги вами довольны, потерпите, вам терпения не занимать стать, хоть ведрами черпай – два раза за чертой побывали, куда уж теперь спешить, правда? Названная мамашей женщина зарделась, защебетала о семье, муже, детях, а Наримантас неловко топчется у ее койки, передергивает плечами… заливая глаза, стекают капли пота… да какой там пот – святой елей, миро благодатное, со всеми земными нескладностями и бедами примиряющее. Оживает отсохшая было пуповина, вновь расцветает детородительница – разве не в этом смысл, цель, оправдание всего? К дьяволу сверлящее мозг, идиотское «Что же дальше?» и не менее идиотское «Кого ты спасаешь?». Хлопнула дверь, Касте Нямуните решительно вывела его в коридор, раскисшего, самому себе противного.
– Я понадобился? Вы не ошиблись, сестра?
Нямуните молча теребила поясок своего халата, кусала губы, сейчас она скажет нечто ужасное, что будет не только выговором за отвратительное поведение, но и свидетельством бессмысленности всей его жизни и трудов.
– Казюкенас? Шаблинскас?
Не совладав с дрожащими губами, отрицательно покачала головой.
– Так что же случилось, сестра? Следователь? А вы, вместо того чтобы помочь…
– Я не знала, что доктор очень занят! – Резко отвернулась и чуть не кинулась прочь – не доверяет вспухшим губам, выдающим не свойственное ей волнение. Чувствует их предательский жар, мешающий не только говорить – дышать, халат обтягивает небольшие острые груди, и Наримантаса захлестывает желание, гулом отдающееся в голове; похожее испытал недавно, помогая Бугяните, но в отличие от молоденькой врачихи Касте – созревший плод, и необходимо обуздать себя – ее горячие губы не сулили ни мира, ни благосклонности.
– Поясок… поясок у вас развязался. – Он стискивает в кулак потянувшуюся к ее талии ладонь, кидается к раскрытому окну – воздуха! – но асфальтовый чад не освежает.
– Что? Что вы… – Желание вернуть руку Наримантаса – ведь та еще дрожит, будто коснулась ее – борется в Касте с заботой, пригнавшей ее в палату. Наконец она тихо охает, вроде очнулась от обморока, а губы снова пляшут, не умещаясь на лице. – Зубовайте звонила, доктор!
– Какая еще Зубовайте?
– Айсте Зубовайте. Ну, эта, эстрадная, больного Казюкенаса… Неужто забыли, доктор? – Улыбнулась. В серо-голубых глазах сквозь дымку печали сквозит ирония.
– Ну и что? – по-детски упрямится Наримантас, боясь новых неприятностей – мелькает тяжелая волна волос, обдавая пряным запахом духов, и, словно балерина на сцену, врывается в их беседу Зубовайте. – Чего ей надо?
– Она требует…
– И от законного не рекомендуется требовать, а тут…
– Требует свидания с больным, и, мне кажется…
– Надеюсь, вы не разрешили ей появляться здесь, да еще с огромным букетом? – Пока он на месте, пока в здравом рассудке, эта балерина или певичка в больницу не прорвется! Словно услыхав эту мысль, Зубовайте исчезает. – Между прочим, сестра, в палатах кучи цветов. В послеоперационных! Непорядок.
– Как я могу разрешить? Вы же запретили! – Цветы Нямуните пропустила мимо ушей, в ее четком, звенящем голосе вызов, будто она и есть та самая обиженная им Зубовайте или защитница ее.
– И правильно сделали. Хотите на спор? Осведомилась ли хоть о здоровье Казюкенаса?
– Нет.
– Вот видите! Не здоровье ее интересует…
– Откуда вы знаете, доктор? Женщина, если любит… – Слова срываются с непослушных горячих губ, пугая их обоих, пытающихся спрятаться за правилами и умолчаниями, похожими на ложь.
– Простите, Касте, – он нежно выговаривает ее имя, одновременно погружаясь в главную заботу – как оградить Казюкенаса от болезни, от людских вымыслов и оговоров, наконец, от самого себя. – Вы молоды. Я несколько больше знаю о людях…
– И поэтому… напились с Жардасом?
– С доктором Жардасом, сестра. Две-три рюмки – мелочь. И я бы попросил вас…
– Думаете, больные не замечают?
– Не дети. Должны знать, что и врачи – люди. Что с вами, сестра?
Взгляды их скрестились, теперь невозможно разойтись мирно, без драки…
– Отпустили домой ту девушку? А если у нее действительно с селезенкой?..
– Почти уверен – нет.
– Что значит – почти? Мы и держали ее профилактически. Трезвый бы вы никогда так не поступили. Никогда, доктор!
И с этой девчонкой вел ты себя неправильно, кричит взгляд Нямуните, и со мной, и со всеми, со всеми!
– Ну, верните ее, – устало машет он рукой.
– Ничего с ней не случится. Если что, снова приедет. А вот вы…
– Я?
– Терпеть не могу пьянства! Не выношу! Жардас – робот. Неплохой робот, прекрасно запрограммированный… Но вы, доктор, вы?..
– Я не лучше.
– Станете хуже. Пить и оперировать? Не вам! У слабовольного человека и работа бессмысленна!.. Да, доктор!
– Во-первых, я не пью и не собираюсь. Во-вторых, сестра, кто дал вам право делать выводы о смысле моей работы?
– Если я молчу, то это не значит, что не думаю и не чувствую. По мнению многих, сестра не человек, то есть не такой человек, как врач! Подумали бы хоть, что сестры работают не меньше вас, выгребают за всеми мусор да еще должны дышать парами выдыхаемого вами алкогольного перегара!
– Вы, извините, помешались? Алкоголь да алкоголь…
Если помешалась, так на это есть свои причины. И посерьезнее, чем вам кажется…
– Значит, я дубина? Не понял бы? Почему вы скрытничаете? – Наримантасу было жалко ее, будто она лишилась вдруг своей до блеска отшлифованной оболочки, такой удобной и для нее, и для всех окружающих.
– Не о себе говорю, доктор! Нямуните нетрудно заменить другой сестрой. Мне показалось, что я должна… ну, предостеречь вас! Вы ведь знаете, как я вас уважаю… как… – Она не решилась произнести более подходящее слово. – Жалеть потом буду, но… Вы же не представляете себе, доктор, какие шутки выкидывает жизнь! Все близкие мне люди рано или поздно тонут в водке. Отец… Я так любила его – справедливый, нежный! Начал с невинной рюмочки, а потом хлестал бутылками, маму избивал… Язва двенадцатиперстной, операция, шкалик водки и похороны… Брат… был у меня младший братишка… смотреть на отца без ярости не мог… Первая получка на заводе и первая рюмка. Полез пьяный под кран – пятитонная балка… Продолжать, доктор?
Слова Нямуните, будто крючьями, раздирали кисейную дымку доброты, которой он окутал себя с помощью коньяка, нет, не на спокойствие рассчитывая, только на забытье. Снова подтянутый, взявший себя в руки, почти трезво удивлялся он ее вспышке, скорее всего связанной с недавними таинственными исчезновениями – с предыдущей, мало ему известной жизнью Нямуните. Ее ли это глаза из незамутненной прохлады? Голубизны в них ни капли, серые, стального оттенка, полные ненависти к могучей напасти, всю жизнь преследующей ее. И голос, всегда такой сдержанный, ясный, режет слух. Правда, однажды он уже видел ее в этом состоянии. Неожиданно перед глазами всплыла картина, которую он всегда стремился прогнать. Незнакомая комната, вернее, просторная застекленная веранда, залитая голубоватым лунным светом, громоздкое плетеное кресло, заваленное одеждой, перестук стенных часов – все тонет в призрачном, холодно и зловеще сияющем свете луны, все видно яснее, чем днем, и остро царапает сердце шепот Нямуните:
– Выпили? Напились? Зачем, зачем!
– Нет, сестра, нет, милая, сто пятьдесят – двести, не больше!
Но в нем что-то оборвалось, не от слов этих, от застывших, что-то неумолимое и страшное увидевших глаз, только сейчас так живо и тепло мерцавших в мертвенно-голубоватом свете; руки еще ласкали ее полураздетое тело, мгновение назад теплое и мягкое, отдающееся, а теперь напряженное, испуганное возможной близостью. Нет, не близостью, чем-то более страшным.
Следовало объясниться. Он и не предполагал, что такое может случиться между ним и женщиной, о жизни которой он почти ничего не знал. Отношения, сложившиеся у него в больнице с робкой, несколько неуклюжей девушкой, страстно мечтавшей стать хорошей медсестрой, казались абсолютно простыми, без каких-либо сложностей… Теперь, с сожалением понял он, непросто будет видеть ее, отношения учителя и ученицы разрушились, новые – мужчины и женщины – оборвались, едва завязавшись, и все то, что произошло тут и что не произошло, будет стоять за каждым их неосторожным словом, взглядом, воспоминанием.
– Не надо, прошу вас! – Она отстранилась, запахивая кофточку, белая кукла с черным ужасом в глазах, а он продолжал что-то говорить, не слыша своих слов, оправдывался, как большинство мужчин в подобной ситуации, боясь показаться смешным. – И не зовите меня сестрой! Я знаю, я сестра, глупая, малообразованная, суеверная… Да, да, я суеверная – боюсь водки! И все-таки…
– Вы же тут ни при чем, сестра!.. Я вас уважаю, по-прежнему уважаю…
– Снова сестра! Не надо, умоляю вас! Через час, завтра, всю жизнь согласна я быть вам сестрой, но пока вы здесь…
– Ладно, ладно, ведь ничего плохого не случилось Я не обидел вас? – Ему было неловко за то, что он вторгся в чужую жизнь, кем-то грубо изломанную, полную непонятной, на посторонний взгляд, боли, хотя ведь это она, Касте, сделала первый шаг к сближению, когда после поздно закончившейся операции они вдвоем очутились в пустом, скованном морозом городе, уже принадлежащие только самим себе, полные чувства освобождения от напряженной работы; им не хотелось сразу расставаться, и, остановив такси, она назвала адрес. Около утопавшего в сугробах, облипшего верандами домика долго поднимался к холодной луне пар их дыхания – еще не могли преодолеть они дистанцию, прочно установившуюся, за неполные два года работы локоть к локтю: он приказывал – она послушно, выполняла приказы, постепенно все больше совершенствуясь в нелегком труде, без которого могли бы оказаться тщетными все усилия хирурга. Остервенело, как свинья, которую режут, верещали деревянные ступеньки, казалось, вся улица сбежится, пока на сугробе возле калитки нерешительно маячили их тени, внезапно все смолкло, зазвенела потрясшая их обоих несказанная тишина, ключик никак не попадал в скважину, он прихватил ладонью ее ледяную руку, и застекленная дверь, обросшая инеем, распахнулась… Еще можно было уйти, но куда, зачем? Неделю назад его жена налетела в своем выигранном в лотерею «Москвиче» на учителя Каспараускаса, даже не предполагая, что вызвала этим призрак, явившийся из далекой дали времен. Отомстить Дангуоле? Такой мысли и в голове не было. Давно надтреснутое чувство к ней сломалось, как перегнутое железо – крак! – и все, а для нового чувства он еще не созрел. Однако по тому, как Нямуните скрипела половицами на веранде, ведя его за кончики пальцев внутрь, по тому, как не сразу сообразила, куда девать пальто, Наримантас понял, поздних гостей здесь не принимают, и благодарность за доверие к нему – немолодому уже, затюканному работой мужчине – превратилась в неуемное влечение.

– Это для вас, Винцентас, ничего не случилось. Вы мужчина. Для женщин чаще всего важно совсем не то, что для вас… Светает. Скоро автобусы пойдут. Кончатся ваши мучения.
Ему казалось неловким нахлобучить шапку и уйти, однако хотелось скорее очутиться подальше от этой скрипящей половицами, тонущей в сугробах веранды, где полушепот или молчание опаснее громко сказанного слова.
– Молчите, молчите, не надо ни в чем оправдываться! Очень вас прошу…
Ночь, лишившая Наримантаса спокойствия и ставшая предупреждением – ничего в жизни не получишь, не закрыв глаз на собственную совесть, – прогрохотала и канула в небытие скорее, чем он предполагал, Нямуните вновь поворачивала к нему свое сияющее лицо, отвечала послушным бесстрастным голосом; ощущая на себе ласку ее светлых глаз, он иногда сожалел об упущенной возможности: может, померещилось ему тогда ее душевное смятение, может, принял за страдание пустой женский каприз?
– Что же вы хотите от меня, сестра? – спешит Наримантас перебросить мостик между прошлым и настоящим, ведь они, не сговариваясь, решили не поминать о той позорной, мучительной ночи, так надо было, пусть и по разным для них соображениям, и вот Нямуните нарушила негласный уговор, когда у него нет и минутки для себя – все мысли о больных, вернее, о больном Казюкенасе, который, как свинцовое грузило, затягивает в темную пучину, в запутанный и опасный лабиринт.
– Я лично ничего, доктор. Только очень вас прошу, не пейте!..
– И я от вас ничего, – сквозь зубы цедит Наримантас, больше, чем когда-либо, нуждаясь в ее сочувствии, в ее благосклонности и ясно понимая, что всеми силами будет эту благосклонность разрушать.








