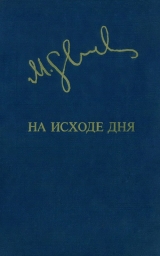
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
– Значит, будешь вкалывать, как и раньше, в этой своей мясной лавке? Хотя женушка из дому убежала?
Обиделся за мать… Наверное, связывает их не только обоюдное потворство слабостям друг друга, направленное прежде всего против главы семьи Как мало я знаю о нем. Эта, уже второй раз пришедшая мысль испугала Наримантаса.
Не понимаю, что должно измениться? Может, у людей аппендиксы перестанут воспаляться или язвы кровоточить?
– Значит, продолжаем спасать человечество? Ну что же, извини, отец. Извини!
Ригас повернулся, солнце залило спину, широкую в плечах, узкую в талии. Под левой лопаткой родинка величиной с копейку. Таким Наримантас всегда будет помнить сына. Стройного, обнаженного, с родинкой на спине, ярко освещенного солнцем, потягивающегося на фоне почти темного коридора. Не раз еще доведется им сталкиваться, ловить мысли друг друга, сжиматься внутренне в ожидании осуществления того, что не стало еще явью, но вспоминать его Наримантас будет именно таким.
Касте Нямуните и виду не подала, что удивлена поздним появлением доктора; доброе утро, сестра, доброе утро, доктор, хороший денек, сестра, да, доктор. Отвела голубовато-серые глаза, глянула в окно. Высоко в небе махала крыльямиворона, над ней белый, веющий заоблачными далями след самолета. Официально-холодный взгляд Нямуните неприятно царапнул, хотя даже такой ее суровый вид отмежевывал от забот, не связанных с больничными делами, как стерильность операционной отгораживает хирурга от носителей инфекции. Он даже уважал ее за сдержанность, высоко ценил, а может, скрывалось за этим и более сильное чувство, но они, словно договорившись, не касались его, предоставив ему право незримо вплетаться в их сложные отношения. И все же в отстраненности, спокойствии Нямуните, в какой-то ее показной вялости почудился ему упрек, как позавчера, когда топтался на этом месте Ригас. Не выслушав как следует сына, он принялся было ворчать на него, а ее глаза стыли белесыми камешками, отражая свет и ничего не выражая. Интересно, каким ей виделся Ригас? Поторопился прогнать мысль, шепнувшую, что рядом с именем Касте не мило ему никакое другое. Могла бы все-таки спросить, почему задержался. Ведь не бросил же работу, и нагрузка не уменьшается, растет! Присмотрелся внимательнее, прошлась черным карандашиком по широким негустым бровям, не ее цвет, точно грубое прикосновение чего-то чуждого. Неужели в его тревоги относительно будущего, которые уже не только начались, но и неудержимо наваливаются на него, замешана и она? Надеюсь на ее помощь не только как на помощь опытной хирургической сестры, она смекнула это и заранее пытается дать мне понять, чтобы не рассчитывал, что никаких обязательств на себя не берет?
– Мне надо кое-что сообщить вам, доктор. – Склонилась над столом, крупные сильные руки продолжали перебирать кучку таблеток и порошков, полные губы шевелились, читая названия лекарств.
– Пожалуйста, без предисловий.
Взглянула снизу вверх, не переставая шевелить губами, в ее пальцах шуршали аккуратные пакетики, по которым она раскладывала назначенные врачом лекарства, – интересы больных прежде всего, не так ли? В клинике смеются над этой привычкой Нямуните, но Наримантасу непроизвольное движение ее губ напоминает школьницу-переростка, уже не умещающуюся в форменном платьице. Чем-то девчоночьим веяло от сестры, хотя Наримантас знал, что она уже была замужем.

– Звонили тут вам, голос такой представительный, – деловито сообщила она. – Сказала, на консультацию вас вызвали.
– Мне не нужны адвокаты, сестра.
Она снисходительно улыбнулась, словно надоедливому больному, с которым лучше не спорить, улыбка задела его, и он повысил голос:
– Какая еще консультация? Не порите чушь!
– Простите, доктор. Понимаю. Мне следовало сообщить незнакомому человеку, что доктор Наримантас загулял на дежурстве и проспал. В другой раз буду знать. – Она заговорила резковатым, четким и потому несколько неприятным, без выражения голосом и как будто не о нем, а о ком-то другом.
– Вмешиваться в мои личные дела…
– Я думала… тут не только личные. – На мгновение он увидел ямку на подбородке. Касте подняла голову и снова, не дождавшись поощрительной улыбки, уткнулась в стопку рецептов. – К вашему сведению, звонил Казюкенас.
– Ах, Казюкенас! Смотри-ка ты, Казюкенас… Опять этот Казюкенас… – Он ворочал эту фамилию, как горячую картофелину. – Ну и что же… товарищ Казюкенас?
– Станет он со всякой… разговаривать. Приказал позвать доктора Наримантаса, а когда я сказала… Он велел…
– Ну-ну! – Наримантас поморщился и ощутил одутловатость своего невыспавшегося лица, свой опустевший дом – неужели и под его крышей хозяйничал Казюкенас? – Ишь ты… Из всей грамматики признает только повелительное наклонение?
– Голос у него такой, а может, не поняла я чего-нибудь… Жду, говорит, звонка, когда доктор с консультации вернется. – Нямуните явно пыталась смягчить слова Казюкенаса, однако скрытая неприязнь к звонившему прорывалась: кто-то третий, посторонний осмелился посягать на заведенный у них порядок, нарушать покой, подчинять своей воле Наримантаса.
В голове у доктора мелькнуло: не поможет она мне, только мешать будет. А, чепуха! Всегда ведь помогала. Просто напугал ее своей кислой физиономией. И выпивать стал… Не одобряет.
– Он мне нужен или я ему? Он болен или..?
– Кажется, будущий наш пациент? – Холодок в ее глазах не таял, она наблюдала за Наримантасом, не выдавая своих чувств, только трезво оценивала положение.
– Еще о будущих думать! Хватит и тех, кто есть.
Приказывал или просил – все едино! Их обоих, Наримантаса и Казюкенаса, и на расстоянии не покидало чувство какой-то связанности друг с другом, траектории их, пока не соприкасаясь, сближались, кто-то должен был первым подать знак – чуть замешкался бы Казюкенас, он, Наримантас, сам сделал бы шаг навстречу, подогреваемый непреодолимым желанием поставить все точки над i в деле, за которое, он с самого начала знал это, не следовало браться. Именно так – опасливо, нерешительно, с ватными руками и ногами – еще ребенком подкрадывался он к рыси. Его путь к ней был окольным, он лез сквозь заросли и крапиву, хотя дикая кошка скреблась совсем рядом, за дощатой стенкой сарая, в клетке, огороженная надежными железными прутьями, о ее присутствии свидетельствовала невыносимая вонь, шибавшая в нос…
– Я нынче вовсю расхваливал вас одному человеку, а сам грублю… Не сердитесь, сестра.
– И не собираюсь, доктор. Да, главное-то забыла! – Это была маленькая хитрость Нямуните – главное она сказала, – и потому щеки ее зарумянились. – Вам сегодня придется оперировать. Доктора Кальтяниса вызвали в военкомат, доктор Жардас латает желудок семидесятилетнему старику, доктор…
– Что-нибудь сложное? – Он вновь почувствовал под собой твердую почву – определенны и четки обязанности хлопочущих здесь людей, значит, и он на своем месте.
– Не похоже.
По мере того как улучшалось его настроение, оттаивала и Нямуните. Ее уже угнетала необходимость прикрывать свои мысли ничего не значащими словами.
– Где больной? В каком состоянии? Подготовлен? – Он вновь стал таким, каким бывал в этих стенах, – ни лишних движений, ни пустых слов.
Выслушав ответ, нахмурился – пустячок, но по привычке следовало поворчать, не покажешь ведь, что радуешься навалившейся работе, словно она твое спасение. А внутри бравурно звучало: замечательно, великолепно, в операционной вместе с седьмым потом сойдут с души все эти привидевшиеся тебе ужасы. Насущный хлеб хирургов – грыжи и аппендициты. Думаете, грыжа – пустячок? Чего только не случается в таком мешке обнаружить, чуть ли не печень. Помню, как-то один неопытный коллега, вскрывая полостную грыжу, мочевой пузырь рассек… Оперируемый простился с жизнью, а коллега – с хирургией… Бр!.. Дернул же черт вспомнить такое!..
– Поможете мне, сестра? – Его вопрос-приказание был не слишком строг, он вроде бы и просил, но отказа не потерпел бы.
– Если надо… – Нямуните частенько помогала ему в операционной, хотя это не входило в обязанности палатной сестры, тогда в отделении ее замещала ночная сестра Алдона.
Наримантас уважал свои руки, когда мылся – тщательно и терпеливо скреб и вновь мылил их, – уважал, словно принадлежали они другому, более способному, чем он сам, хирургу; только эти руки сумеют – почтительно думал он – исправить корректурную ошибку матушки-природы. С маской на лице, в хлопающем по коленям клеенчатом переднике, потяжелевший и одновременно легкий, он ощущал свое тело изменившимся, освобожденным от веса, как пловец, вошедший в воду. И Нямуните здесь, в операционной, становилась другой, тут никому бы и в голову не пришло, что у нее классическая линия лба – носа, будто прочерченная хорошим рисовальщиком на белизне ватмана. Она будет осторожно подавать инструменты, каждый раз словно расставаясь с какой-то ценностью, но ждать не придется. Бросил использованный, звякнула кювета, поднял скользкие пальцы – в кулаке следующий! Раз-другой все же заворчит, если их руки не сразу встретятся, чтобы не забывалась, а может, подсознательно сводя счеты за утреннюю холодность. Увидел ее будущую улыбку, посверкивающую точечками в глубине светлых глаз – лицо-то закрыто маской, – и, не успев стряхнуть с бровей остатки хмурости, авансом улыбнулся ей. Как-то внутренне улыбнулся – тела своего уже не ощущал, только руки.
Пустячок? Такой гнусный пустячок давно уже не попадался – гнойное воспаление, хоть ложкой вычерпывай. Еще совсем зеленым, еще неучем начинающим накрепко вдолбил себе в голову – не жди пустячков, не будет их, Наримантас, запомни это! И тем не менее, когда легкий на первый взгляд случай превращался в тяжелый, он страдал, словно его самого оперировали…
Не успел еще вылезти из бахил и ощутить привычный вес собственного тела, как его позвали к телефону.
– С вами будет говорить товарищ Казюкенас, – прошелестел в трубке голос секретарши, вежливый, предупредительный и одновременно полный сознания важности возложенной на нее миссии.
– Слушаю, – ладонь Наримантаса была еще влажной, от разгоряченной шеи, казалось, шел парок, и трубку он прижал к уху не очень ловко. Только что значительный, всемогущий, он вновь превратился в рядового, заваленного тысячами забот врача, которому не каждый день звонит большое начальство, а ежели и соблаговолит вдруг, то лишь понуждаемое настоятельной необходимостью, и добра от этого не жди.
– Извините, – секретарша шепчет еще мягче и приглушенней, – товарищ Казюкенас заканчивает разговор по другому аппарату. Будьте любезны, подождите минуточку, я вас соединю.
Наримантас перекладывает трубку к другому уху.
– Приветствую вас, доктор! Не соскучились еще по мне, а? – Густой голос Казюкенаса сдувает, как хлопья пены, щебет секретарши.
– Слушаю вас. Врач Наримантас у телефона, – пытается он спрятаться в наскоро возведенное профессиональное укрытие.
– Боюсь, у нас не телефонный разговор, доктор.
– Понимаю, но… увы. – Наримантас оглядывается – не пришла ли Нямуните? Характерного шарканья ее шлепанцев не слышно, купается еще, почему-то приятно сознавать, что тугие струйки бьют по ее гибкой крепкой спине. – Я только что из операционной…
– Оторвал? Оперируете?
– Да. То есть нет… – Вот ведь какая чепуха, растерялся, что ли? – Кончил. Не успел еще переодеться.
– Ясно, ясно! Там у вас только поворачивайся, лениться некогда, а? Ха-ха! – не обидно, чуть ли не дружески хохотнул Казюкенас. Наримантас крепче сжимает трубку в кулаке, мокрую, липкую от пота. – Если Магомет не идет к горе, может, она сама пожалует к Магомету? – он перефразирует поговорку на свой лад. Наримантасу шутка не очень нравится, но успокаивает его. – Согласны?
– Охотно, товарищ Казюкенас, но лентяйничать я кончаю только в четыре, – проронил он сухо и откашлялся, как бы извиняясь за чрезмерную сдержанность, даже суровость.
– В четыре? Не пойдет, милый доктор! А как бы хорошо вдвоем по лентяйничать… У меня конференция в шестнадцать тридцать. Минутку! – Слышно, как звонит другой телефон, Казюкенас отчитывает кого-то металлическим голосом, без всякого намека на юмор, только что журчавший в его речи; ласковый горный ручеек мгновенно обледенел, и Наримантас слышит лишь гневные рубленые фразы. Потом голос опять теплеет: – Так что же будем делать? Попросим главврача, чтобы отпустил пораньше?
– Чего уж там. – Начальственный разнос Казюкенаса и тут же его потуги встать с собеседником вровень, даже на ступеньку ниже, здорово раздражают. Но, в конце-то концов, неприятный, унижающий тон относится не к нему, он надежно защищен от подобного, и Наримантас достаточно объективно оценивает доброжелательность Казюкенаса, хотя чувствует, как надвигаются еще неопределенные, но угрожающие заботы. Правда, пока он свободен… Может пойти, может не пойти… – Не утруждайте себя, гора попытается сдвинуться. Но время и мне, товарищ Казюкенас, дорого. Пока еще доберусь до вас…
– О чем разговор! Высылаю машину! Когда, доктор? Может сразу? – И Наримантас слышит, как Казюкенас отдает распоряжение секретарше и та деловито отзывается; здорово выдрессирована, успевает подумать Наримантас. «Ясно. Сообщу отделам, что совещание переносится на завтра». И снова голос Казюкенаса в трубке: – Так жду вас, милый доктор, жду!
Словно взмахнуло тяжелое черное крыло, дверца беззвучно прильнула к длинному телу автомобиля, он будто присел на рессорах перед прыжком, и Наримантас почувствовал, что повлекла его могучая сила, не вырвешься – руки спутаны, ноги скованы. Какие-то огоньки мигают на пульте, покачивается перед глазами хорошо подстриженный седой затылок шофера, за окнами мелькают люди, вывески магазинов, серая лента накатанного асфальта – все это сливается в сверкание, слепящее и пьянящее. Эка невидаль ваша «Волга», хотелось ему крикнуть, поудобнее откинуться на сиденье, но почему-то он не мог шевельнуться, словно пойманный, силком погруженный во что-то уютное, обволакивающее, зависящий теперь не только от солидного шоферского затылка, но и от всего окружающего сверкания, в котором сконцентрировалась чужая суровая мощь. Наримантас вцепился в свой чемоданчик – стетоскоп, аппаратик для измерения давления, слабые они помощники, чтобы противостоять уверенному потоку, подхватившему его, как щепку. Эта мысль заставляла сутулиться, ощупью искать какую-нибудь опору, он так и не нашел ее, даже тогда, когда «Волга», легонько качнувшись, остановилась. Не успел прийти в себя, перед глазами уже тяжелая медная доска с напоминающими клинопись буквами, тяжелые черные двери, переплетенные металлическим орнаментом, темноватый глухой холл, старинные, словно бы запыленные, люстры… Подгибались ноги, попирая толстый ворс ковровой дорожки, неловко моталась свободная рука, не решаясь ухватиться за покрытые черным лаком деревянные перила лестницы, ведущей в холл второго этажа, поднимался медленно, ощущая тяжесть своего тела и стягивающий шею узел галстука, несший его поток не отпускал, очень уж широка была парадная лестница. Красивая секретарша со свободно падающими светлыми волосами и удивительно ярким лаком ноготков встретила его, улыбнулась, как доброму знакомому, привстала со стула и грациозным жестом – ноготки ало вспыхнули на солнце – пригласила войти. Но ни секретарша, уважительно отворившая дверь кабинета, ни сам Александрас Казюкенас, рывком поднявшийся из-за стола и, обогнув столик с целым стадом разноцветных телефонов – и на черта ему столько? – поспешивший встретить гостя, не могли развеять гнетущей Наримантаса мысли, что приволокла его сюда некая от его воли не зависящая сила.
– Прошу! Тут будет удобнее. – Придерживая гостя под локоть – ну и крепкая же ручища! – Казюкенас проводил его в угол кабинета, где около круглого столика черного дерева с резными ножками наподобие лап какого-то мифического зверя стояли легкие уютные креслица. Встречая Наримантаса, Казюкенас, словно стесняясь своего роста, втянул голову в плечи, сгорбился, но все равно казался куда более крупным, чем в больнице, в окружении белых халатов. – Ну и жара! – Хозяин нарочито отдувался, хотя в его просторном кабинете с полуопущенными тяжелыми шторами было сумеречно и прохладно. – Не выпить ли чего-нибудь живительного? Кофе? Минеральной? А может?.. – Он многозначительно посмотрел на Наримантаса, выдержав паузу и словно защищаясь от возможных упреков, развел руками. – Вам, медикам, лучше знать, что не вредит!
– Пожалуй, стакан минеральной. – Пить Наримантасу не хотелось, как и бездельничать в этой непривычно роскошной, но довольно уютной обстановке с ненавязчиво услужливым хозяином. В креслице ему было неудобно, хотелось поскорее окончить церемонии и перейти к делу, удерживало только удивление – ишь ты, как оно здесь все… Не одобрял не осуждал, просто удивлялся.
Казюкенас встал, неторопливо – даже в походке чувствовалось достоинство – подошел к телефонному столику. Сейчас нажмет кнопку, впорхнет блондинка с алыми ноготками, притащит бутылки, рюмки… Нет, под столиком, вероятно, был вмонтирован холодильник, хозяин вернулся, держа в руках бутылку боржоми и два стакана, сильными пальцами сорвал металлическую крышечку, опрокинул сначала над одним, потом над другим стаканом бутылку с булькающей, шипящей влагой. И чего он так старается? Не сводит ли счетов за тот, первый раунд, явно им проигранный, когда он дрожал в окружении белых халатов, словно «голый среди волков»? Но почему на мне отыгрывается? Чем я-то провинился? И Наримантас большими глотками стал пить ледяную, покалывающую небо воду, стремясь поскорее разделаться с условностями этикета, пусть это и невежливо Не умел он притворяться, сидел в креслице неловко, был растерян и удручен, даже виноватым себя чувствовал, да, да, виноватым, ибо в глубине души ждал и хотел этого приглашения, хотя и знал, что ни лгать, ни любезничать не способен.
– Извините, товарищ Казюкенас, вы хотели посоветоваться насчет своей… – он едва не брякнул «болезни», но успел поправиться. – Своего здоровья?
Не столько слова врача, сколько само резкое движение, когда поднял он стакан, а может, и бульканье боржоми в пересохшей глотке гостя, громкое и вызывающее на фоне мягких ковров, приглушающих все звуки, сбили показное радушие с хозяина кабинета. С лица сползла добрая улыбка уверенного в себе и окружающем мире человека, потемнели, запали гладко выбритые щеки, даже воротничок белейшей рубашки уже не казался таким свежим. Казюкенас не отрывал взгляда от Наримантаса. Его рука, опустившая горлышко бутылки над стаканом гостя, чтобы налить еще, дрогнула, стекло звякнуло о стекло, боржоми пролился мимо, на столик. И рука эта не казалась уже ни сильной, ни красивой, словно принадлежала она не этому, привыкшему приказывать и всюду чувствовать себя как дома человеку, а кому-то другому, робкому, неуверенному, вытирающему ладонь о полу пиджака. Наримантас был уверен: возьми он сейчас эту руку, чтобы проверить пульс, она оказалась бы влажной… Сквозь безупречные манеры Казюкенаса проглянул страх, жуткий, унизительный страх почувствовать себя не тем, кем он уже много лет себя считал, кем привыкли видеть его окружающие, страх оказаться вдруг обыкновенным больным человеком, с надеждой всматривающимся в замкнутое лицо врача, даже не просто рядовым пациентом, а более мизерным и беспомощным, чем остальные, ибо они привыкли покорно и терпеливо ждать, а ему это будет впервой. Сам приведя в движение огромный механизм, он попал в него и теперь может лишь слабо копошиться – махина несет его независимо от воли, желаний, пришло в голову Наримантасу, и эта мысль помогла ему взять себя в руки, возвратила уверенность в себе. И чего это он как пришибленный сидел в «Волге», не решаясь и словечком перекинуться с шофером, почему подавленно брел по лестнице, неужели не видел никогда старинных интерьеров?
– Вы уж простите, не поинтересовался сразу вашим самочувствием, – и снова поймал себя на том, что чуть-чуть не обратился к Казюкенасу «больной», а ведь не желал иметь такого «больного», как не желал его предполагаемой болезни ни ему, ни себе, ни близким своим, и связываться с ним не желал, надеялся, что выкрутится, не станет грозным судьей Казюкенасу. А тот уже смотрел на него, как ожидающий приговора, нагнув голову, не спуская блестящих взволнованных глаз, вернее, одного глаза, и взгляд этот говорил им обоим больше, чем хотели бы они сказать друг другу в начале пути… Какого еще пути? Да ведь и не собираюсь я никуда идти с тобой!.. И какое мне дело до твоего глаза?.. Не я же его выколол!
– А знаете, доктор, неплохо, совсем неплохо… Особенно если соблюдаешь диету. Не всегда, увы, удается… Тем более когда всякие вояжи случаются. Но если не перегружаться питьем и едой, почти… терпимо. – Казюкенас приподнял было стакан, как бы приглашая и гостя допить боржоми, даже кинул взгляд на стрелки больших старинных часов, висевших на обшитой деревом стене, но металл его голоса, казалось, расплющен молотом, крупное тело обмякло в кресле, будто вытащили из него твердый стержень. Таким уже видел его Наримантас в отделении, но теперь страх был еще явственнее, успел укорениться, словно хорошо поливаемое и удобряемое растение, не дающее передышки ни ветвям, ни корням – тянитесь, захватывайте все более широкое пространство, пусть скорее зашелестит ядовитая, страшная зелень!
– Гм… Выглядите неплохо. В отпуску были? – Наримантас сердился на себя: чего ради торопится тащить его из трясины страха? Успокоениями да потаканиями на сухой берег не вытянешь. – Не вздумайте загорать. Дурацкая это мода – жариться на солнце! – Он продолжал обращаться к былому Казюкенасу, самоуверенному и беспечному, хотя не тот сильный и величественный, а, как большинство больных, по-человечески слабый, теперешний вызывал у него сочувствие и приязнь. Каждое не по долгу сказанное слово – он хорошо понимал это – связывает его с Казюкенасом крепче, чем хотелось бы, даже если придется оперировать. – Загляните при случае, еще разок посмотрим, – посоветовал он, как бы заканчивая разговор с пришедшим на прием посторонним человеком, еще не больным, только жалующимся на недомогание; уже представлял себе улицу, ее шум, сутолоку; там никто ничего от него не станет требовать и он ни от кого, и так приятно будет ощущать солнечное тепло, щуриться от сверкания витрин, а не смотреть в этот оживляющий давнее прошлое стеклянный глаз.
– Доктор, милый доктор! Хочу знать правду – болезнь у меня действительно серьезная? На самом деле?
Не хотел он правды, может, и хотел, но более всего боялся ее. Взгляд живого глаза наготове – крохотного отрицания, еле заметного мановения руки, отметающего его опасения, не хватало, чтобы мгновенно прояснилось лицо и на нем вновь обозначились бы уверенность и удовлетворение собственной персоной, своей многолетней деятельностью, теми пьянящими вершинами, которые достигнуты.
Увы, такого отрицания не последовало – не Наримантас, какой-то другой человек заупрямился внутри его, сухой и скрипучий, строгий, как неподкупный судия, и этот сухарь был доволен, чуть ли не радовался, словно после долгих блужданий встретил своего двойника и всегдашнего противника, жалкого, униженного, разбитого, еще более ничтожного, чем он сам. При чем здесь ты? Чушь, стучало в висках, больной взывает о помощи, а ты? Какой стыд, преступно радоваться столкнувшему нас несчастью! И все-таки губы Наримантаса то растягивались невольной улыбкой торжества, то цепенели от ужаса, когда представлял он себе, каким диссонансом всем надеждам Казюкенаса, каким страшным приговором ему могла бы прозвучать правда.
– Легких болезней не бывает, товарищ Казюкенас. – Не привыкший ни лгать, ни заворачивать диагноз в вату, на этот раз Наримантас пытался солгать и страдал от неправды. – По-вашему, грипп – легкая болезнь? А тут хирургическая ситуация… Понимаете?
– Да, но…
– Нет болезней легких или тяжелых, говаривал мой покойный профессор. До девяноста лет дотянул и, поверьте, кое-что смыслил! Легкими или тяжелыми бывают только сами больные, тут очень важен психологический настрой каждого индивидуума.
– Я понимаю, но… – Рассчитывавший, что все ему наконец станет ясно, но так и не добившийся вразумительного ответа, Казюкенас все-таки не прятался обратно в туман страха, нависший где-то неподалеку, его неустойчивый, непрочный, как скорлупка, челнок изо всех сил выгребал из этого тумана туда, где под чистым небом парили белые птицы, обгоняя свои отражения в зеркале вод. – Последние анализы вроде ничего? Разве вы недовольны ими, доктор?
Наримантас опустил голову, промолчал, в его голосе невольно зазвучали бы нотки приговора – анализы были скверными; Казюкенас приободрился, лоб его разгладился, лишь слабые белые полосочки виднелись на месте исчезнувших морщин отчаяния.
– А не отложить ли операцию? Как вы думаете, доктор? Может, она вообще не потребуется?
– Посоветуйтесь с профессором. – Наримантас не осмелился ответить прямо, как было решил, ввалившись в черный автомобиль Казюкенаса, а затем в его кабинет и даже позже – уловив свое отражение в зрачке стеклянного глаза. Он намеревался не только ответить, но и пойти дальше, скинуть этот тяжкий груз со своей шеи – отказаться оперировать! – вот ради чего поехал сюда. Его отказ не имел бы ничего общего со злобой, местью или завистью – необходимость самому делать операцию навалила бы на него огромную, непосильную ответственность.
– Нет, только не с профессором! – Казюкенас рубанул по столику ребром ладони, точно отметая все то ложное и фальшивое, что опутывало его. – Помните, милый доктор, – он вдруг улыбнулся жалко и искренне, что совершенно несвойственно было теперешнему Казюкенасу, а его мертвый глаз сверкнул зло и подозрительно, – помните? Не выходит у меня из головы тот «вечный твид». Я к нему… а он…
– Ну, кто не без слабостей…
– Нет, нет! Когда лет десять назад мы познакомились, его мой галстук заинтересовал, потом пришлось вести к моему портному, рекомендовать парикмахеру…
– И врачи – люди. Я уже говорил вам о своем старом профессоре, так он при обходе любил напевать: «Пять литов [1]1
Лит – денежная единица в буржуазной Литве .
[Закрыть] , пятьдесят… Еще пять литов, пятьдесят…» Некоторые больные обижались, – Наримантас даже удивился, как вдруг стало ему интересно беседовать с Казюкенасом. – А слышали бы вы, о чем во время операции хирурги болтают…
– Ну что вы, доктор! Это понятно, когда делом занят, углубился в работу… А тут я сомневаться начал. И знаете, в чем?
– В чем же? – Наримантас подобрался, стараясь отделаться от обволакивающего обаяния этого человека, все сильнее его привлекавшего. Оказалось, что он не туп и не надутый индюк, чего опасался Наримантас и чего даже хотел, готовясь к визиту. Уперся бы – нет! – и вся недолга.
– Вот вы специалист, не сомневаетесь ли в нем как в специалисте?
– Сомневаться можно в любом враче. Дело в том, что терапевты…
– Я говорю о профессоре, только о нем! – голос Казюкенаса окреп, в нем зазвучали властные нотки, даже захваченный, сбитый с ног неожиданной болезнью, он не научился еще смягчать тон, искать смиренные слова. И тем не менее желание искренне высказать свои сомнения трогало.
– В мою компетенцию не входит аттестация профессора. – Наримантас качнулся вперед, словно сейчас, немедленно встанет и прервет разговор, движимый не столько этикой медицинской солидарности, сколько пугавшим его предчувствием, что Казюкенас, сомневающийся и пытающийся выяснить истину, куда опаснее, чем Казюкенас, вторящий профессору.
– Разве я предлагаю переаттестовать его? Бог с ним! – Казюкенас нахмурился, вынужденный на каждом шагу отступать, извиняться; да, с этим угрюмым хирургом не поговоришь, как с каким-нибудь подчиненным – вежливо, но решительно, вежливо, но иронично. Мало того, что сдерживаешься, еще потакай ему, чтобы как-то подольститься к неизвестности или судьбе – как хотите называйте эту тупую боль, сверлящую внутренности, то затухающую, то вновь воскресающую независимо от обстоятельств, от того, что делаешь, от твоей воли, она – будто кем-то коварно запрограммированное и внедренное в тебя орудие разрушения, и управление им неподвластно тебе.
– Не знаю, что и посоветовать вам. Сомневаетесь в профессоре, проконсультируйтесь у другого специалиста. Ведь доверяете же вы кому-нибудь?
– Вам, только вам, доктор! – Сильные пальцы Казюкенаса судорожно сжали плечо врача, а глаза впились в лицо Наримантаса, пытаясь увидеть в нем ответ. Выражение этого лица резко и быстро менялось, словно пробегал между ними состав и в малые промежутки между вагонами так трудно было что-то рассмотреть, ловишь на стенках пролетающих вагонов лишь нечеткое отражение своей собственной, странно изломанной тени. – Только вам, доктор!.. Только тебе, Винцас! – Казюкенас отчаянно пытался остановить перестук этих бешено летящих мимо вагонов.
Звякнули, сталкиваясь, буфера, и он услышал:
– Разве вы не помните моей фамилии? Я – Наримантас. Винцентас Наримантас. Последние анализы при вас? Посмотрим еще разок…








