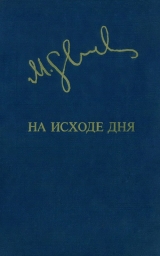
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
Оставшееся за дверью лицо раздражает все меньше, представляю себе этого типа в междугородном автобусе, трясущимися губами возносящего хвалу господу за чудесное избавление от бандитов! Разве не целая шайка их, спрятав ножи и перемигиваясь, ошивалась вокруг? Вспомнит о своих свиньях и вовсе успокоится, а меня, бесцельно бредущего по улице, будет глодать совесть, увеличивая и без того дикую тоску. Перепугал еле живого, скорее всего одинокого старика… Недавно меня интересовали воры, а теперь вот побывал в шкуре мелкого хулигана… Кулаки зудят до того отвратительно, что хоть об забор их чеши. Эх ты, даже стукнуть-то как следует, чтобы ближние рты поразевали, не можешь. Уныло, как всегда, когда фонари еще не горят; но и свет не принесет ясности – мгла растекается изнутри, сливаясь с городским мраком. Освещенное окно, постукивание веломоторчика, чьи-то нетрезвые шаги, даже прикуривание сигареты у незнакомца – все ложь, еще более густая темень. Из этого мрачного месива выскальзывает вдруг «Жигуленок», беззвучно проносится совсем рядом – горячий ветер раздувает клеши, обжигает голень. Куда прешь, скотина? На людей! Прости, дедушка, прости, если можешь, обидел я тебя в автобусе, но этому не прощу… Нагибаюсь, нащупываю камень… Асфальт, пылью и бензином смердящий асфальт! А «Жигуленок» из породы люксов, цвета белых ночей, такой мне и нужен! Именно такой! Встряхнулся, оцепенения как не бывало, все отлично вижу! Через заднее стекло кивает собачка – ну как же можно без игрушечной собачки или кошечки? Откормленный, заросший буйным волосом затылок ловко гребущего денежки деляги, какой-нибудь сценарист или торговый гений, а рядышком в сверкающей одежде, будто в алюминиевую фольгу укутанная манекенщица, а может, танцовщица из ночного бара… Увязываюсь за ними, стараюсь не отстать. Как самый зоркий автоинспектор преследую удирающих – газуют изо всех сил, словно украли этот автомобиль, и не у кого-нибудь, у меня… Рука в кольцах опускается на неповоротливый затылок, вот-вот исчезнет за углом сверкающий багажник, прямоугольник хромированных молдингов пропадет там, куда не достигнет мой ненавидящий взгляд… Чуть-чуть не задавили человека, а сами обнимаетесь? Из последних сил держу их в поле зрения, аж на лбу жилы выступают… На какую-то долю секунды задний бампер вильнул, колеса выписывают зигзаг, потом багажник подпрыгивает вверх и грохается о троллейбусный столб. Фейерверк осколков, огня и крови… В пронзительной тишине тонет город, слышно лишь мое возбужденное дыхание, да булькает из бака бензин высшей марки, и кивает головой вылетевшая вместе со стеклом на асфальт собачка…
– Зигмас… Зигмас… Вот счастливый денек… Как живешь?
В вечерних сумерках возникает передо мной огромный, феноменальный сизый нос. Пялюсь на заросшее, вечно потное, сопящее лицо. Сизоносый! Отцовский экс-учитель Каспараускас! Наконец-то соображаю, в какие дебри забрел… Успел угрохать двух человек в «Жигулях».. Неужели так легко убить? Жаждешь этого?..
– Зигмас… Зигмас. Стесняешься? – Меня преследуют хрипение запахи дешевого вина и мочи. – Не надо стыдиться и горба… У всех он есть, у одного наружу торчит, а у другого спрятан… Не стыдись!
Ненавижу Каспараускаса, и не только потому, что подвернувшись под колеса, он разрушил интересно начавшуюся легенду Дангуоле. И не потому, что приоткрыл заурядность отцовского прошлого. Он всегда путал меня с кем-то, как будто у меня нет собственного лица! Как будто я не ощущаю каждого щелчка своих нервов, каждой капли крови в своих жилах! Меня, меня., с кем-то?
В сипении обрыдшего мне Каспараускаса только что прозвучал незнакомый мотив: горб. Мало того, что я – не я, еще и горбатый? Учуял своим разбухшим от алкоголя носом мои кровожадные мысли? Понимает, что сам себя ненавижу?
– На-ка вот, купи себе… Ступай и напейся! – Сую мелочь в вялую, липкую, трясущуюся, как медуза, ладонь.
Над городом желтеет зарево, ухмыляясь над темнотой окраины, над выдуманными мной ужасами. Уходя, воскрешаю «Жигуленка», милостиво помахав его пассажирам. Без моей помощи грохнетесь, если будете обниматься на скорости… Нужен мне ваш серийный «Жигуленок»! И все-таки слежу, как он отъезжает, хотя еще и не до конца верю, что возле столба не дымятся его останки…
12
Словно не болен – в мыслях женщина, желанная сильнее, чем тогда, когда была доступна, но ее нет, и даже не решаешься произнести ее имя столько раз, сколько хотелось бы. Когда оглядываешься назад, на последнее, сгоревшее как мгновение, общее их десятилетие, вырастает перед глазами не пригородная рощица, в которой и с завязанными глазами не заблудишься, а дремучий бор, радостно и грозно разносящий их голоса; путаются даты, встречи, телефонные разговоры; волна за волной, не смешиваясь друг с другом, накатываются дни разногласий и споров, мира, взаимного доверия, даже детских шалостей – и ее недомогания, страшные своей внезапностью, сокрушающие все хорошее и плохое. Безостановочно мелькают под ногами тени и солнечные блики, каждую минуту меняется их загадочный рисунок – было ли так, как было на самом деле, или ему только почудилось?
Потому не прочна память о счастье, что предан он теперь-то понимает! – предал единственную свою женщину: давно уже искал случай испытать ее верность, которой, оказывается, не ценил, как здоровый не ценит здоровья. Болезнь ударила обухом по голове это так, кто же спорит? – однако, вместо того чтобы укрепить его привязанность и благодарность, она стала той желанной возможностью проверить (что проверить, люди добрые?), проникнуть в самые затаенные мысли женщины, туда, куда не пробраться щупальцам мужского чутья. Неужели именно этого он и хотел, таясь от единственного близкого человека, отдаваясь под железную опеку Наримантаса? Если бы не навалилась болезнь, сам бы ее выдумал? Нет, операция нисколько его не оправдывала, не оправдывай и послеоперационный шок, остается лишь надеяться, что Айсте будет великодушной – не только красивой, не только капризной… Будет, как же иначе, пусть он и недостоин прощения! Каким же слабым оказался, едва потянуло ледяным ветерком конца. Вместо того чтобы изо всех сил держаться за то тепло, которое не раз поднимало и вливало жизненные силы – ведь случались и трудные времена, хотя многие считают, что плыл он по молочной реке с кисельными берегами, – вместо этого он без сопротивления согласился стать подобным Шаблинскасу. А чего он стоит, Шаблинскас, разве обладал бедняга когда-нибудь такой женщиной, такой болью и радостью? Эх, хоть бы угадать, какое она первое слово скажет, какой взгляд бросит, появившись!..
Мается тело в несвежих простынях, Казюкенасу сейчас не пятьдесят с хвостиком, увы, гораздо больше, а она, эта женщина, все моложе, все стремительнее, совсем девчонка, то с радостью исполняющая любые его просьбы и капризы, то натягивающая на себя насмешливую маску равнодушия. Каждый раз вместе с Наримантасом, поблескивая гладким коричневым загаром, в элегантном костюмчике, привезенном из лондонского супермаркета, появляется она в палате, полная необычайной и сердечной доброты. К кровати почему-то не бросается, может, и кинулась бы – удерживает строгий взгляд доктора. В его воле и власти вернуть ее от окна, через которое образ Айсте тут же улетучивается, в одно мгновение сливаясь с городским небом, уличной спешкой, крикливыми афишами, и снова становится она звездой эстрады с почти неприличных, ощупываемых сотнями тысяч глаз рекламных плакатов, жестяной, с придыханием выговариваемой песенкой, от звуков которой хочется бежать… А Наримантас никак пока не использует своей власти, хоть обещал, и сжимается сердце как бы не отказался от силком вырванного обещания. Еще страшнее – а вдруг да ввалится Казюкенене с христианским всепрощением? Благодетельница… Не околдовала ли она ядовитой своей чистотой и Наримантаса? В противном случае, чего бы он о ней так беспокоился?
– К вашему сведению, Зубовайте уехала на гастроли!
Голос от напряжения дрожит – не сказать бы больше, чем следует, или меньше, чем необходимо Когда Наримантас поминает Казюкенене, тон у него подозрительно равнодушный. И вправду, не было ли чего между ним и Настазией? Постой, постой, кажется, подвернулся он нам однажды в коридоре общежития, когда с вечеринки возвращались? Торчал у заиндевевшего окна, на луну вздыхая, в расстегнутом новом пальто Все с отцом спорил, на одевался-то на денежки ветеринара… Проходя мимо, я задел его локтем тесно мне было в собственной шкуре, тесно на вечеринках, в университете. А он притворился, что не заметил нас, – парочка за парочкой проскальзывали мимо Хотя, может, стоял себе, и все, просто так, совсем не ожидая Настазии. Мороз-то ему ушей не грыз. Если и подзуживал меня тогда бес, то уж никак не к нему ревновал: разве соперник этот съежившийся в тени Каспараускаса паренек? Обоих нас связывала опека добряка учителя, только я вырвался, а он… И в бок-то толкнул его по-приятельски: смотри, мол, вот он я, Александрас Казюкенас, ничего не боюсь!.. Подавайте мне самую лучшую девчонку, а что воротит нос от комсомольского значка, что крестик у нее меж грудей болтается – еще лучше! Бурлила во мне силушка, как из подземного ключа, била… Конечно, не предполагал я, что из-за этой женитьбы придется, не окончив курса, уползать в провинцию: дочка богатых родителей, крестный отец – ксендз! Чуть не погорел из-за нее, только теперь начинаю понимать… Только теперь?
– Дает концерты в Утяне и Зарасае. – Слова ничего не сулят, однако голос помягче, и потому взгляд больного, оторвавшийся от тени Казюкенене, следует за Наримантасом, трусит в отдалении, как умная бездомная собака, чтоб не надоесть, не навлечь на себя гнева, чутьем угадывая настроение прохожего – вдруг да пожалеет, бросит кусок и разрешит ласково прижаться к ноге.
– Мучают сны, детские сны, Винцас… Был здоровым, редко их видел, очень редко, да и то собрания начальников… С начальством, говорят, и во сне не ходи яблоки рвать! – заискивающе засмеялся Казюкенас. Наримантас тоже выдавил улыбку, увидев в его подернувшемся дымкой взгляде тоску по Айсте. – А тут чудится, несемся мы с тобой в Вильнюс, забравшись на крышу вагона… Зима, метет, пальцы к железу прилипают… Не пустые в город возвращаемся, кой-какие припасы из дому везем. Приварок к студенческому пайку. Вдруг грохот – топает сапожищами по крышам какой-то хват в развевающейся шинели, цап мою торбу… И вот уже оба висим между вагонами, над буферами… «Винцас, – хриплю не своим голосом, – спасай». А ты, прости, доктор, печально так: «Не дал квартиры, ну да что с тобой делать, прощаю!» Протянул руку, хват отпустил торбу и соскользнул в пургу… А ветер свистит, вагон из стороны в сторону бросает, и жутко нам, двум полуживым сосулькам…
И Наримантаса до костей пронизывает холод той ночи, поезда мимо их станции проходили по ночам. Все-все помнит Казюкенас, когда хочет. Прикидывался, что растерял воспоминания? Ехали как-то раз вдвоем, прижимаясь друг к другу, мороз слезы из глаз выжимал, а так, рядышком, вроде бы теплее… Кто-то дернул мешок Казюкенаса и убежал, громыхая по крышам, когда мы вскинулись, вот и все! А приехали – расстались холодно, уже мужчины, с недоверием поглядывающие друг на друга, стыдящиеся детского испуга. Позднее раскаяние, что не помог с квартирой? Скорее взятка: готов унизить себя любыми, пусть и не очень красящими его, воспоминаниями, лишь бы позвал ты Зубовайте.
– Вернулась из Зарасая. Мигрень замучила. Сами понимаете, говорить с женщиной, когда ей нездоровится… – По благодарному блеску в живом глазу Наримантас понял, что попал с мигренью в точку.
Казюкенас наконец наткнулся на некую веху, словно набрел на исхоженную некогда вдвоем излучину речушки или на поломанную скамейку в поредевшем, до неузнаваемости изменившемся парке. Валы мигрени, вдруг захлестывающие Айсте, без сомнения, бесили его. Но теперь остро запахло цветами, которые он, как штабеля дров, складывал возле ее немых, казалось, навсегда захлопнувшихся перед ним дверей.
Запах увядающей, преющей зелени свидетельствовал тогда о ее силе и его беспомощности, теперь же – лишь о женской слабости. Ведь и она нуждается в заботе, и она! Однако Наримантас не намеревался подбрасывать хворост в огонь угасшего было и вновь ожившего чувства Казюкенаса. Усмехнулся своему ясновидению, но отлегло ненадолго. Не отделался от мыслей, даже и мыслями их не назовешь – от кошмара. Что с ним происходит? Ведь он же терпеть не мог, когда больной начинает перетряхивать перед врачом потайные ящички своей жизни! Не выносил исповедей, сентиментальных воспоминаний. Натолкнувшись на его холодность, разбилось немало попыток сделать его исповедником, сообщником, черт знает кем. Но Казюкенаса сдержанность эта, вместо того чтобы отпугнуть, разохотила… Что поделаешь, оказывается, и его, Наримантаса, привыкшего резать живую ткань, волновало прошлое – но такое давнее, такое истлевшее? И захотелось раздвинуть плотную завесу. Что за ней мелькает? А может, подмывало увидеть в чужом зеркале себя, каким мог быть и каким не стал? Едва начинает поскрипывать набитый всяческим хламом, заедающий в пазах ящичек с сокровенными тайнами Казюкенаса, под сердцем разливается холодок… Нет, хватит! А то в путаном клубке его жизни потеряешь главную нить – болезнь!.. И так уже весь опутан, порой не можешь сообразить, где начало… Но разве то, как человек жил, работал, любил, не связано теснейшим образом с болезнью? Ведь болезнь – не только авария, но и амортизация, медленное отравление жизнью. Значит, жизнь – не радость, не великий дар, не единственный способ самоутверждения в бесконечности, лишь начало смерти? Чушь! Тогда и лечить болезни следовало бы не скальпелем или химиотерапией, а черной магией, в данном случае благосклонностью Зубовайте, по которой так тоскует Казюкенас. Ерунда! Едва прослышав про эту женщину, Наримантас чутьем угадал, что больного придется оберегать от нее, и куда решительнее, чем от детей. А теперь, вместо того чтобы гнать, надо приглашать: пожалуйста, крушите, ломайте то, что я слепил! Один ее осознанный или случайный взгляд, осторожное или неосторожно брошенное слово – и больной провалится туда, откуда его трудно будет дозваться, а звать придется и вытаскивать придется… Вглядевшись в Казюкенаса, понимаешь :он ждет не женщину – чуда, перелома в своем неопределенном состоянии, нового, более счастливого начала!
Мигрень Айсте на некоторое время примиряет его с необходимостью ждать, но долго ли будет тянуться вверх не орошаемый живительной влагой побег надежды? Наримантас чувствует, что у него мало времени, да и оно быстро исчезает, как горящий листок бумаги.
– Следователь Лишка.
– Мы знакомы.
– Полагаю, нечасто вспоминаете обо мне?
– Вы здоровы. Вот были бы больны…
– Я решил повидаться в вами не откладывая. Не сердитесь, доктор, что вынужден помешать вам?
– Снова о летающих тарелочках, то бишь, извиняюсь, летающих крышках?
– Скорее о крышках-путешественницах. Не все вы о них знаете. Это целая одиссея.
– Когда начинаю тосковать по «Одиссее», берусь за Гомера, товарищ Лишка.
– Да, но Гомер жил не в наши времена!
Снова напоминает он сына – такая же манера держаться, – и это заставляет внимательно, до звона в голове прислушиваться к нему.
– Разрешите продолжить? Крышки производят на комбинате, где в основном работают слепые. Представьте себе: вы стоите у ворот и проверяете выходящих…
– И слепых?
– Слепые – такие же люди, доктор.
– Не сомневаюсь, но…
– Вы стоите – не с ружьем, конечно! – и осматриваете каждого. Ничего подозрительного не замечаете, а крышки текут подземной рекой, как и текли. Не сотнями – тысячами, десятками тысяч…
– Каким образом?
– Каким? – Лишка небрежно смахивает пенсне, оно больше не нужно – он не сомневается, что врач попался в сеть и любуется впечатлением, которое производит на всех не соответствующая его зеленому возрасту осведомленность. – Каким? – повторяет он и прикасается к локтю Наримантаса. – Скажем, специально вы не интересуетесь прекрасным полом… Простите за нескромность, доктор! Стоите себе у проходной и среди идущих со смены женщин замечаете девушку… Шествует из цеха с осанкой королевы – так гордо несет голову, такое чувство собственного достоинства в глазах. А грудь высокая, как у кинодивы. И простите за выражение, доктор, хотя вас не подогревает определенный интерес – сто раз извиняюсь! – не можете не удивиться: утром на месте двух холмов простиралась равнина! Ясно, крышек насовала. По семнадцать штук в каждой чашечке бюстгальтера. Не верите? – Наримантас убирает локоть, Лишка снова надевает пенсне. – И таких способов тысяча и один, семь потов сойдет, пока раскусишь, в чем секрет… Вот, к примеру, старый капроновый чулок под пальто! Высчитано: в такой колбасе помещается семьдесят крышек. Все, обнаружили! С чулком больше не проскочишь! Тогда начинают мелькать в авоськах коробки макарон, обыкновенные, стандартные картонные коробки – кто запретит женщинам по дороге на завод делать покупки? Сверху – макароны, снизу – крышки! Или вот дамские сумочки – до ста крышек в одной! Запрещаете входить на территорию с сумками, а крышки по-прежнему…
– Действительно, хитрая история…
Наримантас уже всерьез заинтересовался, как рождается этот мелкий ручеек, разливающийся потом мутной рекой. В больничных стенах жизнь обнажается до малейшей, тончайшей ниточки, но пространство вокруг дергающего за эту ниточку врача непрерывно сужается. Когда, обалдев, выскакиваешь на простор, удивленно хлопаешь глазами, будто в Африку попал. Что делают люди! С ума сходят? Ничего подобного! Это ты, если смотреть их глазами, безумец или фанатик.
– Подождите, еще не все! Мышонок с крышкой в зубах не проскочит, а крышечки все выкатываются… Вы не думайте, жизнь на комбинате не замирает: выполняются планы, прославляются передовики, проводит репетиции самодеятельность, работает спортивная секция… Каждый день заруливает в ворота гордость комбината, помощник мастера – победитель мотогонок. Вы же знаете, как дорожат чемпионами на предприятиях? Прикатит – укатит, лихо помахав рукой в перчаточке… И что же? Разворошили как-то его коляску, сняли сиденье, и на землю упало несколько заржавевших крышечек… Чемпион угрожает ни в жизнь больше не выходить на старт, клянется никогда и ни за что не садиться на мотоцикл! От былого величия остался у него один мотошлем, в нем приходит, в нем уходит… Когда же хитрый вахтер догадался заглянуть под шлем – так и есть, крышки! Сколько их вынесла таким способом гордость мотоспорта?! Или, к примеру, трубач… Без него и на свадьбе не попляшешь, и крестин не спрыснешь, ветерана на заслуженный отдых или на место вечного успокоения не проводишь… Всем трубач нужен, все его уважают! Из сотен семейных альбомов глядит на вас его славный бас-геликон…
– И в трубе, скажете, крышки?
– Как скиландис [3]3
Копченый свиной желудок, фаршированный кусочками свинины .
[Закрыть], набивает! А если грузить не в трубу – в кузов грузовика? Я не говорил вам? Себестоимость крышки – полкопейки.
– Всего? А я-то думал…
– Так ведь тысячи, миллионы! – голос юного франта звенит, и Наримантас чувствует, как окружают его кучи, горы сверкающих крышек, затмевающих самое солнце. – Полкопейки, да, но в марте за крышку дают на рынке пятак. Запомнили? В мае больше, а в августе, когда неистовствует лихорадка консервирования, еще больше. Доставив эту самую крышечку на Украину, получаете уже пятнадцать копеек! Кстати, по одной никто их не возит, пакуют столбиками по 70 штук, в стандартном бумажном мешке 18 таких столбиков, то бишь всего 1260 единиц. Какой доход получите, продав один мешок? А сколько мешков помещается в кузове грузовика?
– Работа Шаблинскаса?
– Не думаю, – следователь усмехается. – Украина – не близкий край, не через одни руки пройдут крышечки, пока докатятся.
– А по-моему, Шаблинскас не виноват.
– Потому, что спасал чьи-то личные девяносто шесть рублей?
– Только честный человек…
– Рассуждения о честности могут нас далеко увести. Давайте лучше делить подозреваемых на виновных и невиновных.
– О-го-го! Не слишком ли грубое деление? Заподозрить можно кого угодно.
– В любом случае обвинение строится на фактах.
Не поздоровавшись, не извинившись, вклинивается в их беседу Нямуните:
– Но одного факта вы почему-то не учитываете! Делайте столько крышек, сколько людям надо, и никто не станет воровать!
– Я же не даю вам советов, как лечить больных! – Следователь заливается краской, потому что сестра молода и красива.
– Вы мешаете их лечить!
– Прекратите, сестра! – Наримантас спешит погасить огонь, вновь удивляясь Касте – до чего же изменилась за несколько дней. – Вы что-то хотели мне сказать?
– Доктор Рекус предлагает подключить аппарат. Не нравится ему дыхание больного.
– Какого больного, сестра?
– Разве вы не о Шаблинскасе? – Словно играючи, разрывает Нямуните сплетенную следователем сеть – крышки? какие там крышки? – однако в голосе ее и поведении уже и следа нет всегдашней уравновешенности.
– Неужели вам не известно, сестра, что аппарат искусственного дыхания подключен к другому больному?
– Вон он, ваш «другой»… – Нямуните напряженно смотрит куда-то в сторону, и у Наримантаса по телу пробегает дрожь – самые обычные ее слова таят грозный смысл.
– По нашим наблюдениям, народное добро чаще расхищают сытые, чем голодные. Ваша симпатичная сестра плохо информирована, доктор… – Следователь пытается комплиментом смягчить свою резкость, но комплимент повисает в воздухе – и доктор и сестра, забыв о нем, смотрят в глубь коридора.
Далеко, в самом его начале, поскрипывает каталка, покрытая белой простыней и сопровождаемая доктором Рекусом. По скрипу колесиков, по стремлению санитаров быстрее добраться до лифта делается понятно, какой везут они груз, понятно всем, кроме следователя.
– На операцию, доктор? – спрашивает Лишка Рекуса. Молодой человек стремится вести себя солидно, а лицо бледнеет – точно так же побледнел бы Ригас, боящийся крови, – увидев отца в запятнанном халате, он теряется и становится уважительнее.
Рекус не успевает ответить, из-под простыни выскальзывает длинная, обтянутая желтой кожей рука, не очень-то похожая на человеческую – скрюченная сухая плеть выскальзывает и, раскачиваясь, ударяется о бок каталки.
– Что с ним? – Лишка обращается то к Рекусу, то к Наримантасу, инстинктивно избегая Нямуните и взглядом умоляя врачей вмешаться, что-нибудь сделать, чтобы рука не билась, как мертвая ветка. Рекус догоняет каталку, останавливает ее, осторожно приподнимает простыню, его борода склоняется над лицом покойного. Взяв руку, он укладывает ее на грудь, заботливо укрывает, будто человек еще жив.
– Одни кости остались, – ворчит седоголовый усатый санитар. – Боишься потерять какую-нибудь?
– Ничем не смогли помочь… – Рекус подает санитарам знак двигаться дальше, а сам возвращается к Наримантасу, на какое-то мгновение они замирают, словно в почетном карауле, подавленные жалостью, сознанием собственного бессилия и еще каким-то, не часто посещающим медиков чувством. Недолгой была эта минута скорбной сосредоточенности, пока не завыл зверем уносивший добычу лифт. Больного этого утром еще упоминали на пятиминутке, мол, безнадежен… И положили-то в больницу не для лечения, а чтобы сбыть с рук. Все чаще навязывают заботливые родственники медикам чуть живых стариков – щадят собственные нервы и время… Зло берет, и только. Одно хорошо – наконец-то Шаблинскас получит аппарат.
– Ах да, ваши крышки… – Наримантас вспоминает о следователе. – По-прежнему считаете их одним из чудес света?
– Бороться с хищениями наш общий долг. – Лишка сгорбился, не сводя глаз с двери лифта, за которой что-то скрипит и грохочет. – Значит, не пустите к Шаблинскасу?
– После того как перевезем в палату покойного. Там аппарат, мы через него кислород даем. – Наримантас говорит миролюбиво, белое лицо Лишки свидетельствует: сегодня Шаблинскасу опасность не грозит. – А виновен ли он? – Лишка незаметно исчез. Наримантас услышал только свой вопрос.
…Виновен или невиновен Шаблинскас?
…Виновен или невиновен Казюкенас?
…Виновен или невиновен… Кто еще? Хватит, совсем рехнулся!
Никак не мог он отделаться от назойливой, не до конца ясной ему самому мысли, взгляд цеплялся за клумбы, автомобили – подозревал какую-то перемену в цветах и траве, в уличной толчее, в шелесте легкой одежды. В чем дело? Чего же он хотел?.. Только что, казалось, начавшееся лето добралось уже до зенита, солнце яростно жгло едва успевшие завязаться бутоны, плавилось в жирных масляных пятнах на асфальте. Время стремглав летело вперед, ничего не принимая в расчет, равнодушное к рождающимся и тут же исчезающим краскам лета. Чего же он хотел?.. У Наримантаса скрипели все суставы, сопротивляясь неосмысленному и потому мучительному движению.
– Куда спешите, доктор? – Как непривычно: не краснея, не извиняясь, остановила его на перекрестке Нямуните. – Даю голову на отсечение, на охоту собрались!
– Не понимаю вас, сестра.
– Певчую птичку изловить собираетесь. Точнее говоря, Зубовайте. Заставил все-таки Казюкенас? Не может без нее выздороветь? – Глаза Наримантаса слепило сверкание белого лица Нямуните, однако оно не волновало уже, не трогало, вызывало лишь сдержанность и даже неприязнь.
– Больной Казюкенас, сестра. Его воля…
– Сестра? Не ново и не изобретательно… Ну да ладно! Чего же хотите вы от Айсте Зубовайте?
– Ничего. – Внезапно он понял, что действительно направлялся к Зубовайте, если бы Нямуните не окликнула, наверно, повернул бы назад. – Передам ей просьбу больного. Не нравится мне его вид.
– Есть же телефон. Могли бы поручить мне, то бишь сестре.
– Не сообразил. – Право, недопустимое ее вмешательство может рассердить. – Впрочем, не думаю, что беседа с ней доставила бы вам удовольствие.
– А вы, значит, на удовольствие рассчитываете?
– Я выполняю свой долг. – Он услышал собственный скрипучий голос, уместный в больнице, но не здесь, на широком просторе площади.
– Ругайте, доктор, только не молчите! Сама себя кляну за то, что глупости болтаю… Ведь ничего от этого не изменится, правда? Не знаю, что со мной происходит. Потом буду грызть себя, но уж разрешите кончить… Собираетесь выяснить, любит ли она, эта женщина, вашего Казюкенаса?
– Больного Казюкенаса…
Ах уж этот ваш формализм до мозга костей въелся! Гоните его прочь! Ведь вас интересует не только, любит ли Зубовайте Казюкенаса, а и достойна ли она его. Что и говорить, героический поход замыслили!
– Иронизируйте сколько угодно, но не фантазируйте.
– Я не птичка небесная. Даже не эстрадная. Где уж мне фантазировать! Чутьем кое-что угадываю, и все…
Согласитесь, вам невыгодно, чтобы Зубовайте была иной, чем вы ее себе представляете!
– Мой пациент он – не она.
– Ладно. А он, он достоин ее?
Наримантас не выдержал обжигающего взгляда Нямуните.
– Он больной.
– И больше никто? Иногда мне кажется, что он ваш пленник. Или что вы к нему в плен попали. Вот тащитесь туда, куда вас и силой бы не загнать. Во имя чего? Может, из самолюбия? Или от гипертрофированного формализма?
– Он больной. – Наримантас тупо отбивал ее меткие удары.
– Да, больной, но и человек! Мы, медики, тоже люди, однако стараемся скрыть свои слабости, словно прыщавую кожу… Особенно вы, доктор, простите за дерзость! Я так восхищалась всегда вашей сдержанностью, старалась во всем подражать… А теперь сомневаюсь… – Их окружал и будоражил город, пестрый и веселый, однако с трудом проветривавший пыльные, забитые бензиновым чадом легкие. – Не хочу больше величать вас доктором, как будто и в этом ложь! Даже и теперь не станете сердиться?
– Ну что вы, Касте, пожалуйста.
– Поговорим о ней, об артистке. – Она пропустила мимо ушей неискренность в его ответе. – Осудили мы ее, едва увидев, и вы и я. Справедливо ли? Представляю себе, как вы торжественно объявите: великий человек соизволил разрешить вам аудиенцию, уважаемая! А может, этот «великий человек» осточертел Зубовайте, как не знаю кто? Зачем ей обременять себя больным?
– Неужели забыли, Касте? Любовь и тому подобное…
– Какой прок от его любви? Одна морока! Вам не понять… Зачем Зубовайте беспомощный старик, у которого?..
– Я попросил бы!.. Ставить диагнозы позвольте врачам!
– Мы не в больнице. Говорю, что думаю.
– Для меня всюду больница. – Наримантас отступал от раскрасневшейся Нямуните, от ее открытых, не сдерживаемых больше привычным послушанием упреков и одновременно сожалел, что прошел, канул в небытие неповторимый миг возможного сближения.
Они сказали друг другу слишком много и отныне будут вынуждены еще сильнее замкнуться.
– Слова, слова! Нет человека, которому работа заменяла бы все на свете, хотя вы действительно больше, чем кто-либо, походите на такого…
– Может быть, вы и правы, Касте, но, если Зубовайте… если она окажется вдруг единственным лекарством, нужным больному, я согласен за волосы ее приволочь!
Нямуните охнула от удивления, лихорадочно порылась в сумочке, отыскивая носовой платок. У нее такой вид, словно она проиграла в суде дело, которое любой ценой стремилась выиграть. Отвернулась, плечи у нее задрожали, и Наримантасу пришлось изо всех сил сдерживать себя – уже протянул было руку, чтобы приласкать, успокоить… Перед глазами мелькнула наколка на груди того алкоголика – ее имя, обвитое кольцами ужа. Сердце схватило, сжало, и он, как учил больных, сделал несколько глубоких вздохов.
Мозоль? Этого еще не хватало. Пока стоишь – терпимо, а едва тронешься – в ступню врезаются мучительные шипы, не желает нога умещаться в криво стоптанном тесном башмаке. Теперь на истомленную зноем листву, на лениво бредущих, измученных жарой прохожих Наримантас вынужден смотреть сквозь мутящую рассудок боль. На миг в его отуманенном сознании всплывает оживленное, с глазами навыкате, бодро смотрящее мимо него вдаль лицо. И знать Дангуоле не хочет, что обувь ее Винцаса просится на помойку… Себе сразу по несколько пар покупает, потом перепродает кому-нибудь за полцены, выбрасывает. Были же у него почти новые, выходные, засунула куда-то, разве найдешь… Острая боль перешла в тупую, уже не обжигает, если поджать большой палец, и, не стесняясь, прихрамывать, но теперь она поднимается вверх, застревает в левом боку. Ковыляй, как хромая лошадь, по милости Дангуоле Римшайте-Наримантене, в то время как тебе следовало бы войти легким шагом посланца богов или хотя бы герольда. Улыбнулся своему сравнению, а в уголке сознания царапнуло: кто-то, наверно, смеется над его донкихотством. Может, Нямуните, прижавшая к глазам платок и оставившая ему покалывание в боку, неприятное напоминание об осенних мужских заморозках – стенокардии? Может, Жардас, с которым он выпил стопочку для храбрости, а может, и Ригас, закусивший острую улыбочку: что, отец, все человечество спасаем? Если и спасать, то срезав мозоли!..








