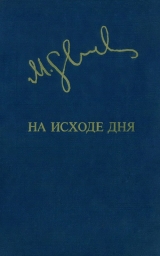
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
– Люблю, люблю тебя… Покажешь?
Из двух грозных бед моя рука – большая? Или Влада женским своим чутьем видит дальше, чем я? Чувствую, что совсем не рад вырванному у нее согласию сделать по-моему… Часом раньше – с ума бы сходил от радости. Почему? В руке стреляет, до самого плеча отдает. И пусть я знал, что беспокоит меня не столько физическая, реальная боль, сколько воображаемая, все-таки брала оторопь.
Оторвался от Влады, приказал, чтобы ждала, и метнулся из гаража. Рука ноет, кишит в ней небольшой жалящий рой, кучка горящих углей. Так недавно лелеял я в душе смелые замыслы, только что боролся с занесенным над ними топором, а самая большая для меня опасность, оказывается, зрела во мне самом, в моей плоти.
Как невозможно, чертовски невозможно предвидеть все в человеческой судьбе!
Пот заливал грудь, стекал по животу, даже резни ка трусов намокла. Собственное тело было мне противно, его насквозь пронизывал страх, словно было оно пористым. Казалось, люди шарахаются не от бегущего человека – от кишащего микробами трупа. Пока таятся они возле ногтя, но скоро невидимыми полчищами расползутся по всему телу, изгоняя жизнь, умерщвляя клеточку за клеточкой. Сызмала боялся я крови, гноя, однако тот давний страх – лишь шорох пены на мягком песочке по сравнению с надвигающимся грохотом океанского девятого вала.
– Звонила Глория. Ваш сын, доктор. Пустить? – Нямуните улыбнулась забытой улыбкой, которую берегла для близких Наримантасу людей.
– Чего ему? Подождет. – Прикрикнув на плачущую больную, чтоб не дергалась, Наримантас зажал пальцами созревший нарыв, надавил. Брызнул гной. – Как тут не быть температуре! А они – снимок легких…
– Постойте, доктор! Сын испугается! – Нямуните потянула его назад, в перевязочную, заботясь не о Ригасе – о нем, радуясь волнению, которого не нужно было в себе подавлять. В руках ее, любящих чистоту и порядок, зашипел пульверизатор. Влажные брови Наримантаса недовольно нахмурились – ведь Ригас немедленно учует, что женскими духами пахну. Черт знает что вообразит! Вытираясь, он старался прогнать этот запах, будто бы сражался с их общим прошлым, которое, казалось ему, спилил, словно садовник обломанную, не выдержавшую бремени плодов ветвь. То, что мог подумать о них сын, как бы поднимало и подпирало эту уже порядком увядшую ветку. Невеселые думы о Нямуните спасли от еще более печальных мыслей о причинах возможного появления Ригаса, тонувших в мареве предположений, подозрений и предчувствий. Густой это был туман, солнечные лучи не могли разогнать его.
Пританцовывая и повизгивая от смеха, в перевязочную впорхнула сестра Глория. Казалось, выиграла в лотерею красивого парня, и тот, не замечая, что она глупа, согласно вторит ее бездумному хихиканью. На самом же деле Ригас испытывал ужас, заставивший его забыть обо всем на свете.
– Глория, миленькая, проводи больную в палату, – вежливо, но достаточно строго приказала Нямуните. Глория неохотно впряглась в охающую толстуху – неожиданное появление в больнице докторского сынка пахло приключением.
– Что такое? Что с тобой, Ригас? – Не только Наримантаса, но и Нямуните пронзило подозрение: за ним гонятся, совершил что-то недозволенное, может быть, деньги?.. Таким вечно не хватает денег.
От него ждали признания и эта сестра, которой до сих пор не вернул долга – срам какой, завтра же принесу! – и коллега отца Рекус – бородатый фанатик с глазами младенца, и, конечно, сам отец – лицо злое, будто уже стоит с узелком передачи перед воротами тюрьмы, скорбя не о сыночке, о своих больных, от которых вынужден оторваться. А Ригас, забыв, как звучат слова оправдания, только сипел. Горло пересохло.
– Что это у вас? Порезались, уважаемый? – Рекус повел бородой, указывая на обернутый носовым платком палец, и все они уставились на его руку, и Ригас тоже, вдруг вспомнив, зачем и почему бежал сюда, поглядел на свой палец, только не сразу сообразил, откуда платок, пока в памяти не мелькнуло пухлое широкоскулое лицо. Он встряхнулся, как бы отгоняя от себя видение: вот в чем его вина, вот в чем следует признаваться, но никто не требует этого признания, их интересует только его палец, он теперь важнее всего, Нямуните так навалилась, что слышно, как под халатом потрескивает ее лифчик, брови отца, подскочив было вверх, успокоились.
– Развяжите, сестра, – попросил Наримантас. С его Ригасом случилось то, что происходит с сотнями людей, когда они зазеваются. Пахнуло прохладным ветерком облегчения, на стену падал отблеск догорающего заката – идиллия, да и только! – но Ригас наступил на скользкий комок окровавленной ваты, поскользнулся… и побелел.
– Идемте-ка в другое место, – нежно и твердо взяла его под локоть Нямуните, и он мгновенно повиновался, проникся к ней доверием, которое тут же могло превратиться в подозрительность, если бы она чуть промедлила. Опираясь на ее руку, он казался моложе, однако что-то в его облике свидетельствовало: этот парень уже вкусил от запретного плода, он уже не мальчик. В широких плечах, крепкой шее, свободно вьющихся волосах чувствовалась мужественность, которую его отец скрывал под белым халатом.
– Копался в машине. Болт никак не поддавался, налег я, ключ сорвался, и вот…
Не отцу рассказывал, не Рекусу – Нямуните, признавая ее превосходство здесь, где все – блеклые стены, бледные лица, хилые цветочки в бутылках из-под кефира – лишь подчеркивало атмосферу больницы. Лучше держаться поближе к сестре, к ее ритмичному дыханию, не знающему сомнений голосу.
– Сколько дней с таким пальцем ходишь, герой? – Наримантас понюхал палец, запах ему не понравился. – Думал, пустяк? Ха! – хмыкнул отец, передразнивая его, Ригаса. Плечи парня вздрогнули. – Не слыхал, какие последствия бывают от таких пустяков?
– Доктор!.. – Нямуните укоризненно глянула на Наримантаса, потом перевела взгляд на Ригаса, несколько побледневшего при электрическом свете, отец щелкнул выключателем, пробубнив, что темно, и уже не женским, а хлынувшим откуда-то из глубины материнским чутьем поняла Нямуните незащищенность юноши. Ни вызывающий, свидетельствующий якобы о всезнании вид, ни мужественность, словно бы зачеркивающая юность, ни, наконец, наглый взгляд сводника, которым он еще недавно связывал в одно целое ее и Наримантаса, ничто не помогало сейчас ему – в глазах только ужас, страшно боится крови, особенно собственной, и эта слабость непонятным образом делает его похожим на отца, не терпящего беспорядка и расхлябанности… Однако отец не в силах обуздать сына и виноват в этой позорной – а может, вовсе и не позорной? – трусости. Хотя где и когда провинился Наримантас? Где и когда провинилась я перед тем, с татуировкой на груди? Клянется, что с ума сходит, так дико боится одиночества, что и на смерть ему наплевать…
– Что же будем делать, сестра?
Нерешительность отца немедленно передалась сыну, кажется, отпустишь руку, и забьется он, неуправляемый, в истерике.
– Действительно, что? – Ирония Нямуните отрезвила Наримантаса, он понял не только эту свою ошибку, но и целую цепочку прежних. – Может, хотите дождаться, пока у вашего мальчика начнется панарициум?
– Что она сказала? Какой такой панариц?.. – забормотал, едва не теряя сознание, Ригас.
– Сгущаете, сестра! – Наримантас прекрасно знал, что следует делать, руки его потянулись к инструментам. – А у вас, коллега Рекус, какое мнение?
– Сестра Нямуните права. Если доверяете мне, я немедленно…
– Делайте что хотите. – Наримантас отвернулся к окну, распахнул его, вновь закрыл.
– Извините, доктор Рекус, – глаза Нямуните холодно блеснули, предупреждая, что возражать не следует. – Не сердитесь, пожалуйста. Я вас уважаю, но… Доктор Жардас работал в этой области… Пригласите его, хорошо?
– Что со мной собираются делать? – дрожащими губами лепетал Ригас, вцепившись в халат Нямуните. Она легко высвободилась, не отталкивая его, от сестры веяло спокойствием и терпеливой силой.
– Ничего плохого тебе не сделаем. – Она говорила ему «ты». – Раз-два – и будешь здоров.
– Я должен знать… мне… Не позволю отрезать!
– Так мы ждем, доктор! – поторопила Нямуните Рекуса. Ригаса она уговаривала ласково, как ребенка. – Хорошо, хорошо, не будем. Ничего плохого делать тебе не будем.
– Из-за такой ерунды шум?
От появления Жардаса, от его громкого голоса в перевязочной стало как-то тесновато. Наримантас покосился на него, будто впервые видел, и снова отвернулся к окну.
В сильных, поросших рыжими волосками руках блеснул ланцет, брызнул гной, и операция, продолжавшаяся минуту, закончилась.
– Разок-другой промоем, и сможешь жениться, парень, – по своему обыкновению не очень изобретательно пошутил Жардас.
– А… сустава не надо будет… удалять? – Ригас никак не мог совладать с непослушными губами, ужас уполз в угол вслед за полетевшим туда комком марли, но не вернется ли он назад, разбухнув в темноте? Операция не всегда все кончает… Разве не так случилось с этим пресловутым отцовским Казюкенасом?
– Ну, что ты! – погладила его по плечу Нямуните, закончив перевязку и обрезая бинт.
– Скажи спасибо сестре и коллегам! – торжественно провозгласил Наримантас, словно это была не минутная процедура, а значительная, серьезная операция и они, без слов перебрасываясь взглядами, радуются удаче. Бодрым, немного виноватым голосом извинился, что сам не проявил достаточной решимости.
– Из всех благодарностей признаю только сто граммов! И необязательно из хрустальной рюмки! – шумел Жардас. – Плеснули бы, что ли, спиртика, Касте? Ах да, все забываю, что вы враг алкоголя!
– Устаревшая информация, доктор Жардас! – Нямуните вздернула подбородок – она целила в Наримантаса, которому всего несколько минут назад сочувствовала и которого старалась уберечь от потрясения.
– Тем лучше! Тем лучше! И сама пригубишь, Касте?
– Пожалуйста, только без меня!
– Оставь-ка нашу сестру в покое, дружок! – Наримантас шутливо погрозил Жардасу.
– Не беспокойтесь обо мне, доктор, – возразила Нямуните – доброе согласие кончилось. – Ваша опека нужна более молодым!
– Ну, Ригас, беги домой. – Наримантаса вдруг охватила усталость, сковала с головы до ног, словно после выстраданной, но не оправдавшей надежд операции. Он втянул голову в плечи, сгорбился, а Ригас, наоборот, распрямился и расцвел на глазах, как обильно политое деревце. Ему не хотелось уходить. Оправившись от страха, перебирал в памяти детали. Еще немного, и принялся бы бросать провоцирующие взгляды, ведь это не его гладила Нямуните по плечу – Наримантаса! Ее забота о нем – плохо замаскированная любовь к отцу, к его плечу она при посторонних-то и прикоснуться не осмеливается! Разве не так? Что-то, пока находился он здесь, сдвинулось в их отношениях, может, пригасло, а может, наоборот, вновь затлело – он не разобрался в этом, и неясность омрачала радость оттого, что крепкому его телу больше не угрожает распад. Ригас не сомневался: так или иначе, а сумел обмануть сыгравшее с ним шутку время; оно было внедрило в него некий механизм разрушения, в определенный срок «от – до» бомба замедленного действия должна была взорваться, но вот коварное, сводящее с ума тиканье смолкло, выброшено из тела, как ненужная запись с магнитофонной ленты.
– Премного вам благодарен, сестрица! – галантно, смакуя ее смущение, поцеловал руку Нямуните.
– Ригас! Не забывай, где находишься! – одернул его Наримантас и подумал, что сам никогда не осмелится так вольно вести себя с Нямуните, где бы они ни находились.
– Ха! Благодарю всех за внимание!
Ригас выкатился из перевязочной, вскоре убежала Нямуните, Жардаса позвала Глория – его больной что-то там сделал себе! – собирался исчезнуть и Рекус, но Наримантас задержал его.
– «Ха»! Вы слышали, коллега, это «ха»? – Смешок задел его, на многое он склонен был махнуть рукой, после того как визит сына благополучно закончился, но смешок захотелось раскусить, словно твердый орешек, и выплюнуть скорлупки. – Ха! Это его «ха» давно мне знакомо. Впервые услышал, когда Ригас еще в седьмой класс бегал. Помню, точно сегодня было. Приполз в полдень домой вздремнуть, есть у меня такая странная привычка, – Наримантас кашлянул – не в обычае у него рассказывать о себе. – А сын привязался, не дает глаз сомкнуть: «Сколько денежек огребаешь, отец?» Я сказал – разве тайна? «А угадай, сколько отец Яцкуса!» – «Это какого Яцкуса?» – «Не знаешь или притворяешься?» – «Пациента моего бывшего?» – «Не смеши, папа, человечество! Твоего пациента? Да ему профессора готовы пятки лизать. Главный по разливке „Апиниса“»! – «Какого еще „Апиниса“?» – «Пиво пьешь?» – «Изредка». – «Вот оно и есть „Апинис“ А Яцкус, отец моего одноклассника Яцкуса… Так вот, он миллионер. Весь город знает! Ха!» Точно кто-то камнем из рогатки запустил и попал пониже спины. Гляжу на сына, он на меня, и вижу у него в глазах свою беспомощную физиономию, отпора дать мальчишке не сумел! Я-то его ребенком считал, а смеялся надо мной не по годам смышленый человек, давно с благодатью неведения распрощавшийся. Вскоре этот его смешок снова царапнул уши – то ли издевка в нем, то ли сочувствие, то ли черт знает что еще, – не утерпел, шлепнул по губам. Сжал он их, но ненадолго… «Хочешь на посмешище меня выставить, отец?» Пятерку у меня клянчил – собирался к одной девочке на день рождения, а я давал три рубля. «Ведь единственная дочь известного адвоката!» – «Адвоката ли, трубочиста, купишь цветов, и хватит». – «Тебе, папа, не объяснишь, – и после слезливого вздоха, вкрадчиво: – Куда ты коньяк деваешь? Ведь знаю же, больные таскают и таскают…» – «С коллегами лакомимся. А что остается, к празднику держу или для гостей… Мне, сынок, не жалко, но сопливой девчонке коньяк?» – И рассмеялся. А это не над ним, надо мной надо было смеяться. Тут он снова свое «ха». Вместе со слюной брызнула мне в лицо недетская наглость. «Дай, отец, бутылочку, реализую в магазине. Дело не сложное – договорюсь с продавщицей. Вот и денежки… Пятерка мне, остальные тебе». Не сдержался во второй раз… Бить ребенка – мука, доктор, но не об этом я хотел…
Понимаете, виноватым себя почувствовал – не сумел чего-то дать сыну. Ведь другие-то дают. Не было у меня намерений меняться, идти по стопам этих «других», но счастливее я не стал… Уже в седьмом был мой Ригас по-взрослому прозорлив. Что у него теперь в голове? Чего через час захочет? А завтра? Проросли в нем семена, занесённые ветрами времени. Жена свято верила, что все это – шипы таланта. Талант, дескать, не терпит серости, уравниловки, причесанной добродетели… Вот я и самоустранился, оправдывал себя работой, больными… Как вы думаете, доктор, Ригас на самом деле избежал беды? До сих пор ему везло… Даже пятнадцати суток не получал еще… Извините, коллега, задержал вас.
– У меня, доктор, нет семьи, я плохой советчик. Вот Жардас утешил бы. Он сказал бы, что малыш ни в чем не виноват, объяснил бы, что, приспособившись к жизни в детстве, меньше получаешь горьких сюрпризов в зрелые годы, когда позвоночник уже не столь гибок. Это во-первых. А во-вторых, разве врачи обязаны становиться алкоголиками, выдувая весь коньяк, которым потчуют их благодарные пациенты? Вокруг и не такие дела творятся, разные яцкусы грабежом средь бела дня занимаются, и ни стыда у них, ни совести. При чем же здесь бедняга врач, которого дергает за полу одноклассник Яцкуса-младшего?
– Все, все с ума сошли… И вы тоже!
14
В палате у наркозного аппарата – сейчас его использовали для реанимации – дежурила красивая немолодая женщина-анестезиолог с гибкими ухоженными руками. В ее присутствии агония казалась менее безобразной и отталкивающей, хотя электрические мехи резко вздымали грудную клетку умирающего, терзали его трахеи и грубо, словно уже неживому, раскрывали рот.
– Как больной?
Слабая, беспомощная улыбка осветила на миг лицо женщины. Такой улыбкой отвечала она всем, кто интересовался Шаблинскасом, а их становилось все больше и больше, как будто счеты с жизнью заканчивала известная личность или фокусник, обещавший перед уходом в иной мир раскрыть сундучок своих секретов, и анестезиологу, сутки уже не отходившей от постели больного, казалось, что сильнее всего утомила ее эта улыбка, а не безнадежное состояние Шаблинскаса.
– Идите-ка вздремните. Я подежурю. – Наримантас был благодарен коллеге за печальное спокойствие – как иначе назовешь чувство, примиряющее врача с проводами человека в небытие.
– Спасибо, доктор. – И, удивляясь своему любопытству, вдруг спросила: – Больной Казюкенас… он что, знаком с Шаблинскасом?
– А в чем дело?
– Да рвался в палату. Я, конечно, не пустила. В дверях постоял.
Вновь возродив в душе образ Айсте, Казюкенас перестал было думать о многом другом, выкинул из головы и Шаблинскаса. Как ни странно, Наримантас оправдывал такое его самоустранение, а если порой это огорчало, то терзался тайком, словно из-за собственной, только недавно открывшейся ему ограниченности.
– Как вам показалось, доктор, понял он?.. – спросил Наримантас и почувствовал, что напрасно задал этот вопрос. Аппарат, спасавший множество жизней, пугал больных, казался им погребальной колымагой, с шумом и грохотом увозящей человека туда, куда в былые времена при соборовании провожало его уютное потрескивание свечей. Не подумать об этом Казюкенас не мог, но кто знает, что испытывал он в душе – горевал или равнодушно прощался с собратом по судьбе? Спросить бы, зачем притащился сюда, держась за стенки: проститься или окончательно отделаться от воображаемого двойника?
Не задерживая больше анестезиолога, Наримантас внимательно вглядывался в умирающего. Аппарат навязывал его организму упорядоченный ритм вдохов-выдохов, никак не согласующийся с его внутренним ритмом – сбивчивым, затухающим, свидетельствующим о близком конце. Хотя в изуродованном аварией и операциями теле, пусть с перебоями, еще билось сердце, его удары то бешено гнались друг за другом, то, споткнувшись, замирали, пока не возвращались медленно, словно отыскивая тропу в дремучей, непроходимой чащобе. Не надеясь уже выиграть битву за жизнь, лишь бы успеть еще разок-другой выплеснуть, как из гаснущего вулкана, струйку магмы – затухающую мысль – это неустанное сердце упрямо снабжало кровью маленький участочек мозговой коры, где застряла страшная по своей бессмысленности забота о чужих, взятых и невозвращенных деньгах. Неизменно сосредоточенное, тревожное лицо больного, даже искаженное введенной в рот трубкой, продолжало свидетельствовать об этой заботе, явно связанной с куда большим, быть может, до конца им самим не осознанным беспокойством. Даже ритмичные всхлипы аппарата как бы подтверждали это беспокойство. Если бы трубка с дыхательной смесью не мешала Шаблинскасу, он, казалось, наконец-то все сказал бы… Человек не соглашался исчезнуть невыслушанным, словно и на самом деле была у него осознанная забота, которой, по элементарной медицинской логике, существовать не могло, и мнимая бессмысленность его тревоги постепенно высвечивалась для Наримантаса все более ясным смыслом. Человек был обречен, но забота его, пусть им самим и другими не до конца понятая, должна была остаться здесь, среди равнодушных, многое повидавших стен, среди людей, притерпевшихся к смерти, она должна была напоминать живущим, что физическое бытие или небытие каждого из нас – не самое главное, что за этим есть что-то поважнее…
В палату влетела Нямуните, за ней Рекус.
– И этого человека вы все время обвиняете? Не крал он крышек, доктор! Не может этого быть! – Нямуните заговорила нервно, от фразы к фразе повышая голос, словно с глухим.
Рекус что-то буркнул в бороду – его мнением сестра не интересовалась.
Наримантас промолчал, снова приник к умирающему, кивком головы приглашая их ближе.
– Богатство, сытый желудок, тряпки! Но ведь есть же в человеке другое! Что не отвечаете, доктор? И вам на это тоже наплевать? – Казалось, вот-вот она перейдет на крик, продолжая некий спор, из которого вышла побежденной, но не убежденной. Однако взяла себя в руки, притихла.
– Вы пришли агитировать меня или дать лекарство ему?
– Сейчас, сейчас. – Она перелила лекарство из шприца в капельницу с таким видом, словно боялась не попасть иглой в сплошь исколотую вену. – Как подумаю, что вы, доктор, пусть втайне, поверили версии Лишки…
– Я четыре раза оперировал Шаблинскаса. – Наримантас сдерживал себя, знал, что не убедит и не успокоит. – Таскал у старшей сестры плазму. С вашей помощью, сестра. Что еще мог я сделать?
– Не верите в него, не верите!
– Если быть абсолютно честным, придется при знать это, доктор, – вставил Рекус.
– Я врач, а не следователь!
– Значит, вам все равно, что на смертном одре подозревают невиновного?
– Виновный, невиновный!.. Каждый может оступиться, даже самый честный. – Наримантас чувствовал, что дошагал до подножия горной вершины, манящей и пугающей, выше – лишь небесный свод. – Окончательно ли зарос мхом или еще помнишь, что и кому должен, вот что важно! Деньги, крышки или там чувства – вопрос формы, не сути. Понимаете, сестра? Большинство из нас…
– На меня намекаете?..
– Почему на вас? О себе говорю, вообще о людях.
– Подлецы и жулики только смеяться над вами станут. – Нямуните не хотела прекращать спор, ей нужно было объясниться с Наримантасом до конца.
– Не понимаю вас…
– А я вас!
– Может, поговорим позже в более спокойной обстановке? – Наримантас мучительно ощущал Нямуните как частицу себя, живую и бунтующую против того, с чем он давно смирился, и потому вкус утраты был еще горше.
– О чем вы говорите, доктор? Когда оно будет – это позже? Нелепость!
Нет, не мог Наримантас так вот сразу оттолкнуть ее, отдать кому-то другому. И поэтому избегал окончательного объяснения, пока не было полной ясности во всем опутавшем его клубке, на который виток за витком наворачивалась болезнь Казюкенаса. Не давали ему покоя раскаленные глаза Нямуните, ее тщетные усилия сдержаться; может быть, и вспомнил бы он какое-нибудь ласковое слово, но тут у самых дверей палаты громыхнуло брошенное на пол ведро. И ему и ей, измученным, напряженным, послышалось шипение и привиделась вдруг кипящая смола, словно опрокинулась гигантская бочка и густой поток глотает все, что еще надеялись они вынести из лабиринта, по которому бродили в одиночку, подняв чадящие факелы.
– Неужто допустите, доктор? Она же издевается над нами, над больными…
Нямуните бросилась к двери. Наримантас схватил ее за плечо.
– Там Навицкене, лучше не связываться.
– Она же издевается, издевается… над нашими стараниями… над Шаблинскасом… Давно трубит, что мертвого воскрешаем, вместо того чтобы живым помогать… Больше я не стану терпеть! С меня хватит!
Наримантас выпустил ее горячее плечо – не удержишь, она созрела для этого шага, каким бы внезапным и бессмысленным он ни был. И еще подумалось ему: все кончено, скоро в его жизнь вернется столь желанная ясность. На то же рассчитывала и Нямуните – это последняя услуга, которую она готова оказать ему. Пусть они еще будут видеться, будут работать рядом, но теряет он ее именно сейчас, принимая последнюю услугу…
– Что вы делаете, Навицкене! – Нямуните подняла и отставила в сторону ведро.
– Танцую балет, не видишь? – Толстая красномордая санитарка снова схватила его и изо всех сил трахнула об пол. – Ты, что ли, за меня уберешься? Отвяжись!
Она мигала редкими белесыми ресничками, наливаясь едва сдерживаемой яростью. Разве обязана она все время помнить о том, как внимательно эта чистюля делает ей в вену инъекцию верикоцида? В голове билось иное. Нямуните или какая-то другая франтиха сестра, а может, молодая докторша – все они заодно! – заставляет драить уборную… Да пропади они пропадом – и больные, и уборные, и все остальное! Осточертело!..
– Тут тяжелый больной, Навицкене. Неужели нельзя по-человечески? – Нямуните старалась говорить спокойно, словно советуя, однако в голосе прорывались вызывающие нотки, а рука тянулась к ведру, как будто оно было ей необходимо. Навицкене передернулась, скорее всего выплыло из подсознания ощущение страшной несправедливости: почему это ей, а не бездельницам сестрам приходится мыть коридоры и палаты? Охваченная бешенством, она и думать забыла, что, ухватив две ставки, наскребет больше, чем эти изящные, попивающие кофе медсестры.
– Руки-ноги отваливаются! Сама бы со щеткой-то протряслась, небось помоложе! Убери свои крашеные ноготки, убери, говорю, а то!..
– Тут тяжелый, Навицкене! И там! – Нямуните кивнула в сторону палаты Казюкенаса. Наримантасу стало ясно, что набросилась она на санитарку не из-за Шаблинскаса, который все равно ничего не слышит и которому шум не может помешать, а из-за Казюкенаса.
– Отстань, чурка ты белая! – Лицо Навицкене расплылось жирной самодовольной улыбкой. – Помешаешь таким убогим, как же! Шаблинскас твой давно с тем светом разговаривает, а Казюкенас… Чем ему тишина поможет, коли рак ест?
Нямуните вдруг затопала ногами – так топчут огонь, чтобы на разгорелся! Наримантас замер, хотя напряглась каждая его жилка, а кто-то обухом – рак, рак, рак! – бил по виску, оглушая и путая мысли. Дрожал от ярости, однако не был удивлен – этого следовало ожидать. И прежде случалось: санитарка, сестра или врач разбалтывали тайну диагноза, он с брезгливостью относился к таким людям, как к неприятной заметке в газете о чьем-то мелком жульничестве. Теперь тупая жестокость навалилась на него самого, связала и сунула в горло вонючие пальцы, чтобы опорожнить желудок, чтобы все увидели, какую пищу он проглотил. И действительно затошнило, словно вот-вот вырвет на виду у всех, и совсем не странно было, что приговор прозвучал из уст темной бабы, напялившей халат санитарки – рак, рак, рак! – а не подтвердила его лаборатория, результатов исследования которой он все еще дожидался.
– Доктор! И вы молчите? Молчите? Неужели она?..
Что означало это «неужели она», Наримантас понял по мечущим молнии глазам Нямуните: лучшая сестра отделения, его правая рука, согласна с диагнозом, поставленным этой тупицей, хотя оскорблена, возмущена до крайности. И снова кто-то точно сунул ему пальцы в горло.
Когда он поднял гудящую голову, Нямуните уже летела по коридору – стремительная, легкая, освобожденная от мук ожидания и неясности. У кабинета завотделением приостановилась, будто поправить шапочку, а на самом деле оглянуться – одобряют ли ее поступок, не кинется ли сам Наримантас призывать Навицкене к порядку? А быть может, не чувствовала себя достаточно правомочной? В глазах нескрываемая преданность ему, и досада из-за открытого скандала, и готовность восстановить то, что было грубо попрано, – все это бурлило в ней, когда она надавила плечом на дверь кабинета. Оттуда хлынул поток солнца, она, готовясь переступить порог, словно повисла в воздухе, взволнованная, непримиримая и все-таки уже не до конца уверенная в своей правоте. Ее бунт и сейчас не отрицал диагноза Навицкене, только побуждал Наримантаса к действию, требовал, чтобы он схватился с чудищем, выползшим наконец на свет божий.
Призывая в свидетели всех святых, извергая ругательства и брызги слюны, затрусила следом Навицкене – бочка дегтя, еще не выплеснувшая всей скопившейся в ней грязи.
– Жаловаться? На меня, рабочего человека, жаловаться? Верно люди говорят: на воре шапка горит! За своим бы муженьком, чурка, присматривала! Два раза уже отраву у Бугяните срыгивал! Вертит задницей перед докторами, а муж травится! Ну не потаскуха ли?..
– Как вы смеете, вы! – Нямуните вздернула подбородок, и все-таки ошметки дегтя попали на сияющие ее волосы, потекли по белому, без кровинки лицу, чуть не залепили посиневших губ, и слова ее зазвучали жалко, она уже не нападала, оправдывалась: – Пятый год… как мы с ним врозь… все знают… и вы, Навицкене… Все, все!..
– Пятый, десятый! А венчание? Венчания-то никто не отменит! Рада бы, поди, была, кабы ноги он протянул! Ан нет, не выгорело, мужик – что бык, моряк, одно слово. Знаем таких соломенных вдовушек, кофейком балуются, а на уме одно – переспать бы с кем!
Сестра-хозяйка, обняв Нямуните за плечи, увела ее прочь, однако окруженная любопытными Навицкене продолжала изрыгать доказательства своей правоты, а Наримантас, свидетель этого отвратительного скандала, не мог прийти в себя. Особенно ошеломило, что пациент Бугяните – уже вне сомнений! – бывший муж Касте. И каким же нелепым показался Наримантасу его собственный голос, когда он с опозданием решил навести порядок:
– Вы базарная баба, Навицкене, сплетница! Вы мизинца Нямуните не стоите! Или извинитесь, или… Сам ночные горшки таскать буду, а в отделении и духа вашего не останется!
– Доктор, Касте се-год-ня не бу-дет, – простонала вместо приветствия Алдона. Ее появление при свете дня никогда не сулило Наримантасу ничего хорошего. Он взорвался:
– Безобразие! Ну, обидела ее Навицкене. Так эту же скандалистку все знают. Кого она не обижала! Но самовольничать, бросать работу, когда..
– Лучше не надо об этом, док-тор.
О чем, черт побери? Может, и я виноват не заткнул ей глотку. Но что важнее – коллектив или эта гадина?
– Не она одна. Пол боль-ницы пальцами ты-чут. О-зве-ре-ли люди, ни сто-леч-ко стыда не име-ют – Алдона сложила два пальца, оставив между ними крохотную щелочку.
– Что будем делать без Касте?
– Раньше надо было ду-мать, доктор!
– Вы же сами, Алдона, видите тяжелые больные следователи, чертовщина всякая.
– И не го-во-ри-те, доктор! Мне вас так жалко.
– Спасибо, утешили!
А в голове одно: к черту все, что не Касте Нямуните! Удержать, извиниться за эту скотину, как можно скорее отговорить от непоправимого шага! И я виноват: Касте душу готова отдать, а я отталкивал ее, грубил, и все из-за Казюкенаса, а кто он такой, чтобы из-за него отказываться от своей лучшей помощницы? Как-нибудь упрошу, чтобы подождала, передумала, не уходила… Однако, мысленно умоляя Нямуните о прощении, все время знал, что не бросится догонять ее, даже если под ногами вздрогнет земля И как раз из-за него, из-за этого въевшегося в печенку Казюкенаса…
На Наримантаса чуть не налетела выскочившая из кабинета главврача худая тетка в широкополой шляпе; густо подведенные глаза полны ужаса, костлявые пальцы не могут ухватить, теребят пуговицы, словно больная на ходу собирает себя из частей. Если и не больная, подумалось, то предельно нервная. К стене у двери кабинета жался старичок, в руках светлая шляпа, видимо, надеваемая лишь по торжественным случаям, держал ее неловко; а по коридору взад и вперед безостановочно вышагивал невысокий плотный мужчина в очках, чем-то неуловимым лицо его походило на лицо старичка. Скорее всего знакомый Чебрюнаса, подумал о младшем, во все щели лезут, не удержишь. В душе Наримантас одобрял главврача: больной есть больной независимо от каких-то там бумажек.








