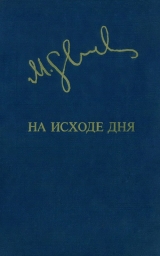
Текст книги "На исходе дня"
Автор книги: Миколас Слуцкис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Неопрятное, ослепшее на солнце существо хватает Нямуните в охапку и тянет ее, упирающуюся, назад, к мрачному Наримантасу.
– Воркуете, голубчики, а я гоняй за вами рысцой по всем этажам! – Кальтянис зевает, его глазки красны от бесконечных ночных дежурств. – Одолжите, миленькие, деньжат. Много не прошу, осилите! Сотенок по пять с носа!
– С ума сошли, доктор! – Нямуните улыбается ему, не Наримантасу, и какой-то снисходительной, незнакомой улыбкой. – Во сне вам приснилось, что ли?
– Снова покупаешь? – Наримантас не отшивает коллегу, как хотел бы, надеется вернуть прежнее сияние Нямуните, пусть и сердитую, но доверительную ее улыбку.
– Когда молодые женщины скаредничают, понятно. Им надо украшать себя! Но ты, Винцас, десять лет один костюмчик треплешь. Такую малость прошу – тысчонку!
– Ведь уже приобрел машину?
– Имеешь машину, заводи для нее крышу!
– Ах вот оно что!.. Как-то ты всегда внезапно обрушиваешься, дай – и делу конец! – Наримантас жалуется ей, Нямуните, хотя улыбается человеку, который ему неприятен, даже противен.
– Не дашь – стреляться не стану. Найду побогаче!
Подожди до субботы. Может, наскребу, – почти умоляет его Наримантас, не представляя себе, как ему вернуться в палату, не помирившись с Нямуните и с самим собой.
Так с ним бывает: не может заставить себя постучать в дверь, кружит возле палаты Казюкенаса, расспрашивает о нем Рекуса или еще кого-нибудь, а тут подлетел, прислушался, постучал, нажал ручку, вошел, точно по опасной трясине бредет – топкой, с грозными окнами бочагов.
– Гм… сносно неплохо, так… ничего… – бормочет он, уставившись на японский транзистор – испуг Казюкенаса постепенно стирает с его лица выражение заблудившегося человека.
– Что, доктор?
– Ничего, ничего, все хорошо, очень хорошо!
– Вы тут говорили…
– Это не о вас… Заботы всякие.
– Новые больные? – Червь недоверия вгрызается глубже; как бы не сорвались усилия удержать дух Казюкенаса над бездной, куда может упасть его тело.
– Больные – наш хлеб насущный… А у меня еще сын есть. Вы вроде видели…
– Красивый парень… – В голосе Казюкенаса нотка грустного восхищения, словно речь зашла о далеких экзотических странах, а повидать их едва ли доведется. – Учиться не желает?
Наримантасу не хочется говорить о Ригасе, существует непонятная связь между ними тремя, хотя ничего не докажешь, пришлось бы только страдать из-за наглости Ригаса, из-за возможных его выходок. А если и заговорил бы, то прежде всего не о своем стройном отпрыске – о горбуне, о его, Казюкенаса, побеге, перед которым захлопнули двери к отцу… Ломит тело, как будто, воюя в вестибюле с братом и сестрой, стукнулся он об этот горб. Многое случилось с тех пор, как Казюкенас неожиданно спустился к нему с пьедестала, а он, ошарашенный этим, слишком радостно двинулся навстречу, однако сближение их могут сорвать остановленные его рукой дети… Осторожно! Еще шаг, и от безнадежности, от того, что споткнулся там, где не ожидал, начнешь валить на больного свои разочарования, словно виноват он в собственной болезни, в этой ничего не решившей операции… Не о том ли предупреждала Нямуните, угодившая вместе с тобой в черную болотную яму?
– Для них жизнь лотерея, а? – Казюкенас отводит глаза в сторону, где больше простора и не подстерегает нечто сугубо личное.
– Как бы без особых трудов ухватить счастливый билетик – вот вопрос… – соглашается Наримантас, а голова гудит от напряженного внимания, и подрагивает левая нога.
– Мы-то тягот не боялись. Этого у нас не отнимешь!
– Для них наши беды – бронзовый век.
– С драными задницами… В домотканом пиджачке с отцовского плеча… И не жаловались!
– Жалуйся – не жалуйся… Не было, и все тут.
– Наскребешь, бывало, рублик, ухватишь на базаре кусок кугелиса [2]2
Литовское национальное блюдо из тертой картошки .
[Закрыть] и жуешь. Еще и руки об него погреешь. А нынче булки в мусорное ведро бросают.
– Было, да быльем поросло! Вот ведь как отвечают.
– Что было, никто не вычеркнет! И голод и нужда… Не потому ли до срока мужики сдают, надламываются, как подгнившие дубы, падают? А сколько наших в могилах уже? Один холмик подле другого. Большие, потом поменьше, кочки… Все было!..
– И тюрьма была, и Сибирь, ответят.
– Не с ангелочками же хороводы водили. Легко сегодня, когда все завоевано, на подносике подано… Изволь хлебать, да в глаза не плюй! А?
– Простите, но неужели это все, что можем мы им сказать? – Их дуэт разлаживается. – Вся правда?
– Вся – не вся, однако молодым…
– Не только их, нас такая правда уже не греет.
– Как так? Подумайте, о чем говорите, доктор!
– Думаю! Не остановилась жизнь на нашей молодости. А если для кого и остановилась, так не геройство это и не добродетель, которой надо гордиться, а трагедия…
– Хотите сказать, что наша правда – нарядная одежда, которую из шкафа лишь по праздникам вытаскивают?
Казюкенас взволнован, он даже приподнимается и садится на своей кровати. Наримантас дивится себе, зачем тянет все выше, в гору этот тяжелый камень – покатится вниз, может голову расшибить. Пациент его уже выбрит «Браун-сикстауном», от него пахнет одеколоном, надень костюм, сунь элегантный портфель и не узнаешь, что перенес операцию. И снова будет распоряжаться, рубить сплеча, гордясь истинными и мнимыми заслугами, забыв горечь и радость сомнений.
В открытое окно врывается гул города; пронзительный визг тормозов, вой пожарной машины – они возникают на общем фоне, словно предупреждающие об опасности черные флажки. Земля суха, как порох, вихри пыли кружатся под белесым небом. Между двумя хилыми липками торчит какая-то фигура, согнувшаяся под тяжелым грузом. Не только ноша – синий костюм, белая рубашка и красное пятно галстука выделяют этого человека среди посеревшей листвы. Вот повернулся, от него падает искривленная тень, словно нацеленное на больницу орудие… Горбун – и без сестры, неохотно сопровождающей его.
Неужели он? Мало ли на свете других калек? За чужое счастье сражаемся, милый мой больной, а родных детей вон выталкиваем?
– Ничего я не хотел сказать. Мой собственный сын невесть где мотается… – Наримантас высовывается в окно, высота опьяняет, кровь приливает к голове. Естественное состояние, привыкай! Да, его милость Казюкенас-младший…
– Что-то интересное увидели, доктор? – Казюкенасу нелегко смягчиться, согласиться с тем, против чего восстает его нутро, но надо – будучи здоровым, он именно так многим говорил: надо! И большинство слушалось, хотя никому не грозила операция желудка. А к Наримантасу придется взывать не раз, и не только как к врачу.
– Ничего, – Наримантас заслоняет окно спиной. – Листва от жары свернулась.
– В такое время хорошо на море.
– Не сомневаюсь.
– На Пицунде, к примеру… Грузинские субтропики – удивительное местечко. Вы когда-нибудь купались в теплом море?
– Честно говоря, не доводилось.
– Райское наслаждение. Вода густая и легкая, как на руках несет… Вылезаешь, на десяток лет помолодев. Бифштекс с коньячком в тени пальм примешь – еще столько же сбросишь…
– Да, с радостью бы съездил, но за какой-то жалкий месяц далеко не заберешься.
Наримантасу не нравится собственный брюзжащий голос, как и недавняя резкость. Неужто завидую чепухе, которую всю жизнь презирал или делал вид, что презираю? А ведь и впрямь тлеет во мне недовольство беспорядочным бытом, никогда по-человечески не отдохнешь, все работой оправдываешься, точно настоящая жизнь вечно будет ждать где-то впереди. И заболело-то не сегодня – много лет назад. Казюкенас тут ни при чем, он только ловким жестом парикмахера подсунул зеркало: полюбуйся, как выглядишь! Купания в теплом море и коньяка с бифштексом, ей-богу, не жажду, не знал бы даже, что делать, появись у меня вдруг много времени и денег, но обиду унаследовал Ригас, и у него это уже не боль, время от времени пронзающая кариозный зуб, – язва, которую мазью не вылечишь, да и не выжжешь…
– Были мы аскетами, когда требовалось. Скупыми для себя, щедрыми для других. Разве иначе валялись бы по больницам с дырявыми желудками, инфарктами, стенокардиями, едва полета разменяв? Падают ребята, как дубы, валятся… – Казюкенас соображает, что снова промазал, и спешит сгладить, однако не очень убедительно, с некоторых пор его интересует другое, все время в глубине души интересовало, только он не решался заговорить об этом, остерегаясь сухости доктора. Минутку покрасовавшись в парадном мундире, испытав удовольствие говорить «мы» вместо «я», еще труднее снова облачаться в блеклый, нивелирующий халат больного, мучиться недоверием и неизвестностью. – Хотел попросить вас… тебя, Винцас… Не как доктора… Дело не медицины касается. – Казюкенас сам себе бередит рану, к которой врач еще не притрагивался, и каждое прикосновение доставляет ему сладкую боль. – К вам… к тебе… не обращалась женщина?
– Жена?
Судорога перекашивает лицо Казюкенаса, нижняя челюсть отваливается.
– Шутишь! – Усилием воли возвращает он лицу прежний вид, опять невозмутимо поблескивает неживой глаз. – С женой я давно порвал. Детей моих врагами вырастила. О чем нам говорить после этого?
– Так, так, – кивает Наримантас, но не с одобрением или вежливым равнодушием – с разочарованием, и не только в нем, в Казюкенасе, но и в самом себе, глупо во что-то поверившем после того, как перестал, кажется, верить во что бы то ни было, кроме, пожалуй, могущества скальпеля. Ему хотелось бы оборвать этот разговор, припугнуть, прикрикнуть, воспользовавшись правом врача, ведь Казюкенас – больной, тяжелый больной, бесстыдно и низко вытягивать у него признания, но почему сердце колотится так, словно за поворотами и переходами бесконечного лабиринта вот-вот распахнется ясное небо и высветится не только жизнь Казюкенаса, но и его собственная.
– Не поверишь, Винцас, – Казюкенас вытирает ладонью вспотевший лоб. – В день рождения, четырнадцатого апреля, получаю бандероль… Углем на белом картоне – жирная свинья… Через год – снова. Ну, думаю, аноним, на всех не угодишь. И снова! Надоела мне эта история, отдал на экспертизу… И что же? Адрес надписан рукою сына! Разве мог ребенок сам придумать такое? Она, все она!
– Так, так, – почти бессознательно покачивает головой Наримантас, перед глазами белый ватман и цепкие тонкие пальцы, они так нажимают на уголек, что сыплется черная пыль, конечно, работа горбуна, Зигмаса – так, кажется, зовет его сестра? Она бы не нарисовала, а от Зигмаса можно чего угодно ожидать. Озабоченность состоянием Казюкенаса борется в душе с жалостью, что он – и больной – тоскует не по детям, а по какой-то бабе, впрочем, не по какой-то, Наримантас знает, по какой: по женщине, которая испускает флюиды тревоги, как реликтовые редкие животные – запах мускуса; и посему жалость эта искренна, хотя ему по-прежнему жалко и детей, особенно угловатого, с камнем за пазухой Зигмаса.
– Жена! Кому же, если не ей… чудовищу! – скрипит зубами Казюкенас и вытирает полотенцем губы. – Погорячился я, Винцас… Семейная жизнь, сам знаешь, дело непростое. Вот и ляпнул. Нет, не собираюсь я все на Казюкенене валить… Какой смысл – спустя пятнадцать лет? И сам я не без греха, и до, и после нее не святой. Но ты бы только взглянул на нее!.. – От волнения у Казюкенаса перехватывает горло, он начинает сипеть. – Лицо святоши! Видел Шаблинскене? Вот мы спорили, виновен или не виновен Шаблинскас. Такая и красть, и душить погонит! Шаблинскене – копия моей первой. Обе сектантки! Из иеговистов или других каких-нибудь безумцев…
– Знавал я вашу… Правда, не близко. Разве так уж страшна? – Наримантас тщетно приказывает себе: держись, ты же врач! Но наружу рвутся давно, казалось бы, перегоревшие чувства, словно она, эта женщина, все еще остается такой, какой была прежде.
– Она страшная… Страшная, поверь!
– Была задумчивой, скромной, доброй… – Наримантасу захотелось на миг выхватить лицо Настазии из толчеи теснящихся в памяти лиц, но его заслоняет иное лицо – навязываемое силком и почему-то именуемое Шаблинскене.
– Это наши глаза были добрыми, глупыми! Не знали мы людей, Винцас!
– Старательная, на пятерки училась, по танцулькам, по закусочным не бегала… Если не ошибаюсь, конечно.
– Слушай, ты о ком? О Настазии?
– А ты? Мне кажется, о Настазии.
– Всех ввела в заблуждение, всех! Не зря говорят: в тихом омуте черти водятся! Уже потом призналась мне как-то, что плела сети, словно паук… Обет, видите ли, дала!
Наримантас вглядывался в своего больного – таким он еще не знал Казюкенаса, хотя часами просиживал у его изголовья. Только теперь явно обозначилась с юных лет существовавшая между ними пропасть, помимо прочего, еще не осознанного до конца, наполнения озлоблением, огнем былой обиды, пропасть и между ними двоими, и между ними и Настазией. Наримантас увидел девушку, давно и, казалось, прочно забытую: румяное лицо, обрамленное венцом светлых кос, спицы, посверкивающие в свете настольной лампы. Она ни разу не спросила, почему это студент-медик целыми вечерами торчит рядом, не смея заговорить… И разве ответишь? На него, постоянно взвинченного непрекращающимися ссорами с отцом, раздраженного неуютной обстановкой общежития – жалобным скрипом дверей, топотом, окурками в раковинах и на подоконниках, – веяло покоем и уютом от застеленной кружевным покрывалом койки Настазии, от ее этажерки, украшенной изящно вырезанными из бумаги салфетками. Гибкие неустанные пальцы трудолюбивых рук ненавязчиво свидетельствовали о том, что земля продолжает вращаться по своему вечному кругу, хотя у людей помутился разум и они не находят себе места, вот, к примеру, его отец: согласился пойти на старости лет в председатели колхоза, закапывается с двустволкой в стог соломы и со страхом ждет ночи… Вокруг Настазии галдели и шныряли девушки, но она никуда не спешила и не опаздывала; как-то раз, выскользнув из кармана ее кофточки, упали на пол четки, поднимая их, Настазия побледнела, и он понял, что она не такая, как другие, которые и верят и не верят в бога, не особо задумываясь над этим…
– Что с вами, доктор? Чего загрустили? – Казюкенас приходит в себя – неизвестно, что сулит опасная близость! – но он и не подозревает, что их поезда чуть не столкнулись. На полной скорости неслись они по одним и тем же рельсам навстречу друг другу, не ведая об этом.
– А, чепуха… Вспомнил тут кое-что… Итак, что вы хотели, товарищ Казюкенас? – Наримантас напрягается, пытаясь услышать Казюкенаса – слабого, отдавшегося на его волю, а не того – завоевателя, смело топтавшего расшатанный скрипучий паркет девичьего общежития и широким, не признающим компромиссов жестом смахнувшего все эти крестики и четки. Словно фокусник, стер он с холста рисунок головки, обрамленной косами, и, недолго думая, вывел другой – так неузнаваемо изменилась Настазия, начавшая бегать на танцы по субботам и воскресеньям, и в рождественские праздники, и на великий пост. Утих веселый перезвон спиц, звучавший часами, которые Наримантас проводил на табурете, стесняясь поближе подсесть к Настазии; исчезла ее улыбка – обещание не сопротивляться, если бы надумал он вдруг увести ее отсюда. И второго курса не кончила – похитил ее Александрас Казюкенас, дьявольски самоуверенный молодец с развевающимися на ветру кудрями. Увел, не интересуясь соперниками, а главное, не убоявшись аскетически сжатых губ, пугавших Наримантаса. Не сама набожность – губы, их непроизвольно собранный в кружок венчик, словно свидетельствовали о том, что они предназначены кому-то другому, презирающему плотские вожделения, а если бы и согласились они целовать мужчину – ведь мог бы и он, Наримантас, увести ее! – то наверняка лишь против ее убеждений. Странно напряженные, с опущенными вниз уголками, губы эти укрощали тело, созревшее и ждавшее любимого. Наримантас понял это позже, когда она пропала и уже не появилась ни в тот, ни в последующие семестры. Двери, двери, двери… За облупленными, исцарапанными дверями не оставалось больше людей – одни скелеты, ходячие кровеносные сосуды, пищеварительные тракты и прочие системы жизнедеятельности. Гудящий улей общежития превратился для него в пустыню, мертвые песчинки без сожаления засыпали следы Настазии… Может, выдумал я про губы, чтобы не блуждать по этой пустыне вечно? – Простите, слишком далеко мы отклонились… давайте ближе к делу. – Наримантас – зеленый юнец – снова превращается во врача, вежливо-равнодушно слушающего исповедь больного. – Вас интересует… Кто вас интересует?
– Одна женщина, доктор. Не обращалась ли к вам после операции некая Зубовайте? Ее фамилия Зубовайте, Айсте Зубовайте.
– Кажется, говорил я с ней.
– Кажется?
– Осведомлялась о вашем здоровье и..
– И?
Тоскливо и жадно блеснул глаз Казюкенаса, отцветшей Настазии как не бывало – крепнущим телом и соскучившейся по радости душой рвется он к другой, возле нее отдохнет от бессонницы и пугающих мыслей.
– Собиралась навестить?
– В послеоперационные палаты посетители не допускаются. Я был вынужден отказать.
– Вы говорили с ней уже после операции?
– Погодите, вспомню…
– Доктор!.. Не могли же вы забыть… Она очень волновалась?
– Обычно я не слишком интересуюсь настроением посетителей. Да, вспомнил. Это было еще до операции…
– Но вы же сказали, в послеоперационные…
– Мы очень недолго говорили. – Наримантас запутался.
– Может, звонила? А персонал мне не сообщил! – Казюкенас нажимает на слово «персонал», дрогнула дряблая кожа на шее.
– Простите, товарищ Казюкенас, но, помнится, вы сами просили не пускать ее.
– Ее? Именно ее?
– Вы категорически отказались от всяких посещений.
– Может быть, может быть… – Казюкенас удивляется странному своему требованию. – Однако…
– Повторить дословно?
– Верю, доктор, верю, но…
– Может быть, ваши намерения изменились, тогда зачем же обвинять персонал? Желания больных иногда так противоречивы… – Наримантас произносит это равнодушно, даже иронично, но Казюкенасу, после того как он осудил бывшую жену и чуть не открыто признался в чувстве к другой – едва ли жене, – отступать некуда.
– Какие уж там обвинения! Что вы!.. Я так благодарен. Особенно вам, доктор… тебе, Винцас… – Язык заплетается, Казюкенас никак не может выговорить то, что давно собирался сказать, ведь они не только врач и больной, но и друзья юности, потому долой мелкие заплесневевшие счеты, он обратился к нему по доброй воле, веря в его порядочность и талант. – Не хочу ничего скрывать… Когда ложишься под нож… в такой час невесть что в голову лезет. Вот и я… подозревать всех начал: одни мстительны, другие – притворщики, завистники…
– Гм… Теперь уже так не кажется?
– Н-нет.
– Мне доводилось замечать другое… Кое у кого в подобных случаях словно бы второе зрение открывается. Конечно, это скорее психический феномен…
– Малодушие, Винцас, вот что это такое! На своей шкуре испытал… Вырвавшись из объятий смерти, снова начинаешь доверять людям, жизни.
– Вот и отлично, именно этого мы и добиваемся…
Ирония, проскользнувшая в словах Наримантаса, заставляет Казюкенаса настороженно глянуть на врача, одновременно как бы извиняясь и умоляя – ну пусть еще разок, последний раз пускай заверит: опасность для жизни миновала, растаяла грозовым облачком вдали. Разве не растаяла? Наримантас, в свою очередь, едва подавляет искушение выложить ему все. Спятил! Что значит все? Всю правду? Не было, нет такой правды! Даже если бы она и была. Радуйся – за жизнь цепляется! Женщина влечет… Не об этом ли ты мечтал, совершая невозможное, стремясь прыгнуть выше головы?
– Доктор, а не могли бы вы?..
– Хорошо, распоряжусь. Вам принесут в палату телефон. Будете звонить кому угодно.
– Телефон? – Казюкенас заколебался, сообразив, что его толкают к черте, за которой придется сражаться самому – защитной линии белых халатов уже не будет. – Нет, не надо… телефона.
– Как хотите.
– Ты бы от моего имени, Винцас… А? Не как доктора прошу… Айсте ее зовут, Айсте Зубовайте… Странное сочетание, правда? – Голос больного ласкает женское имя, и решимость Наримантаса не идти на сближение с Казюкенасом, хотя он уже по уши увяз в его отношениях с этой певичкой, исчезает. – Откровенно говоря, виноват я перед Айсте. Ни словом об операции не обмолвился… Сказал, что в длительную командировку… Автоматизация управления и всякие другие дела.
– И она ни о чем не догадывалась? Не замечала, как вы мучаетесь? – Трезвая осторожность медика сопротивляется этой логичной, но, вероятно, многое утаивающей версии. Неужто не приходила в голову Казюкенасу мысль проверить Айсте, пока он еще был на ногах, пока не слег? Выяснить ее отношение и вообще разобраться в своем тогдашнем существовании?
– Это я от всех скрывал. Терпеливый. Вы же сами, доктор, удивлялись…
– Но она… женщина…
– Из поездок всегда что-нибудь привожу ей… Пообещал купить в Москве голубой чешский комплект для туалетной комнаты. Женщины по этой штуке с ума сходят… Она и поверила. Не думал, что надолго задержусь в больнице.
– Со временем у меня… да и не умею… Ладно попробую.
– Спасибо тебе, Винцас! Ей-богу, сердечное спасибо… дружески… Ведь мы с тобой…
Осторожно прикрыв за собой дверь палаты, Наримантас не почувствовал облегчения. Зубовайте кружила неподалеку, как хищная птица, рано или поздно, но вонзит она когти в облюбованную добычу, хотя ее тень, может, не скоро еще упадет на пути Казюкенаса, а вот Зигмас, тоже подстерегающий отца, всегда тут. Наримантас медленно спустился ниже этажом. Словно мешок с паклей, волоку себя, не освежиться ли глоточком? На глаза попалась спасительная табличка: «III терапия».
– Один вы, доктор, не забываете меня! – Бугяните радостно усадила гостя, открыла бутылку минеральной воды.
– Надеюсь, у вас все в порядке, коллега? Больные не надоедают, число самоубийц не растет? Летом-то их меньше, и догадываетесь почему? – Наримантас болтая, не решаясь попросить каплю спирта, чтобы хоть на минуту забыть Казюкенаса, его близких. – Летом природа добрее к человеку. Испортится настроение – вырвешься в лес, в луга. Еще успокаивает бегущая вода. Послушаешь, и уплывает из сердца всякий скопившийся хлам. Осенью, наоборот, умирающая листва с ума сводит, а вода так и тянет зажмуриться – и головой вниз, чтобы не видеть мути… Что с вами, милая?
Личико Бугяните побледнело, словно уже пришли осенние невзгоды.
Не спрашивайте, доктор! Снова с ним намучилась…
– Постоянный клиент? – Ему стало как-то неловко своей болтовни, он неестественно громко рассмеялся.
– Помните моряка, которого вы тогда помогли мне усмирить? Давно уже не плавает. Законченный алкоголик…
– И я хотел капельку попросить. Не найдется?
Бугяните подумала, что Наримантас шутит, но он смотрел серьезно и виновато. Не так, как в тот раз, когда она боялась и моряка, и его, разъяренного, полного непонятной ненависти. Она присела, отперла шкафчик, вынула бутыль, отлила в стакан.
– Не осуждайте, замучили больные… Ваше здоровье, милый доктор! – Он выпил, морщась, смущаясь Бугяните – сам когда-то был наивным идеалистом, верил, что останется таким вечно; разлившееся в груди тепло не принесло успокоения. – Значит, снова устроил вам спектакль?
– Лошадиная доза люминала. И ругань. Все какую-то девушку или женщину клял.
– Похоже, хотел покончить самоубийством в отместку. Однако предусмотрительно: чтобы успели очистить желудок! Частенько приходится возиться с подобными пациентами…
– Не дай бог, доктор!
При чем тут бог? Разбаловало их наше здравоохранение. Если бы этому типу после каждого реанимационного сеанса предъявлять счет… За производственные расходы, за ваши, милый доктор, слезки!.. – Говорил то, что говорил бы и год назад, и полгода, даже еще вчера, однако нынче такие рассуждения уже не доставляли ему удовольствия. Все-таки закончил бодро: – Гарантирую, он избрал бы более дешевый способ террора.
– Террора?
– А вы сомневаетесь?
– Может, из-за любви? Все какую-то Констанцию поминает…
– У него на груди вытатуировано.
– Господи, как страшно жить этой Констанции! Случись со мной такое, наверное, в сумасшедшем доме очутилась бы.
– Есть хорошее лекарство – развод. Совет на будущее, милый доктор.
– Вам, мужчинам, легко говорить. Судя по всему, они давно в разводе.
– Значит, подозреваете романтическую историю?
– Не знаю. Грустно, и все.
– Жизнь, милый мой доктор! И, пока она продолжается, будут и глупые, снисходительные Констанции, и спекулирующие на их слабости подонки! Между прочим, в какой он палате?
– Снова удрал.
– Видите!
– Не знаю, не знаю. И зачем только люди на свою жизнь покушаются?
Наримантас сжал стакан до хруста в пальцах – снова поднималось в душе что-то стихийное, наглое, темное, неодолимое.
В приемном покое шумно: с одной стороны оживленный вестибюль, с другой служебный коридор; остановившись перед плакатом «Нет – огню!», Наримантас огляделся по сторонам. В глубине вестибюля ярко-синий костюм горбуна. По приемному покою мечутся несколько попеременно заслоняющих друг друга фигур. Согласившись позвонить Айсте Зубовайте, он, сам того не желая, провинился перед детьми Казюкенаса. Вот почему повернул к приемному покою…
– Где моча? Мочу дайте! – строго требовала сестра; издали в непривычном свете он не мог как следует разглядеть ее лицо, хотя голос и движения были знакомы.
– Откуда же взять, сестрица? Не привык мальчик на людях… Он и в школе-то не делает… Как ехать, сходил в туалет, не знали, что понадобится. Не ругайтесь, сестрица, – плаксиво оправдывалась молодая худенькая женщина – черное, до самого ворота застегнутое платье, темные чулки.
– Где он мочился, нас не интересует! – Модулирующий на высоких нотах голос сестры не вызывал уже у Наримантаса сомнений. – Нужна моча. Как без нее поставить диагноз? Хирург требует!
– Аппендицит у него, аппендицит… Поверьте, он очень терпеливый, мой мальчик… Пальцы вон дверцей машины прищемил и не плакал, а тут: «Мамочка, родненькая, вези к хирургу… пусть режет… не могу!» Умоляю вас, облегчите его страдания!
– Нужна моча! Пусть выжмет. Как хотите, не мне же за него…
Мать металась между ванной, где продолжал сжимать пустую бутылочку ее сын, и ничего не желающей слушать сестрой. Казалось, потеряв надежду, женщина схватит ее за халат, повернет к себе искаженное тупой злобой лицо, когда-то красивое и нежное… А может, достаточно было бы сестре улыбнуться, и в ванне прекратились бы беспомощные стоны, зазвенела бы желанная струйка?..
– Он постарается, постарается, не кричите, сестрица! Не выходит у него от волнения!
– Не маленький, небось шестнадцать лет парню! – Сестра увернулась от цепкой руки, на которой бренчал браслет. – И не мешайте, не трезвоньте тут украшениями!
К стенам жались другие больные: седой старичок, уткнувший лицо в острые торчащие колени, мягкая, как тесто, женщина, до подбородка утонувшая в кресле, молодой человек с обмотанной полотенцем головой. Все ожидали, когда с верхнего этажа, словно с небес, спустятся хирурги.
– Слушай, долго ты будешь возиться? – Подскочив, сестра задубасила кулаком в дверь ванной.
– Еще минуту, сестра… Умоляю! Женщина просила издали, не решаясь больше приблизиться к ней.
– Делай свое дело или уступи место другому!
Дверь скрипнула, высунулась коричневая мокрая бутылочка.
– Вот видите! – Глаза сестры победоносно сверкнули, она схватила бутылочку, подняла к свету. – Больше не мог? Эх ты, маменькин сыночек… Ну да ладно!
– Что? Что вы сказали? – Перед черной плоской грудью задрожали сухие руки, браслет жалобно звякнул.
– У нас не детский сад! Нету времени нянчиться… И не ходите вы за мной следом, сядьте! А еще лучше, во дворе подождите, не холодно. Когда надо будет, вызовем.
Неужели у этой сестры было когда-то красивое и ясное лицо? Наружу лезли белые здоровые зубы, будто во рту их было вдвое больше, чем полагается, губы кривились, открывая розовую пасть, из которой вот-вот выскочит огненная мышь, как из пасти той красотки в Вальпургиеву ночь. Не в силах двинуться с места, все еще чего-то ожидая, Наримантас наконец поверил в то, в чем ни минуты не сомневался, но что жаждал стереть, будто ошибочно записанное условие с классной доски: наглая, похожая на фурию сестра – его Нямуните! Как она оказалась тут? По просьбе подруги, выбежавшей за покупками? Это было недоразумение, но непоправимое и незабываемое. Если сравнивать поведение Касте с тем, как подчас держат себя многие другие врачи и сестры в переполненных больницах, где недостает персонала, лекарств и оборудования, грубость ее не удивила бы. Удивление вызывала ожесточенность, с которой она действовала. Не женщину топтала – себя, будто надоело ей позировать для парадной картины. Наримантас почувствовал себя так, словно это его самого, а не сестру уличили в неблаговидном, бесчестном поступке, поэтому пытался оправдать ее: другие-то махнули бы рукой на мочу, не меньше, если не больше унизив мальчишку, а вот Нямуните добилась – пусть грубостью, но добилась! – чтобы помочь хирургу, а тем самым и больному, и его нервной мамаше. Но перед глазами стоял перекошенный рот, в ушах звенели слова, которые могли быть еще грубее, разве такое забудешь? Он отогнал мысль, что следовало бы одернуть Нямуните и хоть ненадолго вернуть ее послушание. Нямуните издевалась не над мальчиком или его матерью – над собой. Запахло скандалом, и это случилось тогда, когда он больше всего нуждается в ее плече, спокойном и преданном взгляде!
– Люди! Вы слышали, как она нагличает, эта девка? – не выдержала женщина, возмущенно протянув к сестре худые руки, с запястья соскользнул золотой браслет, звякнул об пол, больные уставились на желтое колесико – это событие, пожалуй, заинтересовало их больше, чем затянувшаяся сцена издевательства. Они было отвернулись, бормоча что-то под нос, опасаясь сестры, от которой зависели, но теперь можно было обойтись без этого. Старик пошарил набалдашником своей палки под креслом, толстая, как квашня, женщина приподняла тяжелую колоду ноги, а молодой человек с замотанной полотенцем головой ловко подцепил браслет большим пальцем. Браслет снова очутился на руке женщины – вот их долг и выполнен, и со всемогущей сестрой отношения не испорчены. Следующий! Стукнула дверь ванной, послышался плеск воды, мир и тишина в приемном покое! Наримантас дрожал от ярости и жалости, как никогда прежде, ощущая свое тождество с Нямуните и понимая, что окриком не загладит грубость, лишь усугубит ее, множа злобу и ненависть, а ведь Нямуните сама сейчас больше всех нуждается в сочувствии. «Констанция!» Выстроились вдруг и не гасли синие буквы на тяжело вздымавшейся груди моряка. Наримантасу захотелось очутиться далеко-далеко, где нет этих ядовитых букв, где человеческие отношения прозрачны, как роса на утреннем солнце.
– Как там ваш Казюкенас?
– Почему мой?
Выставив горб, остро выпирающий под синим сукном пиджака, стоит молодой Казюкенас. Стоит как вызов, как отрицание всего, что есть и что могло быть. Ничему, тем более улыбке, он не поверит, готов в клочья разнести все лживые, скрывающие правду словеса.








