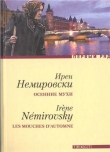Текст книги "Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы"
Автор книги: Михай Бабич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
«Ах ты озорник, шалунишка!»
Но он и Бёшке что-то говорил, этот взгляд. Ну хотя бы просто:
«Видишь, каков озорник!»
Все это я прочитал в том выразительном взгляде (каждый взгляд твой был выразителен необычайно), все это я прочитал в нем уже тогда. Но… когда ты внезапно повернула голову к Мартонеку, с этой своей особенной улыбкой, я на мгновение отчетливо ощутил твою радость, радость естественную, радость красивой женщины, которая нравится. Я узнал то же движение, которое заметил и утром, когда у нас сидел доктор, движение, которое так неприятно меня задело. И я вдруг понял, отчего оно меня задело. О, это было одно из самых ужасных мгновений моей жизни. Ибо я узнал в этом движении… узнал ту, другую… которую в той жизни, в моих сновидениях, должен был называть матерью.
И внезапно – когда над тяжелой тонкотканой камчатной скатертью еще звенел веселый смех, не проникая уже в мои оглушенные уши, когда я еще видел вокруг непонятно сияющие улыбками лица, – внезапно меня ужаснула эта мгновенно промелькнувшая мысль, и вся душа моя содрогнулась, как будто обрызганная отвратительной грязью, бог знает откуда взявшейся, из каких миров. Я чувствовал, что навсегда, на всю мою жизнь, непоправимо, несмываемо запачкан этой мыслью. Я, чистый мальчик с благородной душой, всегда видевший окружающий мир чистым и благородным, открыл внезапно, что эта сияющая чистота, даже самая сияющая и самая чистая, таинственным образом неразделимо смешана в неведомых глубинах моей души с отвратительной грязью. Это было так ужасно, что я не мог уже ни что-либо видеть, ни думать о чем бы то ни было. Я стал вдруг рассеянным, раздражительным. Не слышал смеха и шуток, не видел веселых лиц вокруг. Сидел безмолвный и мрачный.
Это заметили, заметила Ненне. Она ведь все еще опекала меня, словно младенца. Я слышал, как она шепнула матери:
– Взгляни, мальчик стал krantich[4]4
Сам не свой (нем.).
[Закрыть].
– Ты нездоров? – негромко спросила мама.
В другое время я ни за что на свете не признался бы в недомогании или слабости посреди подобного общества, но на этот раз ответил даже с каким-то непонятным вызовом:
– Голова болит.
IVЯ ушел к себе, бросился на диван и заплакал. Ненне вошла за мной следом и очень испугалась, увидев, что я вытираю слезы: она прижала мне ко лбу свою узкую руку.
– У тебя жар, – сказала она. – Нужно поскорее лечь. Сейчас придет няня и постелет тебе.
В какой-то миг мне захотелось рассказать ей все: хотелось выплакаться, пожаловаться. Но я чувствовал: это все-таки невозможно.
Явилась няня Виви, приготовила постель, пожелала непременно вскипятить чай из ромашки, которым она пользовала от всех болезней, зимою и летом; няня Виви что-то говорила мне с той же ласково-заботливой фамильярностью, с какою, должно быть, утешала некогда мою маму, которую тоже вынянчила. Ох, как же мне хотелось, чтобы она осталась со мной, что-нибудь рассказала, как тогда, когда я был совсем маленьким – какую-нибудь из тех давних сказок, слушая которые, я забывал про все свои беды, про самые горькие слезы и уже думал только о сказке и не спал подолгу, часами.
Но попросить ее было стыдно – да и потом, разве нынче поможет мне сказка!
И она ушла, а я механически разделся, хотя в голове неотступно билось, что ложиться не надо, надо постараться заснуть как можно позднее – как можно позднее проснуться в той ужасной жизни. И при этом что-то гнало, принуждало меня лечь, мне безумно и как-то странно хотелось спать, я чувствовал, что это хорошо и нужно – заснуть пораньше; ведь ученик столяра сегодня непременно должен встать рано!
И, едва я закрыл глаза, как сразу почувствовал, что подушка дерет мне щеку, и понял, что лежу в постели ученика столяра. Рядом со мною ровно, глубоко сопел младший подмастерье, из другой кровати доносилось похрапыванье старшего подмастерья. Мое тело плавало в поту, шею кусала блоха, но тем не менее я наслаждался и утренним теплом, и постелью, и тишиной; мягко, всей кожей ощущая ткань, я потянулся под пропотевшей простыней, не открывая глаз, плотно сомкнув веки, в голове стоял приятный туман, я ни о чем не думал, разве только о том, как хорошо лежать в темноте, тишине, тепле.
Но вдруг все мне припомнилось, я вскочил, протер слипшиеся со сна глаза, перешагнул через моего товарища по постели, натянул штаны, сунул ноги в шлепанцы и тихо, чтобы подмастерья не проснулись, отворил скрипучую дверь, вынес выставленные у порога туфли во двор и там, за дверью, принялся их чистить. Была тишина и рассвет, двор еще полнился прохладой, было даже холодновато в одной рубахе, так что я старался быстрее работать щеткой, на поредевшей, с пролысинами, траве сверкала роса, было утро, серое утро, и мой сон, мой светлый каждодневный сон, тоже сверкал в этой серой зыби, словно роса. Я не помнил его сколько-нибудь отчетливо – никогда не помнил его отчетливо, – но отдельные картины возникали, вспыхивали во мне, я знал, что где-то был красивый господский парк, дорожки там выложены желтым гравием, по ним гуляют смеющиеся дамы в нарядных платьях, их смех и теперь звучит у меня в ушах. Мне вспоминались роскошно обставленные комнаты, красивые мягкие стулья, на которые мне не разрешалось садиться, сияющее белизной плетеное садовое кресло с красной подушкой. Внезапно я обнаружил также, что был во сне гимназистом и хорошо учился, у меня были большие и красивые книжки с картинками, и я умел читать и понимал их. Впрочем, о чем были те книги, я уже не помнил. Лишь чувствовал в себе что-то большее, гораздо большее, чем мое здешнее «я», но только все это где-то глубоко запрятано, заперто, и я никак не могу вскрыть те замки, отворить двери: я чувствовал, что владею сокровищами, которые таятся где-то в каком-нибудь темном ящике, и что мне бы следовало находиться совсем не здесь, что надо мною вершится великая несправедливость, что я не тот, кем являюсь, и знаю больше того, что знаю. Как будто просторную и прекрасную местность заволокло непроглядным туманом, укрыло тьмой.
Я давно уже бросил чистить туфли подмастерьев и тихо, сладко оплакивал себя, при-строясь на корточках возле двери. И вдруг принял решение. Отшвырнул туфли и щетку, осторожно приоткрыл дверь. Она скрипнула, я замер, прислушался. Старший подмастерье перевернулся на другой бок и невнятно выругался. Опять все стихло. Я неслышно снял с проволочной вешалки мою ветхую соломенную шляпу. Потом попробовал вытянуть нижний ящик комода, в котором лежало мое единственное пальто. Ящик поддавался с трудом, то правое, то левое медное колесико застревало, приходилось поддергивать, а дернуть сразу посильнее было нельзя, чтобы не заскрипело. Я так и не вытянул ящик, только приоткрыл слегка, просунул внутрь руки, в изъеденное молью тряпье, половину вывалил на пол и, пошарив, выволок наконец пальто с продранным на локте рукавом; в следующее мгновенье я был уже во дворе, не успев даже накинуть пальто, ничего не прибрав, оставив все барахло на полу, не задвинув даже ящик, не закрыв за собою дверь, чтобы не разбудить кого-нибудь ненароком.
Как они будут злиться!
Огромные решетчатые ворота, выкрашенные зеленой краской, были еще заперты; я взобрался наверх – ворота были чуть не вровень с домом, – оттуда, срываясь, в три неловких торопливых скока спустился, вернее, свалился наземь. Перевел дух и со всех ног бросился прочь! Я бежал вдоль речки, проскочил галерею бакалейной лавки, обнесенную деревянными столбами. И тогда лишь умерил бег, когда зеленые ворота и самый дом пыток исчезли из глаз.
«Пойду в город», – решил я.
Город, Большой город, был недалеко, я знал, что на трамвае туда можно доехать за три четверти часа. Первый трамвай уже отправлялся с большой рыночной площади, ранние торговки как раз втаскивали в вагон объемистые корзинищи и усаживались на скамьях, растопыря свои толстые бедра, жесткие юбки. За спиною у каждой из грязно-белых узлов торчали тяжелые молочные бидоны, спереди, наперевес, болталась еще одна большая корзина.
«У этих-то есть денежки на трамвай», – подумал я злобно и, спотыкаясь, побрел через рынок по грязной асфальтовой дорожке, оскользаясь на дынных корках и капустных листьях. Мне даже в голову не пришло идти к родной матери – хотелось распроститься навсегда со всем, что я знал, потому что здесь все, все было ужасно.
Торговые лавки, палатки только-только просыпались. Двое парнишек, ученики сапожника, пронесли на длинном шесте вереницу сапог, будто ханаанские евреи, несущие виноградные грозди. В церкви заблаговестили к утренней мессе. Подняв тучи пыли, прогрохотала телега. Я шел в ту сторону, куда укатил трамвай; становилось жарко.
Село здесь было уже не похоже на село. Вдоль дороги расположились в ряд мастерские ремесленников и склады, все они поставляли товары городу. Были здесь мебельные склады, склады скобяного товара. Были столярные мастерские, совсем маленькие и огромные, целые поселения. Чуть дальше пошли чередою фабрики. Сквозь непривычно большие, грязные свинцовые квадраты разбитых кое-где окон виднелись шустро крутящиеся ремни, отполированные до зеркального блеска стальные колеса. Иногда я останавливался поглазеть и всякий раз вспоминал мое маленькое круглое точило. Куда ни глянь, сколько здесь непонятных чудес! Посреди пустыря одиноко торчала огромная-преогромная кирпичная труба. В небе кольцами плыли тучи сажи. Даже солнечные лучи казались черными. Уличная пыль перемешалась с мелкими кусочками угля, угольной пылью.
Пахло углем и нефтью. Странные голые строения таращились темными, пустыми квадратами. Глухие, слепые стены! Водонапорная башня взвилась высоко в небо и там раскорячилась пугалом. Нещадно палило неприветливое солнце. Неопрятные и пыльные, поросшие чахлой травой пустыри и площади, где гоняли в футбол потные подростки с бандитскими лицами, сменялись унылыми шестиэтажными доходными домами для рабочих. Какие высокие! Я и не подозревал, что такие дома бывают. На самом верху, склонившись над перилами балкона, стояла бледная женщина и дышала дымом.
Было невыносимо шумно. Бешено звенели трамваи. Длинные железные решетки, которые они везли на своих колесах, отчаянно скрежетали, раскачиваясь и содрогаясь. Величественно прогромыхивали безобразно громоздкие мебельные фургоны с огромными буквами спереди и по бокам. Бесконечные заборы увешаны были зазывно яркими рекламными плакатами.
В голове у меня гудело от свистопляски кричащих букв. Я пытался разобрать намалеванные на заборах и стенах странные, непонятные мне надписи. Чужие, никогда не слышанные слова, которые невозможно выговорить.
«Так ли их надо читать? Или я читаю неправильно?»
С тех пор как я ходил в школу, буквы стали смертельными моими врагами и тайно обожаемыми идолами. И сейчас, в этом удивительном, невероятном, грязном Вавилоне, мне показалось вдруг, что как раз буквы и есть ключ ко всему. Я читал:
АВТОГЕННАЯ СВАРКА
МОНТАЖ МОТОРОВ
Они были повсюду, надписи, подобные этим. Совершенно невразумительные. Волшебные буквы заколдованного города. Я брел под их кричащей невнятицей, униженный и испуганный. Для меня все вокруг было туманом, непроглядным туманом. Какой большой он, город! Я пропаду в нем. И никогда ничего здесь не пойму. Где теперь мастер? Для чего все это?
Я совсем взмок, но до сих пор ни разу не подумал о том, чтобы снять пальто, потому что бессознательно все время выщипывал из карманов микроскопические хлебные крошки. Наконец я догадался, что очень жарко, и сбросил пальто. Когда же рука опять потянулась к карману, до сознания моего дошло, что я к тому же умираю от голода.
Только тут я и понял, что никто уже не даст мне хоть сколько-нибудь еды и что было величайшей глупостью вот так, очертя голову, броситься в этот непонятный мир. Но и желания приказать ногам повернуть вспять тоже не было.
Теперь мой путь лежал вдоль полей, пыльных, задымленных полей-пустырей: разъезженная вдоль и поперек земля, чахлая трава, малокровные акации. Большущая лужа, мрачное неприветливое строение посреди пустыря. Но вдали уже вырастал лес труб, осененных гигантскими дымными кронами: там-то и есть тот большой-большой город! Через поле мимо меня, дребезжа, проносились переполненные трамваи.
Непонятная сила влекла меня неодолимо, как бабочку на свет.
Никогда, никогда не тронулся бы я в этот путь, ни за что не прошел бы его до конца, если бы не манило смутное, неясное, возникшее из сновидений воспоминание о том, что это смутное, неясное и есть моя истинная лучшая родина. Казалось, когда-то я все это знал, только сейчас вот никак не вспомню; какой долгий, бесконечный, мучительный кошмар! Словно калиф из сказки, который превратился в аиста и забыл волшебное слово, способное вернуть ему человеческий облик.
Это было мученье, мученье, ужасное мученье – идти вот так, под палящим солнцем, в пыли и дыму, обливаясь потом и чуть не падая от усталости и голода.
Но я брел из последних сил, как бредут к родному порогу.
Шоссе свернуло под мост, надо мною пыхтела, громыхала железная дорога, металлический виадук гудел, как сам ад. Я был в городе.
Поначалу и здесь все тянулись фабрики, заводы, склады, большое трамвайное депо. Наконец я вышел к вокзалу. Суета ошеломила меня. Я бесконечно устал и долго смотрел на скамейку у края тротуара, соображая, можно ли мне на ней посидеть.
Но так и не осмелился сесть.
Увидел посреди площади конного полицейского и невольно попятился от скамьи.
Однако что же мне делать? Куда идти? Кого окликнуть, спросить?
Но тут увидел перед собой стеклянный фасад вокзала и, ошеломленный, уставился на него, забыв обо всем, пока кто-то не толкнул меня. Пристыженный, я поплелся дальше, едва волоча ноги.
Я тащился в том же направлении, в каком двигался главный поток людей. Но обратиться к кому-либо не решался. Шагал из последних сил, озираясь по сторонам; болела голова, хотелось сесть прямо на обочину тротуара. Витрины бакалейных магазинов невыносимо обостряли чувство голода. Который может быть час? Как будто бы скоро и полдень. Хотелось найти хоть какую-то тень. В глазах плясали буквы, вывески магазинов.
Я шел как сомнамбула, без цели, тысячекратно возвращаясь на одно и то же место. Перейти на другую сторону улицы боялся. Ноги меня не держали. Наконец твердо решил обратиться к первому встречному. Чтобы не осрамиться, затвердил про себя заранее приготовленный вопрос. Так запоминал я наказы хозяев, когда меня посылали в лавку.
«Ваша милость, скажите, пожалуйста, где бы я мог найти работу».
– Болван! – рявкнул над ухом важный барин, которого я, занятый своими мыслями, имел неосторожность толкнуть; эта незадача еще на полчаса-час парализовала мое мужество.
Наконец я все же высмотрел подходящего, казалось мне, прохожего и решился к нему подойти. Это был пожилой господин с добрым лицом, в красивом и солидном черном костюме; он рассматривал витрину книжного магазина. Мне представилось, что он должен быть очень умным, ученым и добрым. Почудилось даже, будто я его знаю. Я долго глядел на него, ходил вокруг и все думал, можно ли к нему обратиться. Вскоре и он заметил, что я все кружу возле него, и нахмурился. Быстро ощупав карманы, он зашагал прочь.
«Теперь или никогда», – подумал я.
И я с отчаянной решимостью заступил ему дорогу, так неожиданно, что он вздрогнул.
– Будьте добры, ваша милость, скажите, где мне найти какую-нибудь работу?
И я сдернул с головы шляпу.
Он смотрел на меня хмуро и подозрительно.
– Откуда мне взять для тебя работу? Я не посредник на бирже труда.
Я растерянно вертел в руках шляпу. Он отвернулся.
– При чем тут я? – ворчал он, уходя.
Я стоял уничтоженный, словно совершил величайшую неловкость. Потом опять поплелся куда глаза глядят. Что со мной будет? Все мое мужество испарилось. Я подолгу топтался возле каждой скамейки, но сесть так и не решился ни разу. Постоял перед рестораном с ослепительно белыми столиками, за столиками сидели люди и ели. По улице шли мальчики, маленькие барчуки, и мне что-то смутно припомнилось, показалось, будто и мне отчего-то следовало бы жить как они.
Видеть их было, пожалуй, мучительнее всего. Чувство зависти, и беспомощности, и злости охватывало меня оттого, что никто даже не поглядел в мою сторону. А каких дам я видел! Садясь в трамвай, они до колена подымали юбки, открывая взору шелковые чулки.
Я на все таращил глаза, меня толкали справа и слева. Ни разу мне не попалось ни одного мальчишки-ученика, вроде меня: должно быть, здесь все – господа.
И я был голоден, господи, как я был голоден! Мои хозяева, уж верно, отобедали.
Вдруг я услышал истошные крики:
– Газета! Газета! Правительство пало!
Большая стайка мальчиков моего возраста, в простой одежде, мчалась по тротуару. Оглушительно крича и размахивая газетами, они кидались к прохожим, вскакивали в проносившиеся мимо трамваи; мне они показались все замечательными.
– Экстренный выпуск! Специальный выпуск!
Вся улица звенела от их голосов, их стремительной беготни. Они в самом деле были великолепны: как мне хотелось быть среди них! И я решился к какому-нибудь из них обратиться. Я оттого еще так осмелел, что их работа была мне понятна. И потом, они тоже были мальчишки, как я.
Я приглядел паренька с самым добрым лицом (он казался немного старше меня) и очень вежливо спросил:
– Будьте так добры, скажите, где можно получить газеты?
Он смерил меня взглядом:
– Какие такие газеты, папаша!
Я смутился и почувствовал, что краснею.
– Ну, газеты… продавать… как вы.
– Ах так! Надо в редакцию топать, папаша!
Я очень обрадовался: наконец-то! Сердце так и бухнуло.
– А где она, редакция?
– Удостоверение-то у тебя есть? – раздался голос откуда-то снизу, от самой земли.
Я поглядел вниз и увидел человека, ползшего по земле, словно жук. Ног у него не было, в руках он держал деревянные чурки, ими отталкиваясь, и передвигался.
– Какое удостоверение? – спросил я, не поняв этого странного слова.
– Обыкновенное удостоверение… из полиции…
Я испугался.
– Из полиции? В полицию мне нельзя.
Все дружно расхохотались. Я опять смутился – бог их знает, что они обо мне думают, – и принялся рассказывать свою историю. Слушали с интересом, подошли и другие, но видно было, что мне не очень-то верили. Перебрасывались шутливыми замечаниями, по большей части очень грубыми. Да меня и трудно было понять: вокруг стоял такой шум, столько сновало людей, я сам не слышал собственных слов. Наконец тот, кого я остановил первым, сказал:
– Вижу я, папаша, что ты нам не доверяешь, ну и зря. А вообще-то неважно, я тебе помогу, чтобы ты не запросился назад, к своей мамочке. Завтра я закуплю вдвое больше газет, чем обычно; половину, с небольшой доплатой, получишь ты. Пойдешь с газетами подальше, на следующий угол. Вдвоем мы и продадим вдвое больше. Если застукает полицейский, скажешь, что ты газеты не продаешь, просто так взял мою пачку на минуту. Но для тебя самое лучшее, папаша, держаться от полицейских подальше.
Он поглядел мне прямо в глаза:
– Ну, по рукам, папаша? Я тебе задешево газеты продам.
– Но у меня денег нет, – промямлил я.
Он как-то странно поглядел на меня.
– Не виляй, папаша. Так сколько возьмешь для начала, папашенька?
– У меня совсем ничего нет, ни гроша.
И тут опять все расхохотались.
– Нет денег, недотепа? Да как же ты хочешь газеты получить? Или их тебе просто так, за красивые глаза отдадут? Где мы находимся, братцы? В лесу мы, что ли?!
Безногий старик тоже весь трясся от смеха.
– Вот так штука! У самого ни филлера, а он, вишь, газеты получить желает!
Один парень, стоявший поодаль, вдруг положил мне руку на плечо и отвел в сторону. Как видно, он не расслышал толком последние фразы.
– Над чем это они потешаются? – спросил он.
– Не знаю.
– Я тебе вот что скажу… ты не верь ему. Он тебя облапошить хочет. Заработать на тебе, понял? А если поймают, твое дело табак. Он-то скажет, что ты украл у него газеты. Так что ступай лучше прямо в полицию с документами и получи удостоверение.
– Но меня отправят назад к мастеру.
– Ничего не отправят. Скажешь, что тебя мать послала. Не трусь, они же не знают, что ты был учеником и задал деру. Ты им только документы свои покажи. Потом из первого заработка в кино меня сводишь.
– Что им показать?
Мой вопрос потонул в оглушительном вое автомобильной сирены. Вообще такой шум стоял вокруг, а он употреблял такие странные слова…
– Документы свои, дурень…
– А что это – документы?
– То есть как – что это? С луны свалился? Неужто и слова такого не слышал? Свидетельство о крещении, понял, либо метрику, если тебя под кустом крестили…
– И школьное удостоверение тоже?
– Само собой!
– Нет у меня документов.
– А где они?
– Не знаю.
– Эх, с тобой толковать – пустое дело. Пошел к черту.
Он ткнул меня в живот и повернулся, чтобы уйти. Позади него стоял парень, которого я окликнул первым.
– Ты чего это мне дело портишь? – набросился он на второго. – Чему моего пацана учишь? Ну, гляди, уж я тебе дам… вот этого… и вот этого…
Он сопроводил свои слова отвратительными жестами.
– Ты бы лучше отдал мне мои пятьдесят грошей, – огрызнулся второй. – Я тебя за мою курочку сейчас и подсек.
– Вот так подсек! Да я, если хочешь знать, плевал на твою подсечку, у него же и денег нет.
Мальчишки-газетчики надрывались от хохота. А я улизнул потихоньку.
И опять поплелся неведомо куда, и чудилось мне, будто выстраиваются передо мной странные буквы и с издевкой хохочут прямо в уши: «Удостоверение!», «Документы!» – эти городские слова были чужеродны и неприятны слуху моей души. Я сам себе казался величайшим дураком на свете. Сколько всякого знают эти мальчишки-газетчики, о чем я не имею понятия! И все же – как бы это объяснить? – я чувствовал отчего-то, что они не чета мне, что я был бы куда умнее их всех, если бы… если… если бы не тяготело надо мной тайное заклятье. Я брел по огромному чужому городу, как непонятый гений, как лишенный престола король; но это нисколько не возвышало меня, напротив, претворялось в горечь, отчаяние, страданье – такова жизнь прозябающего в ничтожестве человека, когда-то «знававшего лучшие дни».
Наконец я присел на каменную тумбу у ворот. Я смертельно устал, целый день проведя на ногах. И все же долго сидеть не мог от страха, что меня обругают, прогонят; а еще томило нетерпение, будоражили красочные витрины; скоро я обнаружил, что опять куда-то иду, потом вдруг замер, на этот раз перед большим кинематографом, разглядывал многоцветные афиши, изображавшие всякие ужасы, а над ними как раз в эту минуту, шипя, разгорался ослепительный ацетиленовый фонарь, хотя было еще совсем светло.
Посмотреть кино было всегда моей заветной мечтой, но исполнить ее так и не удалось.
Затем голод погнал меня дальше. В соседней подворотне я увидел лоток с пышками и рогаликами. Сколько они могли стоить? А что, если украсть хоть одну штучку? Торговка то и дело отворачивалась, глядела в сторону. Или лучше попросить? Нет, для этого смелости нужно куда больше. Потоптавшись у подворотни, я трусливо поплелся неведомо куда.
И опять остановился перед книжной витриной. При виде книг я испытывал какое-то неизъяснимое чувство. То было смутное ощущение забытых радостей и еще горечь оттого, что даже память не могла их по-настоящему мне возвратить. Тупо разглядывая витрины, я угадывал за стеклом, за обложками книг какой-то иной и привлекательный мир, мой истинный мир, в который вернуться я уже не могу. Я подолгу переминался перед каждой такой витриной с толстыми сверкающими стеклами, словно надеясь проникнуть в них – так шмель жужжит и бьется в стекло, расшибается об него вновь и вновь, но все же упорствует, хочет пробить его, хочет невозможного, ибо его влечет к себе свет, льющийся из-за стекла.
«Документы… школьное удостоверение…» – лихорадочно билось в мозгу. И как же хотелось есть! Крадучись, я вновь и вновь возвращался к лавчонке с рогаликами. Однако еще больше, чем голод, меня мучила жажда. Проходя мимо террасы кафе, где сидел один-единственный посетитель, я увидел, как к его столику подлетел кельнер и поставил перед ним сразу три стакана воды. Какой-то мальчик, младше меня, и тоже в простой одежке, подбежал к самым перилам веранды.
– Дяденька, не позволите ли один стаканчик воды?
Господин на террасе кивнул. Мальчонка просунул руку между балясинами и залпом выпил стакан.
– Спасибо, дяденька! – крикнул он и убежал.
Я стал думать, не последовать ли его примеру, думал долго, покуда господин не встал и не удалился. И тут, с внезапно нахлынувшей храбростью, я тоже протянул руку к столику, схватил стакан, из которого отпил ушедший господин, и мигом его осушил. Взять полный стакан я не решился.
Но только я отнял стакан от губ, как передо мною вырос кельнер и наградил меня подзатыльником.
– Эта уличная шантрапа совсем обнаглела!
Уничтоженный, я потащился дальше. Меня по-прежнему манила лавка с рогаликами, но теперь уже не могло быть и речи о сколько-нибудь отважном шаге. Я свернул в темную улочку и предался бесплодным раздумьям. Только сейчас я глянул вверх и только сейчас обнаружил, какие высоченные здесь дома. Лишь узенькая полоска неба виднелась меж ними, на ней уже загорались звезды. У газовых фонарей маячили одинокие женщины. В начале улочки была извозчичья стоянка.
В освещенных окнах виднелись красивые люстры. Из какой-то квартиры неслись звуки фортепьяно, женский голос пел незнакомую песню. Почти в каждом доме под высокими первыми этажами имелись полуподвальные помещения. Где-то в нос ударил тяжелый дух большой прачечной. На каменном выступе полуподвального оконца валялось несколько хлебных корок, мякиш был старательно выгрызен. Виднелись следы зубов. Я подобрал грязные, твердые как камень корки и съел. Как они хрустели на зубах!
И я опять шел и шел.
Потом увидел широкую площадку, обрамленную темными деревьями. Здесь начинался Городской парк. Перед ним раскинулась ярко освещенная площадь, по которой во все стороны мчались автомобили, с террас сияющих огнями кафе лилась музыка, их заполняла элегантная толпа. Я заметил женщину, изумительно красивую и нарядную, все провожали ее взглядами, на ней было шелковое лиловое платье с розами, свет электрических лампочек ласкал ее милое лицо. И я почти удивился: вот и мне, оказывается, можно видеть такую красоту. Но тут же опять промелькнуло в сознании, что я словно бы часто, много раз видел подобное, что мои сны постоянно уносят меня в царство прекрасного, я имею на него право и лишен его несправедливо. Весь мир вдруг мне стал ненавистен, но все же я испытывал про себя огромную гордость при мысли, что, например, ни одному из тех мальчишек-газетчиков, которые мне нынче встретились, недоступны сны, в каких живу я. О, если бы можно было все время спать! И не забывать то, что снилось!
Я старался держаться подальше от света и, едва волоча ноги, свернул на темную уединенную тропинку, глаза слипались, и я решил, если не подвернется ничего получше, лечь прямо на землю – лишь бы спать! Но тут увидел скамейку и, хотя она была ужасно жесткая, все же предпочел растянуться на ней. А вскоре почувствовал, что лежу среди мягких подушек и что это действительно так. Я в самом деле лежал на своей милой мягкой кровати и думал о том, что кошмарный мой сон все-таки имел продолжение, и какой он вдруг стал занимательный, и что сегодня надо идти в школу, но, вероятно, еще очень рано. Как хорошо проснуться, вырваться из этих ужасных гнетущих ночных кошмаров! Я потянулся. Господи, неужто этому не будет конца?.. У меня еще ныло все тело: по-видимому, спал в неудобной позе. Который может быть час? Пожалуй, еще успею проглядеть, что там задано на дом. Но сперва обдумаю виденное во сне, чтобы ничего не забыть и записать как следует.
Однако, покуда я пережевывал сон, мне опять вдруг стало казаться, что я все-таки лежу на жесткой садовой скамейке, ее подлокотник грубо врезается в голову и что так спать невозможно. В этот миг надо мною кто-то проговорил:
– Сынок, не спи здесь, не то тебя заберет полицейский.
Я поднялся и, пошатываясь, побрел прочь, даже не глянул, кто меня разбудил. Увидел еще скамейку, на ней, прижавшись друг к другу, сидели женщина и мужчина. Я шел все дальше, пока не забрел опять в совершенно безлюдное место. До одурения хотелось спать. Оглядевшись по сторонам, я прокрался в кусты, и там, в темноте, упал на траву. Мгновенье спустя я уже опять лежал в своей теплой постели и сердито вспоминал новое интермеццо.
Но как же похож на действительность этот сон, даже в самых неожиданных своих поворотах! В нем нет ничего невероятного, ничего неясного, никаких провалов, как это бывает обычно в сновидениях.
Все утро мой сон не выходил у меня из головы, в гимназии я тоже был крайне рассеян. Однако на этот раз вся история вовсе не представлялась мне столь чудовищной, я находил ее скорее весьма и весьма любопытной; вчерашнее же мое отчаяние, по здравом рассуждении, счел несколько преувеличенным.
После урока греческого я подошел к господину учителю Дарвашу; мне было известно, что у него имеется внушительная библиотека.
– Господин учитель, я очень хотел бы почитать какую-нибудь научную книгу о сновидениях. Не будете ли вы так любезны порекомендовать мне что-нибудь?
– Гм… с чего это пришло вам в голову?
– Мне интересно. Очень.
Дарваш призадумался, затем сказал:
– Ну что же, мой мальчик, пожалуй, и у меня найдутся подходящие книги. Загляните ко мне под вечер, и я с удовольствием покажу их вам, а уж вы сами выберете, какая больше придется по вкусу.
После обеда на меня вдруг напала неодолимая сонливость, и я, можно сказать, против воли, прилег на диван и задремал, но при этом все время чувствовал, что лежу на траве и моя одежда от росы совсем отсырела.
Я шел к Дарвашу с радостью и великой гордостью. Еще ни один ученик не побывал у него на квартире, да и вообще сблизиться с ним было непросто. Он был нелюдим и необыкновенный молчун.
– Наш грек молчит на восьми языках! – такая ходила о нем присказка.
Он и в самом деле знал множество языков, был сведущ во многом; однако выяснялось это только случайно. В школе он строжайшим образом придерживался предмета, не позволял себе никаких отступлений, не щеголял без нужды познаниями, как это любят делать иные учителя. В нем странным образом вообще отсутствовала страсть сообщительности. Он был образованнейшим человеком, но, насколько я знаю, никогда не написал ни единого слова – и это в стране, где каждый, кто прочитал за жизнь хотя бы две книжки, считает себя вправе сотворить третью.
И в гимназии его отличали неуязвимое спокойствие и флегма. Он задавал вопрос и ждал, ждал иной раз по нескольку минут. Какая гнетущая, гулкая тишина устанавливалась тогда в классе! Иногда казалось, что этому человеку вообще нет дела ни до кого на свете. Никто ничего не знал ни о родственниках его, ни о друзьях (а ведь ученики выведывают о своих учителях решительно все). Прогуливался он всегда в одиночестве. Только малышей явно любил и охотно шутил с ними; но с нами, старшими, держался по обыкновению холодно и отчужденно, не будучи при этом ни грубым, ни нелюбезным.