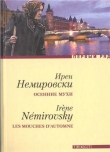Текст книги "Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы"
Автор книги: Михай Бабич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Затем песня русалок снова превратилась в гул, и гул этот напоминал голос их деревенского колокола, звонившего к вечерне… Вот так умер Джонни. Ну а что же стало с кораблем и с русалками?
Русалки действительно приплыли на зов волшебного медальона. Морское сражение закончилось, шлюпки быстро скользили прочь от затонувшего корабля, а неприятельские фрегаты подбирали и брали в плен его спасшуюся команду. Все шло как по маслу, экипаж на удивление быстро и слаженно выполнял приказы, и потери среди личного состава оказались незначительными, хотя корабль в считанные минуты ушел под воду. Капитан последним покинул борт корабля, когда уже стало совершенно ясно, что кочегаров спасти невозможно, и впоследствии даже получил награду за проявленную выдержку и храбрость. Все это продолжалось четверть часа, и скоро море уже опять было спокойно, ярко светило солнце, и лишь над погружающимся судном все шире и шире расходились по воде круги.
Еще видны были спасательные шлюпки и контуры неприятельских фрегатов ясно вырисовывались на далеком горизонте, когда появились русалки. Они явились бы и без зова медальона Джонни. Пока между людьми идет жестокая битва, русалки боязливо прячутся; но как только морское поле брани остается наедине с тихими мертвецами, они чувствуют: настал их час, приплывают и начинают свою таинственную работу. Они опускают обломки кораблей на морское дно и там размещают поудобнее, расцвечивают перламутровыми красками морских волн и устраивают из них для себя дворцы. Они обнимают мертвые тела, обмывают их с великим усердием, вплетают им в волосы водоросли и преображают для новой жизни: кости их превращают в кораллы, розовые, драгоценные кораллы, и укладывают так причудливо, что кажется, будто на дне морском расцвели цветы из драгоценных камней; из их кудрей свивают шелковистую зеленую тину; глаза переплавляют в драгоценные жемчужины, а уши – в перламутровые раковины, которые становятся домиками для маленьких атласных улиток. Так они исправляют то, что человек портит, возрождают то, что он убивает, и принимают в игру моря, самую великую игру на свете, в которой нет места скуке. Потому-то и стремятся русалки туда, где тонет корабль.
Вот и теперь они явились, а поскольку их звал и волшебный медальон, то даже не стали ждать, пока живые люди удалятся или умрут; влекомые подводными течениями, они плавали вокруг погружавшегося судна и как раз заметили маленькое круглое оконце кочегарки, когда оно внезапно открылось и вдруг снова захлопнулось перед ними. Надо сказать, что тогда внутри находились еще живые люди; это был тот самый миг, когда прохладный душ хлынул на закружившуюся голову Джонни. Том набросился с кулаками на потерявшего рассудок парня, впустившего смертоносный поток, а остальные кочегары, опомнившись еще раз, из последних сил, закрыли люк иллюминатора. Так и получилось, что русалки остались снаружи и лишь нерешительно кружили вокруг корабля, который уже мягко ложился на морское дно. Одна из русалок, по имени Марина, нашла мертвое тело: это был молодой матрос, которого снесло взрывной волной; она обняла его, уложила на тихие волны и стала расчесывать ему волосы, которые ужасно спутались в губительном водовороте. Но что же будет с Джонни и остальными кочегарами? Кто расчешет их волосы, кто сделает кораллы из их костей и кто вовлечет их в великую игру? Или так и останутся они на веки вечные в отвратительной железной тюрьме и напрасно будут грезить о милой родной земле, в которой так любят исчезать мертвые?
Тюрьма – плохое место для живых, но для мертвых – еще хуже. Вот поэтому ночью, когда все стихло и ветер уснул, мертвые еще бодрствовали в кочегарке; вода просачивалась через щели иллюминатора и другие места, и бедняги, кружась в этом необычном водовороте, ударялись иногда головами о железные стены. Снаружи страшно было слышать это. Мертвая рука Джонни судорожно сжимала волшебный медальон, и русалки всю ночь кружили вокруг корабля и жалобно пели, потому что не могли проникнуть внутрь. Даже Марина оставила прекрасного матроса, поручив его белогривым морским лошадкам, что неустанно скачут от берега к берегу; они понесли его к далекому острову, где на берегу, поросшем осокой, жили девушки, тоже феи; так что можно было не опасаться, что он останется без присмотра. Марина беспокойно плавала вокруг железной тюрьмы.
– Кто зовет нас, кто? – вопрошала она.
Кулак мертвого Джонни стучал по железу, и волны скорбной музыкой отзывались в лабиринтах затонувшего корабля.
– Кто-то мертвый лежит внутри и сжимает в руке наш портрет, а мы не можем даже войти к нему, чтобы набальзамировать, – ответила другая русалка, переплывая на противоположную сторону.
– Кто зовет нас, кто? Я не могу поцеловать тебя в губы, и холодная вода обгложет твое лицо, не могу пригласить на чудесный танец твое тело, и кости твои вечно будут греметь в этой уродливой железной шкатулке.
– О чем ты горюешь, русалка? – спросила, проплывая рядом, рыба-скат, освещавшая наподобие фонаря подводный мир далеко вокруг. Это была уже старая и очень мудрая рыба, самых разнообразных морских животных видывала и знавала она в своей жизни, встречалась и с людьми, так как много раз видела водолазов, бродивших с фонариками под водой; поначалу она даже подумала, что это рыбы вроде нее, и подплывала к ним совсем близко. – О чем горюешь, русалка?
– Я бы превратила его кости в ослепительные диковинки, – отвечала русалка. – Я целовала бы его плоть, а из зубов выточила бы блестящие бусинки и рассыпала среди морских сокровищ… О, зачем вы заточаете себя в крепкие железные темницы, зачем так мучите друг друга? Ведь даже умереть лучше в открытом море. Придите же к нам, желанные; русалкам так сладостно целовать вашу плоть.
– Ты взываешь к людям, – сказала рыба-скат. – Я знаю их, с ними бесполезно разговаривать. Нет животного глупее, чем человек. Он ходит с фонарем под водой, хотя Господь не создал его электрическим скатом, как меня; а то еще забирается в железную раковину, чтобы быть похожим на улитку. И проку от этого нет никакого, ибо делают они это только для того, чтобы уничтожить друг друга: охотиться на себе подобных и истреблять их. Ни одно животное так не поступает. Они запирают друг друга в железные клетки, чтобы не дать спастись, чтобы утопить. Зачем ты хочешь им помочь?
– На то я и русалка, чтобы всем помогать, – ответила ей Марина. – Все изуродованное надо снова сделать красивым. Все испорченное вновь должно стать хорошим. Волшебные силы взывают к моим чарам. Этот человек носил у сердца мой портрет. А сейчас железные стены мешают мне прижать к сердцу его самого. Ты прав, человек – глупое животное. Но глупость подобна оковам, которые спадают в смертный час. Мертвые никого больше не обидят, и поэтому надо, чтобы они были счастливыми. Я знаю, как называется счастье мертвых: свобода. Мертвец, растворяясь в вольных стихиях, снова оживет: он воплотится в тысячу новых прекрасных вещей. О Светильник Моря, скажи, как мне быть, ведь волшебная сила не даст мне покоя, пока я не унесу своих мертвых в далекие воды! О бедные страдальцы! Кого мне молить о вашей свободе?
Увы, Джонни, Том и все остальные уже не слышали, что Добрые и Прекрасные думают и скорбят о них. Русалки же расселись на зеленых мхах под большими кораллами и пели всю ночь погребальные песни. А к утру снова приплыла рыба-скат и сказала:
– Попросите Бога, он всемогущ.
И русалки воззвали к Богу:
– О Боже, Ты всесилен, так освободи же несчастных страдальцев, открой для них наши пути, которые являются и путями господними: к морю, к ветру, к прибрежной осоке, к мягкому донному илу.
Было раннее утро, едва рассвело, и на небе собрались огромные тяжелые тучи, по крайней мере люди считали, что это тучи. Но не тучи то были, а исполинская рука Господня, протянутая к морю. Все стемнело вокруг, и море грозно разбушевалось, как только в него погрузились громадные пальцы; люди трепетали и говорили, что это страшная буря. На сотни и сотни миль вокруг с ревом разбежались гигантские волны; а случилось все это только потому, что рука Господня подняла со дна корабль и, ударив о скалу, разбила его, выпустив Джонни и его товарищей из железной тюрьмы к вольным стихиям.
Перевод С. Вольского.
ОСТРОВОК С ЛАДОНЬ
Сказка
I
Старая трава не умерла, но сбереглась под снегом и, стоило снегу растаять, высунула голову.
Дул ветерок, такой теплый и такой ласковый, что она снова вообразила себя молодой и задорно отряхнула свои зеленые былинки после долгого сна.
И новая трава уже пробовала пробиться наружу.
Внизу, под землей, шла ни на что не похожая жизнь, происходило сладостное и томительное брожение; далекое Солнце возвещало о себе своим теплом, и всякое маленькое семечко знало, что пора прорвать разбухшую кожуру и выбраться из доброй мягкой почвы на незнаемый Воздух, полный тревог и дальних далей.
Этой участи не мог избежать никто, если хотел жить: с самой зимы все мучились ею, содрогаясь и все же грезя о ней.
Маленький тесный мирок произрос на клочке земли размером едва ли с ладонь, и в нем все неплохо уживались: делились между собой таинственными соками, добытыми глубоко, глубоко в земле, чувствовали трепет друг дружки, желания их были одинаковы, и каждый упрямо боролся за жизненное пространство с ноготок величиной. Они жили во тьме и знали только ближайших соседей; дальше не видели даже те, кто уже вылез головою наружу, и те, кто целую зиму дрожмя дрожал на ветру: ведь у них не было глаз, какие есть у зверей.
Но уж соседи хорошо знали друг друга.
С одной стороны, совсем рядом с ними, рос сиреневый куст, чьи цепкие, безразличные ко всему корни надо было с осторожностью обходить: его терпеть не могли. Но с тем, что крепкие и узловатые корни акации дотягивались до них, прямо из-под носа высасывали сладкие земные соки, мирились: понимали, что акация – важная госпожа и далека от них. Они сочувствовали фиалке, которая в жарком волнении приготовлялась уже к новой, надземной жизни. Знали они и почву, места, где была она мягкой и рыхлой; с другой стороны, напротив сирени, земля была тверда – там уже несколько месяцев лежал камень, сначала под снегом, а потом в траве.
Под камнем нет жизни, здесь кончается Островок с ладонь, а с другого бока корни сирени преграждают путь. Вот и вся компания. Но Ростки все же не ощущают свою жизнь слепой и ничтожной, ведь они из глубины слышат биение сердца Земли, и чувствуют тепло ее груди, и надеются, что вскоре распустятся на Вольном воздухе чуткими зелеными листиками, и вступят в хор далекой надземной жизни, и будут упиваться дуновеньями целого мира, и свой голос подадут в безграничной Вселенной.
II
– О, какой чудесный был дождь! – сказала Старая Трава, счастливо вбирая всеми клеточками своего существа пришедшую сверху обильную влагу, чтобы и ее белые корешки поскорее набрали силу.
– Что такое дождь? – спросила Молодая Трава, в страхе и волнении продевая сквозь размягшую почву иглы-травинки.
– О, как ты подросла! Уже почти проклюнулась из земли! – изумились крошечные фиалки. – И не знаешь, что такое дождь?! Да ведь это самое замечательное, что есть на свете! У нас словно крылья выросли, и через несколько дней мы непременно зацветем.
– И у меня словно крылья растут! – сказала Старая Трава, но ее никто не слушал: все знали, что она прошлогодняя и новых крыльев у нее не будет.
– А что такое цветение? – спросила Молодая Трава.
– О, это как музыка! Лучше не объяснишь, особенно детям, которые едва пробились из-под земли.
Молодая Трава задумалась и даже немного испугалась, но тем сильнее напрягла тонкие острия своих травинок, и не напрасно, ибо уже к утру следующего дня – сама бы не поверила – вытянулась с мизинец и огляделась на вольном воздухе.
Огляделась, но ничего не увидела, ведь у трав нет глаз, какие есть у зверей; травы не умеют видеть и не так уж много знают, однако не подумайте, будто им не дано чувствовать друг друга и то, что далеко от них. Доводилось ли вам лежать летом на косогоре, на солнцепеке долго, долго и неподвижно, покуда голова не закружится? Особенная нега охватывает в такую пору: кажется, будто срастаешься с землей и сливаешься с горячим воздухом. Столько света, что ничего уже не видишь; в ушах звенит, и не думаешь ни о чем. Но всей кожей словно осязаешь соседние горы, руками – формы облаков, всем телом – огонь Солнца и томление измученной жаждой земли: словом, чувствуешь много, много больше, чем до того видел и знал. Таково же существование трав и цветов. Ибо стоит облаку проплыть в небе, чередуя свет и тень, как маленькая трава легко его почувствует, и большое расстояние тут не помеха; точно так же чувствует она вчерашний или завтрашний дождь по вкусу воздуха и понимает послания далеких цветов, ароматы. Она чувствует ветер, несущий с собою пыльцу самых разных цветов, взмахи крыльев бабочки, крошечные смерчи налетающих пчел, сотрясающие ее узкие листочки, чувствует смену дневных и ночных часов – у каждого из них свои приметы, – склоняется под прохладным и сытным бременем утренней росы, страдает от колючего ночного холода и нестерпимой жажды полдней.
Не стоит также полагать, что с такой маленькой былинкой ничего важного не происходит, даже в самом нежном возрасте.
Прежде всего: на нее падали самые разные тени. Совсем близко проходили огромные звери – собака и кошка, порою и курица клевала острым клювом, так как островок находился в самом конце сада, куда и домашняя птица забредала с заднего двора. Еще коротенькая, Молодая Трава знала все тени и умела различать их по очертаниям. Иногда большой зверь останавливался рядом с нею, и она едва могла дождаться, чтобы он пошел дальше. И без того день такой пасмурный! Однажды пес даже лег на нее. Тяжко и жарко было, душно. В другой раз ужасная липкая улитка проползла по ней доверху, и это было очень противно, ведь улитка чуть не приклеила ее к земле. Молодая Трава едва дождалась вечера, чтобы, обмакнув продолговатые листья в росистый воздух, отмыть с себя слизь.
Но все же травка росла и росла, и совершенно не видны были на ней следы перенесенных невзгод. Она вытянулась так высоко, что стала настоящим гимнастическим снарядом для божьей коровки, которая, улетая с ее верхушки, порой заставляла ее раскачиваться, как в вихрь.
III
Однако самой большой сенсацией было, если кто-нибудь из соседей зацветал.
Первой зацвела фиалка, самая ближняя, в чьем благоухании воистину купалась маленькая Молодая Трава. Это было время, исполненное особенного трепета. Как-то раз некое огромное тело незнакомой формы вдруг накрыло тенью весь цветочный Островок с ладонь; прикосновенье какого-то громадного, жестокого, разветвленного и гладкого орудия смяло и испугало соседние травы, и влажные жалобы сорванных стеблей и листьев, стенания и боль раненых цветов содрогнули и соседей, оставшихся невредимыми. Странное теплое орудие поднялось и удалилось, исполинская тень исчезла, но вместе с нею исчезло и благоухание фиалки, остался лишь влажный запах зелени, и маленькая Молодая Трава, стоило ветру качнуть ее листочки к стебелькам фиалки, почувствовала, что все стебельки оборваны и источают слезы.
– Что это было? – спросила Молодая Трава. – Быть может, это и была гроза, о которой столько разговоров?
– Нет, – ответила Старая Трава. – Это была Рука, Рука Человека, она всегда срывает самые красивые цветы.
– О, какая жестокость! – ужаснулась Молодая Трава. – О, Фиалка, бедная, несчастная!
– Нет, тот, кто цвел и плодоносил, не несчастен! – вздохнула Старая Трава, ибо этой весной ей уже нечего было надеяться зацвести; однако Молодая Трава понапрасну расспрашивала, что такое Плодоношенье, ей сказали, что это не детского ума дело. Между тем и сирень покрылась цветами и разливала столь чудесный аромат, что Молодая Трава не могла надивиться, каким образом проистекает он от этого серьезного, неприятного, грубого куста. На что Старая Трава заметила, что цветение всякого преображает и сводит с ума.
Сирень цвела долго, позднее настала пора дальней акации, и маленькие травы жили в вечном головокружении и томительном ожидании. Сирень стала теперь сплошными лиственными дебрями и затенила Островок с ладонь, так что только в щели меж листьев, в крошечные круглые оконца проникал порхающий солнечный свет; травы поначалу сердились и по привычке ворчали на сирень. Но вскоре наступило время, когда тень стала благодатью, потому что на небе не было ни облачка, солнце немилосердно жгло, не было ни капли дождя, чтобы утолить жажду, и даже росы едва хватало по утрам. По запаху сухих трав, стоящему в воздухе, все понимали, что поодаль, куда не дотягивалась тень, вся их родня засохла на корню.
– Ужасная засуха! – стонали фиалки, которые с тех пор, как лишились цветков, совсем пали духом.
– Самое скверное, – жаловалась Старая Трава, – что ветра ну совсем нет и некому принести к нам животворную пыльцу!
Старая Трава уже совершенно пожухла, в ней едва теплилась жизнь.
Молодая Трава стояла и раздумывала и ужасалась про себя с той поры как поняла, что все цветы вокруг нее ждут жуков; иногда прилетали мотыльки, нагруженные пыльцой далеких цветов, и заменяли собою ветер, но потом и мотыльки угомонились, и только совсем некрасивые жуки, о которых Молодая Трава думала с отвращением, переползали с цветка на цветок, и ей казалось, она умерла бы, если б когда-нибудь такой жук прополз по ней.
Но однако не умерла, хотя попался ей самый безобразный: большой, противный коричнево-зеленый жук по прозванию Вонючий Бенце, потому что его запах можно было учуять издалека, и цветы всегда содрогались, когда он лазал по ним. Бенце напрямик приближался к Молодой Траве, хотя засыхающая Старая Трава изо всех сил манила его остатками своего аромата, но Бенце не был чувствителен к запахам, ибо у самого запахов хватало. Он уже полез по свежему стеблю, и бедная Молодая Трава содрогнулась от нестерпимого отвращения.
IV
Далеко, на противоположном конце сада, посреди великолепного газона, где траву ежедневно изящно причесывали граблями, стоял другой Свежий Стебель, которому можно было цвести только втайне, ибо в этой части сада, перед домом Господ, где положено быть приглаженным и таким же, как все, открыто цвести травам не разрешалось.
С этого Свежего Стебля и перелетел Вонючий Бенце – а он умел и летать – и перенес на себе пыльцу запретного цветка.
Цветы не умеют летать, даже подойти друг к другу не могут и не видят друг друга, потому что у них нет глаз, какие есть у зверей, к тому же, если они растут далеко друг от друга, они и обняться не могут. Но если один цветок обретает пыльцу другого цветка, они все же любят друг друга, хотя и не видя и не обнимая, так как для них это больше, чем видеть и обнимать.
И Молодая Трава в дни любви яснее видела далекий Свежий Стебель, чем ты, читатель, видишь эту страницу; была к нему ближе, чем к тем, кто рос вокруг, потому что чувство близости зависит от того, насколько мы видим и чувствуем другого, и у растений, которые видят и чувствуют иначе, чем мы, и близость совершенно иная. В те дни Молодая Трава была счастлива, и ее переполняла такая любовь, такое упоение, что она совсем позабыла и смердящего Бенце, и страшную жару, и сушь.
V
И вот на окружающий мир легла вдруг пугающая тень, так внезапно, что цветы изумились, куда же делось солнце, и таким душным стал воздух, что даже мысли о свежести не приходили на ум. Когда же подул ветер, грозный ветер, который сначала запорошил их пылью, маленькие цветы и травы засмеялись про себя, уже зная, что будет дальше. У высоких деревьев и кустов был повод дрожать от страха, и в самом деле, акация в отчаянии склонялась из стороны в сторону и выла, словно танцуя бешеный танец: вихрь рвал ей волосы; кусты сирени стенали, и вдруг, прилетев откуда-то, сломанная ветвь проскребла, как метла, по траве и полетела дальше. Но травы только посмеивались, потому что знали: идет Ливень, который будет им только на пользу.
Они весело плескались в сильных искрометных струях.
Об опасности никто и не думал.
Одна лишь Молодая Трава страшилась ливня и ветра – сама не зная почему. Как если бы зародилось в ней нечто, за что нужно было бояться, чувство, что, если сломит ее ветром, все вдруг лишится смысла, напрасной окажется целая жизнь, все страданье, все счастье. Она униженно кланялась порывам ветра, совсем не так, как прочие, которые так радовались драгоценным каплям небесной влаги, что не пожалели бы даже, если бы их веточки поломало или же ветром унесло пушинки; счастливые полегали они под влажной тяжестью, чтобы потом еще более гордо и блистательно поднять кверху головы.
VI
В Воздухе плыла пушинка, белая пушинка одуванчика; все вокруг было свежим и вновь живым, и травы, чьих стебельков касалась Пушинка, проскальзывая мимо, весело и с любопытством расспрашивали ее.
– Я несу семечко! – отвечала Пушинка, – я пережила много невзгод и многое испытала, пока долетела сюда. В городе я упала на мостовую, где сплошь были камни, на большем пространстве, чем нужно для корней самого огромного дерева: в сто раз, в тысячу раз большем.
– Это должно быть ужасно! – ахали травы, думая о камне, лежащем у ствола сирени, который был величиною всего лишь с лежащую рядом с ним гроздь сирени, сорванную весенней грозой.
– Как я рада, что добралась сюда: прошу вас, дайте мне местечко, где б я могла поселиться! – продолжала Пушинка.
Но травы опасались, что она заставит их потесниться и отнимет пропитание, и веточками держали ее на весу, чтобы не упала на землю. Лишь Молодая Трава была милосердна, потому что думала о своих семенах, которые вскоре облетят с ее стебля… и мягко спустила Пушинку по своей длинной и гладкой травинке.
VII
Дни маленькой Молодой Травы проходили в страхе.
Какой-то ужасно тяжелый и шершавый Предмет, сильно ударившись, упал рядом с нею: это был мяч, который ребенок, играя на дворе, нечаянно перебросил в сад. Он чуть было не разбил сокровище, которое так берегла Молодая Трава. И еще она дрожала от страха, когда потянулась к ней Рука Ребенка, искавшего мяч.
В другой раз прибежал Цыпленок и острым твердым клювом склевал семена нескольких трав. А потом пришла еще большая опасность: раскрытая пасть, страшные зубы, совсем близко, на которых бедные травы хрустели и сминались в такое клейкое месиво, какого не сотворить никакой грозе.
– Кролик! – шептались перепуганные травы.
Но Молодая Трава пережила и это. Однако однажды пришел и ее час, час, который принес жестокую гибель всему Островку с ладонь. Привезли дрова. Телега свернула во двор, жестокие железные подковы топтали траву, и одно колесо проехало как раз через Островок с ладонь возле куста сирени, ломая сильные и гибкие ветки. Страшным, ужасным было опустошение, причиненное им: колея пролегла от коричневого ствола до лежащего в траве камня и накрепко, как железным катком, утрамбовала весь островок, и даже останки разметанной травы едва виднелись, глубоко вмятые в сухую почву. До грядущей весны не будет здесь больше жизни, потому что плыли уже в воздухе слюдяные нити Осени.
Молодая Трава тоже погибла, но она уже не жалела о своей гибели, ибо в последний миг осуществилось ее страстное желание. Прежде, чем накатился железный обод безжалостного колеса, ее задело лошадиное копыто, тряхнув ее реющую в воздухе головку, и семена улетели, уносимые ветерком.
И этих семян было достаточно, чтобы на будущий год, и после, и после зазеленело еще много-много таких маленьких Островков с ладонь.
Перевод Р. Бухараева.