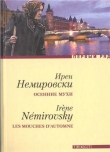Текст книги "Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы"
Автор книги: Михай Бабич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы
«ПОЭТ, КОТОРЫЙ МУЧАЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ»
О творчестве Михая Бабича
Отдельным изданием произведения Михая Бабича выходят на русском языке впервые. Эта книга позволит читателям познакомиться с художником слова, которого по праву считают классиком венгерской литературы XX века и о котором, тем не менее, как ни о каком другом венгерском писателе нашего столетия, его соотечественники высказывали столько противоположных, взаимоисключающих суждений. О Бабиче говорилось: «великий человек и великий поэт» (это сказал о нем замечательный его современник поэт Эндре Ади еще в 1909 году), «мастер мирового масштаба, масштаба тысячелетия», но в его адрес звучали и такого рода уничижительные слова: «автор стихов, отшлифованных на токарном станке», «школяр-филолог».
Если вслушаться в голоса современников, то можно заметить, что они совершенно по-разному судили не только о значительности дарования Бабича, но и о самом характере его таланта.
Одни видели в Бабиче поэта-новатора, который уже в первых своих поэтических сборниках взорвал провинциальную рутину венгерской литературы, обогатил ее мелодиями и красками других, великих культур, смело выступил во время первой мировой войны против милитаризма и выразил тем самым мечту народа о мире; видели в нем поэта, чуть ли не в одиночку отстаивавшего в период контрреволюции и в годы становления фашизма гуманистические идеалы и духовные ценности, а в зрелом творчестве окончательно перешедшего на позиции активного гуманизма.
Другим Бабич представлялся поэтом замкнутым, надменным, сверхинтеллектуальным, с раздражением отвергшим идею социальной ангажированности искусства и благодаря своему литературному авторитету увлекшим за собой в «башню из слоновой кости» целое поколение писателей; поэтом, обратившимся в конце жизни к католицизму, к богу.
Каждый из этих портретов в своей логической выстроенности и одномерности дает какое-то представление о сложной фигуре Бабича. Но объективный, правдивый образ художника может сложиться только из синтеза многих противоречивых его черт. Оценки творчества Бабича, суждения о нем, возможно, потому часто взаимоисключают друг друга, что противоречивость, «мучение раздвоенностью», как определил это свойство Бабича его современник, писатель Ф. Каринти, составляет главный нерв его творческой личности. Противоречивость – свойство его характера, в котором соединились застенчивая скромность и болезненное самолюбие, аскетичная строгость и эллинская жизнерадостность, но это и особенность его мировоззрения, в основе которого – склонность к сомнению, ибо сомнение Бабич считал своим долгом, долгом мыслителя, художника.
Еще в юношеские годы в одной из своих статей Бабич писал, что основное в биографии художника – его произведение. Главное – не творец, а творение. «Не певец рождает песню, а песня рождает певца…», и тем не менее в своих эссе, критических статьях, посвященных многим мастерам слова, Бабич напряженно, страстно ищет за текстом, за идеей – творца. Попытаемся и мы увидеть, понять творца, автора представленных в этой книге произведений, попытаемся проследить его непростой путь в жизни и искусстве.
Родился Бабич в 1883 году в маленьком провинциальном городе Сексарде в семье трибунального судьи. Свои ранние, детские годы он потом вспоминал как «счастливое, доисторическое время»:
«Жизнь иногда странным образом затихает и замирает на этой венгерской планете. Вот и тогда она странно затихла – особенно в духовной сфере, – хотя с виду шла как обычно: люди играли в карты, пили, ходили в гости, рассуждали о политике, но ничего в этой жизни не менялось, – и так год за годом».
Происхождение, воспитание, семейное окружение – все это, казалось, однозначно предопределяло будущую судьбу молодого человека, конформизм и охранительную направленность его взглядов. «Мне была уготована участь семьянина и чиновника», – писал он сам. Родители мечтали о карьере юриста. Но страстное увлечение литературой иначе распорядилось его судьбой.
После окончания цистерцианской гимназии в 1901 году Бабич поступает на филологический факультет Будапештского университета. Здесь он учится сначала по специальности французский язык и литература, а затем – венгерская и латинская словесность. Занимается он с огромным усердием, помимо латыни и греческого, осваивает английский, французский, немецкий, итальянский языки. Печатает в журналах рецензии на философские труды, много переводит, пишет стихи. В 1904 году журнал «Уй сазад» («Новый век») публикует первое его стихотворение. В эти же годы Бабич посещает семинар по стилистике известного профессора университета Ласло Недеши. Там он знакомится с будущими своими коллегами, друзьями, с молодыми поэтами Д. Костолани, Д. Юхасом, А. Тотом, писателем Б. Балажем, писателем и музыковедом Г. Чатом, композитором З. Кодаем, литературоведом Я. Хорватом.
Семинар Л. Недеши сложился в тот исторический момент, когда возрождение национальной литературы стало неотложной задачей. Постоянная конкуренция с австрийской столицей в рамках Австро-Венгерской монархии требовала активизации культурной жизни страны. Будапешт состязался с Веной за статус первой столицы, а для этого нужно было, прежде всего, преодолеть отсталость, псевдонародное эпигонство тогдашней литературы. Общая цель сплотила и объединила молодых литераторов – участников семинара Недеши. Бабич писал:
«Мы сознательно выдвинули нашей задачей обогащение литературы. Мы хотели сделать ее полнокровнее, современнее, содержательнее. Несмотря на нашу молодость, мы совершенно отчетливо представляли себе нашу цель».
И еще одну, поистине революционную задачу ставили перед собой молодые филологи: «повернуться лицом к западу» («На устах лохматых молодых «западников» трепетали имена Бодлера и Верлена, По и Суинберна, Малларме и Рильке», – писал Бабич в автобиографическом сборнике «Вдоль и поперек моей жизни»). Для Венгрии той поры это был не только лозунг революционного развития литературы, но и революционного, прогрессивного развития общества: ведь официальные круги отвергали западный путь развития и, стремясь уберечь от потрясений феодальный уклад в стране, провозглашали и отстаивали для Венгрии идею «особого пути». Пройдет всего несколько лет, и талантливые молодые писатели, верные своему лозунгу, соберутся вновь и объединятся вокруг журнала «Нюгат» («Запад»), который на протяжении трех десятилетий будет оставаться самым передовым и авторитетным журналом в стране, который будет во многом определять лицо венгерской литературы.
Итак, в начале XX века на литературную арену выходит принципиально новое поколение писателей, писателей-филологов, отчетливо сознающих свою задачу – свершение в стране «литературной» революции. К этому поколению принадлежал и Михай Бабич.
Окончив университет, он на шесть лет уезжает из столицы, преподает в провинциальных гимназиях, но литературную деятельность не прекращает. После публикации в 1908 году в антологии «Холнап» («Завтра») нескольких его стихотворений редактор только что созданного журнала «Нюгат» обращает внимание на молодого поэта, и Бабич начинает активно сотрудничать в журнале.
Эти годы – «артистический» период в творчестве Бабича, период сознательного следования идее «чистого искусства». Он занял эту позицию, стремясь противостоять бездуховности, застойности, провинциальности Венгрии тех лет, это был «открытый мятеж» молодого поэта против традиционно-привычного уклада мелко– и среднепоместного дворянства – джентри.
«Я не пил, не охотился и не занимался политикой, – вспоминая позднее о первых годах своей литературной деятельности, писал он, – что уже само по себе выглядело революционно в Венгрии, так как даже поэзию здесь терпели и разрешали только ради политики. Меня стали считать плохим патриотом».
Было бы неверно, однако, представлять молодого Бабича художником абсолютно отстраненным, пассивным и индифферентным к общественной жизни.
«Я не говорил о политике, так как не считал политику делом важным, – вновь обращаясь к своей юности, писал Бабич, – но когда во время войны понял, что это все-таки важно, то заявил об этом во весь голос».
Уже в стихотворении 1915 года «Я играл с ее рукой», написанном, как гимн любви и красоте, слышится протест против жестокой, кровавой бойни. Не случайно последняя строфа стихотворения:
я бы с большей радостью пролил
свою бурлящую кровь за ее маленький пальчик,
чем за сотню королей, чем за знамя! —
была воспринята в консервативной прессе не как поэтический, а как политический манифест. Против Бабича начали «крестовый поход»; поэта обвинили в непатриотичности, лишили права преподавания и места учителя (позднее право преподавания было ему возвращено).
В 1916 году Бабич уже открыто выступил против милитаристского курса своего правительства, против господствовавших в венгерской прессе шовинистических настроений и осмелился произнести вслух слово: «Довольно!» Его стихотворение «Перед пасхой» вызвало новую волну обвинений.
Еще отчаяннее, еще сильнее прозвучал его протест против войны в стихотворении «Fortissimo» (1917). Поэт бросил вызов самому богу, обвинив его в глухоте к человеческим страданиям, в жестокости и несправедливости. Весь тираж номера «Нюгата», где опубликовано «Fortissimo», был конфискован, а самого поэта привлекли к судебной ответственности, обвинив в богохульстве.
Трагедия Бабича заключается не в том, что он был в оппозиции к господствующей идеологии, политике, а в том, что, в силу противоречивости своих взглядов, он был вынужден, как признался сам в стихотворении, адресованном Эндре Ади, «сражаться на два фронта». Принадлежность по рождению к среднему феодальному сословию, привитая с детства вера в спасительность католического вероучения постоянно влекли его к правому, консервативному крылу венгерского общества. Разносторонняя, «европейская» образованность и современный взгляд на литературу и искусство, новаторское литературное творчество определили его тягу к левому, революционному крылу. Этой мучительной раздвоенности, этой борьбе старого и нового в человеческой душе посвящен во многом автобиографический роман-эпопея «Сыны смерти» (1927), рассказывающий о детских и юношеских годах писателя.
Смятение души и раздвоенность общественных симпатий Бабича еще отчетливее проявились в период революционных бурь 1918—1919 годов. Буржуазно-демократическую революцию, во главе которой стоял граф Михай Каройи (октябрь 1918 года), Бабич с воодушевлением приветствовал в передовой статье очередного номера «Нюгата». С надеждой встретил он и пролетарскую революцию (март 1919 года), от которой ждал установления полного и вечного мира. Назначенный в начале 1919 года на должность профессора кафедры литературы Будапештского университета, он продолжает занимать ее и после провозглашения Венгерской Советской Республики, что позднее было расценено как сотрудничество с «диктатурой». Поэтому после падения Венгерской Советской Республики удары обрушились на Бабича с двух сторон. За сотрудничество с Советами ему снова запретили преподавать и лишили учительского пособия, над ним нависла угроза тюрьмы, и, хотя ареста удалось избежать, Бабич должен был регулярно являться в полицейский участок. Резким нападкам подвергся он и со стороны левого крыла, так как, надломленный контрреволюционными репрессиями, в статье «Венгерский поэт в 1919 году» он отвернулся от революции, обвинил ее в жестокости, насилии, напрасном кровопролитии.
Литературная деятельность Бабича в эти годы ограничивается в основном художественным переводом, и только с 1921 года он вновь начинает регулярно публиковать свои стихи, новеллы, эссе, выходят в свет четыре его романа. В последние два десятилетия своей жизни Бабич приобретает огромный литературный авторитет. По признанию одного из его современников, «с 1920-го по 1945 год не было в Венгрии более влиятельного и почитаемого поэта, чем Бабич». В 1927 году по завещанию критика и писателя Ф. Баумгартена Бабич был назначен куратором литературной премии, которая в течение двух десятилетий оставалась самой высокой литературной наградой в стране. В 1933 году стал главным редактором журнала «Нюгат». В 1940 году его избирают членом Венгерской академии наук, и в этом же году он получает премию Сан-Ремо за перевод «Божественной комедии» Данте.
В-тридцатые годы, когда над миром нависла угроза нового варварства, новой войны – угроза фашизма, в творчестве Бабича вновь усиливаются гражданские, гуманистические мотивы. В 1934 году в журнале «Нюгат» по инициативе Бабича была опубликована анкета: «Что должен сделать писатель, чтобы предотвратить войну?» В 1936 году вышел в свет его монументальный труд «История европейской литературы». Но для Бабича это была не просто и не только «история литературы» – он ставил перед собой и другую, высокогражданственную цель: восстановить в мире, раздираемом национализмом и шовинизмом, «святую связь», напомнить Европе о ее духовном родстве, о духовном единстве европейских культур и народов. Во вступительной статье к своей книге Бабич отметил:
«Писание истории мировой литературы никогда не было так не ко времени. Но никогда не было и так актуально».
В стремлении обрести идею, способную противостоять теории расового превосходства, Бабич все чаще обращается к католицизму, он верил, что католическое вероучение могло бы стать основой примирения наций и народов. В этот период гуманизм в его мировосприятии соединяется с католицизмом, с христианской моралью.
В последнем своем произведении, в поэме «Книга Ионы» (1938), Бабич вновь обратился к людям с призывом противостоять злу и варварству, он не мог молчать: «тот, кто молчит, – сообщник преступников», писал он в своей поэме. Это произведение, созданное уже смертельно больным поэтом (у него был рак горла), является документом человеческого мужества и стойкости.
Современный прозаик, поэт и критик Л. Бока имел все основания оказать:
«Тем, что мы не стали фашистами, что нас приводит в ужас всякая вульгаризация, что мы стали требовательными к себе социалистами-гуманистами, мы обязаны также и Михаю Бабичу».
Последние годы жизни Бабича были очень тяжелыми: он окончательно потерял голос и мог беседовать с друзьями, коллегами и родными только с помощью «разговорных тетрадей».
Умер Бабич 4 августа 1941 года от рака горла, в Будапеште, в санатории «Сиеста». «Умер один из королей современности», – написал на следующий день в газете Лёринц Сабо, поэт и ученик Бабича.
Бабич безусловно был духовным вождем своего времени, одним из вдохновителей и руководителей той «литературной» революции, которая была осуществлена «нюгатцами», ее деятельным участником и вершителем. Два имени символизируют собой венгерскую литературу начала века: Эндре Ади и Михай Бабич. Творчество Ади всколыхнуло все общество, взбудоражило все сферы его духовной и политической жизни, Ади принес в литературу новые темы, новое содержание. Революционное воздействие творчества Бабича было иного плана. Если Ади, как писал венгерский поэт Арпад Тот, «принес новое вино», то Бабич – «новую бутыль», новую форму. Бабич сумел найти новые формы для выражения нового духовного содержания эпохи, обновил литературный язык, реформировал синтаксис венгерской фразы. В своем творчестве – по замечанию одного из современников – Бабич «создал венгерский синтез европейской духовной культуры XX века», то есть привил венгерской литературе лучшие достижения литературы европейской, открыл для нее новые пути и возможности. Отмечая огромное влияние Бабича на всю последующую венгерскую литературу, наша современница, венгерский поэт и критик Агнеш Немеш Надь, писала:
«Михай Бабич – одна из главных вершин великой горной гряды «Нюгат», водораздельной гряды, которая поднялась в венгерской литературе в начале века, именно с этого времени реки потекли уже по иным направлениям. Возможно, большинство рек берет свое начало на вершине по имени Бабич».
Творческое наследие Бабича многогранно: поэзия, проза, драматические произведения, исследования по истории литературы, эссеистика, публицистика, литературная критика, художественные переводы с греческого, латыни, немецкого, французского, английского, итальянского языков (в частности, непревзойденные до сих пор переводы «Божественной комедии» Данте, стихотворений и новелл Э. По и др.).
Классическим определением творческой личности Бабича в венгерском литературоведении стала формула «poeta doctus», «поэт-ученый». Она подразумевает широту литературных интересов Бабича, глубину познаний, внимательное изучение философии и психологии. Проникнуть в суть этой формулы помогает лирическое признание самого поэта:
Если бы ты заглянул в мою комнату, современный человек,
ты бы увидел маленькую свечку, слепящий огонь,
лежащую передо мной книгу
и в книге округлые старинные греческие буквы.
Если бы ты заглянул в мое сердце (но ты не заглянешь),
ты бы увидел, как очаровано оно древними временами.
И если бы ты проник в мое воображение (но ты не проникнешь),
ты бы увидел просторы… из «Одиссеи»…
(Неоконченное стихотворение «Пейзаж из «Одиссеи», 1909—1910).
В этой очарованности книгой, литературой, в ориентации на высокую духовную культуру заключается несомненно основная, определяющая черта творческой личности Бабича. Тонкое, прочувствованное знание других культур, обостренная восприимчивость к различным стилям, удивительно бережное обращение с ними сделало его творчество уникальным, неповторимым, а насыщенность его произведений античными, библейскими образами и мотивами, реминисценциями и литературными ассоциациями придала им глубину и многозначность.
При всем своеобразии творчество Бабича было знамением времени. В программной книжности был явственно ощутим дух новой эпохи. Подобную пору переживала в начале века и русская литература. Заведомая «книжность», установка на стилизацию, на воспроизведение «чужого слова», «широта традиций» (как писал Ю. Тынянов) отличали поэзию и прозу В. Брюсова. А. Белый заявлял: «Мы переживаем ныне в искусстве все века и все науки». О «тоске по мировой культуре» говорил и О. Мандельштам.
«Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, то есть собирателями, – писал Мандельштам в 1922 году в статье «Литературная Москва». – Я думаю, это – не в обиду, это – хорошо. Всякий настоящий прозаик – именно эклектик, собиратель».
Таким «собирателем» различных культур, различных стилей был в своем творчестве и Михай Бабич. Стилизация в произведениях Бабича – это не просто воспроизведение старого, это способ постижения нового через старое. Заимствованные, пропущенные сквозь оригинальную мысль автора чисто формальные приемы различных литературных школ и направлений становятся средством создания глубоко индивидуального художественного мира. Различные стили различных эпох представляют собой в творчестве Бабича не механическое соединение разнородных художественных принципов, художественных элементов, а совершенно особый, органический «сплав». Силой, цементирующей этот «сплав стилей», является личность поэта, его поэтическое кредо. Вот почему в формуле «поэт-ученый» главным для характеристики Бабича является слово «поэт».
И в стихах, и в прозе Бабич был поэтом, философом, исследующим глубинные вопросы жизни, скрытую, таинственную суть человеческого существования. А. Немеш Надь так определила болевой центр его творчества:
«Бабич мучается не политикой, не национальными, интернациональными или социальными вопросами, он мучается не любовью, не зубами, не ушами. Бабич – тот поэт, который мучается человеческим существованием, экзистенцией».
Суть человеческого существования «поэт-ученый» стремится постичь одновременно разумом, как «ученый», и интуитивно, как «поэт». Произведения его возникают как бы из соприкосновения разума и интуиции, на «пограничной черте науки и веры» (если воспользоваться словами русского символиста Д. Мережковского). Такой способ отображения жизни связывает творчество Бабича с эстетикой символизма.
За текстом его произведений, освещенным «светом разума», всегда стоит какая-то загадка, тайна жизни, которая не выразима в слове до конца. Известный исследователь Бабича Аладар Шепфлин писал, что «нет ничего проще, чем пересказать фабулу его новеллы, но невозможно трезво, логично пересказать ее смысл». Этот «недоступный логике смысл» часто передается у Бабича, как и у символистов, неисчерпаемо многозначными образами, символами.
Творческому кредо Бабича была созвучна и символистская теория красоты. Красота в представлениях символистов составляет глубинную сущность мира, его высшую ценность и преобразующую силу бытия. В одном из писем, адресованных поэту и писателю Д. Костолани, Бабич сравнивает себя с «промывателем золота», который ищет «спящие образы на дне, в глубине человеческой души». Он пишет, что никогда не согласится с теми, кто утверждает, что «там – в глубине – одна грязь» и «никаких сокровищ нет». Не случайно в стихах Бабича часто возникает образ водолаза, исследующего глубины моря в поисках затонувших сокровищ.
В своем творчестве Бабич до конца оставался сторонником теории верховности, самоцельности искусства, но красота не была для него категорией абсолютно отвлеченной, безразличной к правде и добру. Он был в литературе «homo moralis», «человеком моральным», борющимся за добро, выносящим приговор злу. В «башне из слоновой кости» он не искал защиты от насущных, горячих проблем жизни. Его «башня из слоновой кости» служила оборонительным бастионом, складом духовных ценностей, культурных сокровищ. Он не отгораживался от жизни, но судил мир с позиции культуры, с позиций гуманизма и духовности. Недаром сам он полушутя-полусерьезно писал:
«Я был сыном судьи, и правосудие было у меня в крови».
В искусстве Бабича всегда присутствует «этический инстинкт», борьбу с любыми проявлениями варварства, бесчеловечности, жестокости он считал своим моральным долгом. Моральная основа литературы сближала ее в понимании Бабича с католицизмом и позволяла ему ощущать себя «поэтом католическим». Но его приверженность к религии всегда была неотделима от высоких нравственных принципов, поэтому ни поэзию, ни прозу Бабича нельзя назвать религиозной в традиционном смысле.
Литературное наследие Бабича-прозаика составляют четыре романа, две повести и пять сборников новелл. Говоря о своеобразии крупных прозаических произведений Бабича, его ученик и впоследствии известный поэт Дюла Ийеш писал:
«Они не состоят друг с другом в том же тесном родстве, как его стихи. Каждое из них – особый стилевой поиск, особая манера, диктуемая объектом изображения».
О Бабиче-прозаике справедливо будет сказать, что талант его обладает свойством Протея: писатель как бы постоянно меняет облик, голос, но и остается при этом самим собой.
Повести «Калиф-аист» и «Розовый сад» демонстрируют это разнообразие «большой» прозы Бабича.
«Калиф-аист» (1916) – первая и, может быть, лучшая повесть Бабича, она обнажает самую сущность его творческой личности: «мучение раздвоенностью».
«Ужасный, постоянно продолжающийся сон мучил меня все мое детство, – признавался Бабич в интервью 1923 года. – Это был словно символ всей моей жизни, а может быть, и жизни всякого поэта, которая внешне течет очень гладко – и мучается поэт лишь в своих снах».
В «Калифе-аисте» «поэт-ученый» совершает новое путешествие на окраины человеческого сознания. Эта повесть – плод исследовательской любознательности Бабича, воплощение в художественной форме его увлеченности проблемами гносеологии. В повести сказалось влияние самых современных для того времени научных и философских теорий: философской теории А. Бергсона о природе памяти и его концепции сновидений, а также психоаналитического метода З. Фрейда.
Научный тезис о релятивности сна и жизни разворачивается здесь в фантастический сюжет. Сознание главного героя Элемера Табори раздваивается; он живет попеременно двумя жизнями: жизнью богатого, способного молодого человека – наяву и жизнью жалкого, забитого, нищего писца – во сне. События в его снах столь последовательны и логичны, что мир снов постепенно становится для героя так же реален, как и мир яви. Конец этой мучительной раздвоенности кладет самоубийство второго «я» – героя из сна. Наутро – уже в реальной жизни – Элемера находят мертвым, с простреленным лбом, хотя оружия в комнате не было.
Бабич-художник трактует феномен сновидений несомненно иначе и в определенном смысле шире, чем Фрейд-ученый. Известный постулат, гласящий, что даже в самой чистой душе таятся пороки и низменные инстинкты, рассматривается Бабичем не столько как психоаналитическая проблема, сколько как нравственная.
И все же проблема раздвоенности сознания героя не сводится в повести лишь к нравственному суду над личностью. Два разных «я» героя постоянно, как бы сквозь туман, ощущают друг друга. Все события повести совершаются по сути в одном, хотя и не едином сознании, в сознании одной личности, как бы парящей между сном и явью. В этой фантастической истории одна душа познает себя в двух различных физических существованиях. Предельно разводит два «я» героя их социальное неравенство, социальный антагонизм. Поэтому проблема двойственности личности, проблема двух возможных реализаций своего «я» обретает в повести и социальную окраску.
Повесть «Калиф-аист» тесно связана не только с философскими теориями, но и со многими произведениями мировой литературы. Название повести восходит к известному сюжету из сказок «Тысячи и одной ночи». Сама повесть дает современное решение традиционно-романтической темы двойничества; во многом перекликается с «Шагреневой кожей» Бальзака, с «Портретом Дориана Грея» Уайльда, с произведениями бельгийского символиста Роденбаха. Но здесь, как и в других произведениях, Бабич не подражает вершинам мировой литературы, а «завоевывает» (Д. Ийеш) для венгерского искусства новые стили.
Венгерскими читателями, современниками Бабича, роман был воспринят как произведение новаторское. Стилевое своеобразие романа они видели в ироничности тона повествования (несколько утраченной венгерским романом в тот период) и в импрессионистичности многих картин и зарисовок.
Повесть «Розовый сад» (1937), самое позднее из «большой» прозы Бабича, – произведение совершенно отличное от «Калифа-аиста». Это повесть-анекдот, в основе которой лежит пикантная и довольно банальная история: отчаянные попытки заманить жениха в «супружеский» плен и бегство его из-под венца. Автор не интригует читателя и уже на первой странице сообщает ему финал истории. Повествование ведется бесхитростно, с какой-то особой доверительностью и непринужденностью. Бабич, часто усложненный, интеллектуальный художник, здесь «эстетически разоружается». Но у этого эстетически «безоружного» произведения есть все же одно свойство, которым оно пленяет и завораживает читателя, – это его юмор.
Большинству произведений Бабича, в том числе и повести «Калиф-аист», присуща ироничность, которая предполагает некоторую сдержанную отстраненность автора. «Розовый сад» – пожалуй, единственное произведение Бабича, в котором властвует стихия юмора. Юмор в повести Бабича – это способ видения мира, взгляд человека, умудренного жизнью, на драмы своей молодости, приятельская насмешка над нескладным героем и легкая грусть из-за его одиночества. Явное сочувствие автора своему незадачливому герою, желание оправдать этого чудака, одновременно «смешного и грустного», придает повести активно гуманистическое звучание, определяющее тон его произведений тридцатых годов.
В этой повести четко проявляется и другая отличительная черта зрелого, активно гуманистического творчества Бабича – полное слияние, совмещение эстетического и этического идеалов. Если в ранний, «артистический» период красота иногда понималась писателем как абстрактное, отвлеченное понятие и не была ни доброй, ни злой (как прекрасный сад в повести «Калиф-аист»), то в этой повести красота и добро неотделимы друг от друга, неприятие злой красоты становится одним из основных ее мотивов. Букет роз входит в судьбы героев «враждебно, агрессивно», красота цветов оказывается губительной для людей, а прекрасный розовый сад превращается в символ недоброй силы.
Повести «Калиф-аист» и «Розовый сад» позволяют говорить об автобиографичности крупных прозаических произведений Бабича. В фантастической повести «Калиф-аист» узнаваемы и место действия, и прототипы персонажей. Повесть «Розовый сад» – это превращенный в забавную историю случай из жизни Бабича-гимназиста, который был направлен на преподавательскую практику в маленький провинциальный городок Байя. И розовый сад тоже существовал в действительности.
В новеллах в меньшей степени, чем в крупных прозаических произведениях, присутствует автобиографический элемент, но тем не менее те этапы творчества, через которые прошел Бабич, поэт и прозаик, отчетливо в них прослеживаются, определяют их жанровое своеобразие.
В ранний период творчества (1907—1916) поэт ощущает себя в гордом одиночестве, погружается в мир «классических грез». В своих ранних новеллах он не изображает конкретной, реальной жизни, тем более повседневности. События в них разворачиваются на мифологических просторах («Мифология», «Одиссей и сирены», «Ангел»), в средневековом городе («Сюжет из «Декамерона»), в рыцарском замке («Рождественская мадонна»). Каждая ранняя новелла – это опыт вживания в определенную культурную среду, в определенную историческую эпоху с тем, чтобы постичь тайну жизни, тайну существования.
Новелла «Одиссей и сирены» (1916) – интересный пример стилизации под миф. Бабич заимствует внешнюю канву мифа, но наполняет новым, современным содержанием, «счищая пыль и ржавчину с античных пластов», как написал о нем венгерский исследователь И. Туроци-Тростлер. Миф об Одиссее писатель стремится прочесть как «лирическую новеллу» о вечной неудовлетворенности, неуспокоенности человеческой души.
Символом жажды неизведанного, «страсти, подобной ветру», становится в новелле пение сирен. Но пение сирен это еще и «смертельный, сладостный звук», символ смерти, которая «манит в обличье красоты». Странствование Одиссея при таком прочтении воспринимается как аллегория человеческой жизни. Песня сирен выражает у Бабича также и вечное стремление человека к свободе, к абсолютной свободе от всяких пут, мешающих ему постигать красоту.
Звучание новеллы не пессимистично, не безысходно. Душа человека «мучается несовершенством», но эта мука рождает и высшую цель человеческого существования: «знать и видеть все», достичь совершенства.