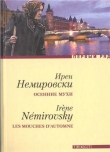Текст книги "Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы"
Автор книги: Михай Бабич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Новелла «Рождественская мадонна» (1909) представляет собой стилизацию под христианский миф. Чудесное явление девы Марии с Иисусом на руках – не безусловная реальность, все это могло быть сном или плодом больного воображения, захмелевшего ума.
Главным объектом исследования в этой новелле, как и в рассказе «Одиссей и сирены», становится стремление героя познать тайну, желание увидеть… такая ли она, дева Мария, на самом деле, как ее рисуют. Стремление рыцаря Артура к познанию греховно, так как он не боится бога, и свято, так как открывает путь к истине. Эту «романтическую новеллу» – жанр ее определил сам автор – можно прочесть и как притчу о «посрамленной гордыне» человека, и как своеобразное обыгрывание «фаустовской» темы: герой, как бы поддавшись искушению дьявола познать тайну, платит за нее жизнью.
«Сюжет из «Декамерона» представляет собой уже «опыт вживания» в произведение литературы. Внешне эта новелла повторяет одну из историй, рассказанных Боккаччо, но в ней отчетливо звучит иная, новая мысль. Скелеты старых боккаччевских образов обрастают здесь новой плотью, обретают другое эмоциональное звучание. К подобному художественному приему – использованию традиционных литературных образов – прибегали и многие русские художники, современники Бабича: В. Брюсов, И. Анненский или, например, А. Блок, о котором Ю. Тынянов писал, что «он предпочитал традиционные, даже стертые образы… ибо новизна обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторону предметности».
В истории литературы немало примеров, когда старые сюжеты перетолковывались в пародийном ключе – от возвышенного до смешного один шаг. Бабич же хочет превратить смешное и пародийное в возвышенное. Если Боккаччо весело смеется над вероломством священника, над наивностью глупой женщины, то Бабич пытается мотивировать поступки своих героев, найти им психологическое объяснение. За внешней оболочкой событий художник открывает мир истинных чувств героев, в «водолазных глубинах» их душ отыскивает «золотые сокровища». Его Мадонна Лизетта была «святой», ибо несла в себе два самых сильных чувства, «какие только могут жить в душе человека: веру и любовь». Морализаторская трактовка сатирической боккаччевской новеллы у Бабича неожиданна и оригинальна.
В 1916 году со стихотворения «Перед пасхой» в творчестве Бабича наступает перелом. Война, грозящая стране катастрофа заставили его покинуть «башню из слоновой кости», выйти из уединения, очнуться от «очарованности книгой» и обратиться к реальной жизни, искать путь к спасению мира, нации.
Жанр написанных в эти годы (1916—1920) новелл сам Бабич определил термином «сказка». Казалось бы, что может быть дальше от конкретных, насущных проблем жизни, чем сказки о феях, рождественских чудесах, о насекомых или растениях, но именно в жанре сказки наиболее полно отразилось мироощущение автора тех лет. Он обращается к реальным проблемам жизни и в то же время отвергает те жестокие и бессмысленные законы, на которых реальный мир строится, которые заставляют людей идти на кровавую бойню, убивать, страдать. Новеллы этого периода, с одной стороны, насыщены очень конкретными, венгерскими реалиями, с другой стороны, противопоставляют злому миру мир чудесным образом преображенный, мир сказки.
Война становится главной темой новеллы-сказки «Моряк Джонни», написанной в 1923 году; в ней звучит отчаянный протест против преступной войны, унесшей миллионы жизней, но надежды, что в человеке проснется человеческое, у Бабича уже нет. Поэтому мечта о добре и красоте, о прекрасном мире воплощается в форме волшебной сказки. Красота и добро существуют, «Добрые и Прекрасные» морские феи плавают далеко в открытом море, «в прохладных и чистых водах», но человеческий мир отталкивает их «нечистым запахом пота и густым перегаром». Они приближаются к людям, чтобы спасти и успокоить их, – но только после их смерти. Красота, которая в эстетической концепции Бабича всегда составляла тайную сущность мира, в этот период его творчества впервые соединяется с категориями Добра и Правды. Но в мире, где человек, это «глупое животное», всю жизнь «охотится на себе подобных и истребляет их», нет места Добру и Правде, а следовательно, и Красоте.
«Островок с ладонь» (1923) – зарисовка из жизни маленькой полянки, заросшей травой. Хотя в основе своеобразного художественного мира этой новеллы лежит не сказочная фантастика, а скорее идеалистическое представление о всеобщей одушевленности природы, идея панпсихизма, эта новелла все же – сказка, и, как всякая традиционная сказка о животных или растениях, она рассказывает о людях.
Мир травинок противопоставлен другому, присутствующему подспудно, несовершенному миру человеческих отношений.
«В этой новелле нет ни одного дисгармонирующего слова, – писал венгерский литературовед Аладар Тот, – но мы все же чувствуем, что эта дисгармония существует где-то рядом…»
Мир, в котором живут травинки, удивительно гармоничен, и только там, куда вторгается рука человека, ощущается боль: умирают, «источая слезы», самые красивые цветы, земля сплошь превращается в камень, устанавливаются бессмысленные законы, по которым перед господским домом травинкам «положено быть приглаженными и такими же, как все» и «открыто цвести травам не разрешалось».
Растения, интуитивно ощущая целостность мира, чувствуя таинственную взаимосвязь всего живущего на земле, находятся ближе к «душе мира», чем человек: «они из глубины слышат биение сердца Земли и чувствуют тепло ее груди», «вступают в хор далекой надземной жизни», «и упиваются дуновениями целого мира, и свой голос подают в безграничной Вселенной». Слияние с природой, растворение в ней приближает человека к истинному знанию о мире, следование ее мудрым и добрым законам освободит человека от жестокой власти прагматического разума, от варварской страсти уничтожения себе подобных и всего живого – эта главная, гуманистическая мысль новеллы звучит актуально и в наши дни.
Новеллы «Тень башни», «Дёрдь-дровосек», «Старость Александра Великого», «Озеро в горах», «Две фантазии» и др. открывают еще одну, совершенно особенную грань дарования Бабича. Эти новеллы были созданы в 20-х – начале 30-х годов. Как и новеллы-сказки, они тоже являются откликом на реальные, жизненные трагедии, на войну, на поражение двух венгерских революций. Но если в новеллах-сказках обычно совмещались, налагались друг на друга два различных плана: реальный и сказочный – и если сказка вторгалась в реальный мир, конфликты его устранялись каким-то чудодейственным образом, то в новеллах 20-х – 30-х годов эти два разных плана органично слиты в одну особую форму отображения мира – фантастику.
Фантастика поздних новелл Бабича напоминает фантастику Э. По, «материальную» (по слову Достоевского), «неумолимо логичную, математически точную» (по определению Бабича). Повествование в них отличается правдоподобием, выверенностью деталей, логической обоснованностью, внешней бесстрастностью тона, но каждая из них тем не менее несет в себе и еще что-то помимо правдоподобия.
Бабич хорошо знал творчество Э. По, переводил его стихи и новеллы. В 1928 году в его переводе вышел сборник новелл «Гротески и арабески». Можно предположить, что новеллы «поэта-ученого» этих лет в какой-то степени ориентируются на художественный мир арабесок, «страшных» рассказов американского фантаста.
Фантастические новеллы Э. По Бабич называл «психоанализом». Фантастика в новеллах Бабича – тоже форма отображения бессознательных психических процессов, глубинных влечений человеческой души. Тайны человеческого существования «поэт-ученый» исследует теперь не на стилизованном материале, а на материале сугубо жизненном, конкретном. В этих новеллах автора занимает не столько «страсть», существующая как бы над сознанием человека, а подсознательные импульсы его психологии. Так в фантастической новелле «Старость Александра Великого» исследуются особенности человеческой памяти и тайные причины, «импульсы» человеческих поступков. Бабич был глубоко убежден в неразрывности связи прошлого и настоящего: «Мысль переходит от человека к человеку. От мертвых переходит к живым», вот почему «в девяти случаях из десяти нашими действиями управляют мертвецы».
В других фантастических новеллах Бабич исследует механизм памяти («Озеро в горах»), подавленный потенциал чувств в человеке («Две фантазии»), иррациональные «импульсы» человеческого сознания («Дёрдь-дровосек»).
В тридцатые годы в творчестве Бабича ощущается некоторое охлаждение к новеллистическому жанру, этот последний период полнее представлен в лирике и в «большой» прозе Бабича (роман-антиутопия «Пилот Эльза, или Совершенное общество» (1933), изображающий страшные картины будущего мира, истребившего культуру, и повесть «Розовый сад»). И все же гуманистический пафос этих лет нашел отражение и в некоторых новеллах: в красочной, вызывающе смелой «весенней притче» «Бодри и Питю» (1930) и в скромной по сравнению с «головокружительной» метафоричностью более ранних новелл жанровой зарисовке «Хотя бы одно лето» (1932).
Читать прозу Бабича – огромное удовольствие, но и большая работа. В каждой своей новелле писатель стремится максимально осмыслить мир разумом, подчинить его рассудку настолько, насколько это возможно, но в них всегда остается какая-то загадка, которая требует от читателя напряжения чувства и мысли.
«Самое важное в произведении искусства, чтобы оно имело нечто вроде фокуса, то есть чего-то такого, к чему сходятся все лучи или от чего исходят. И этот фокус должен быть недоступен объяснению словами. Тем и важно хорошее произведение искусства, что основное его содержание во всей его полноте может быть выражено только им», – говорил Толстой.
Очень многое можно и нужно писать о творчестве Бабича, создавшего истинные произведения искусства, но всегда будет оставаться что-то, не охваченное нами до конца, не уловленное в нашем слове, о чем смогут сказать только сами его произведения.
Н. Васильева
ПОВЕСТИ
КАЛИФ-АИСТ
(Жизнеописание Элемера Табори)
Хочу собрать воедино записки, касающиеся моей жизни. Кто знает, сколько еще у меня времени? Шаг, на который я решился, быть может, окажется роковым. Медленно, неотвратимо тает ночь. Придет миг, когда он явится, черный Сон, подкрадется на цыпочках, словно убийца, и бесшумно станет за моей спиной. Ладонями внезапно зажмет мне глаза. И тогда я уже не буду принадлежать себе. Тогда со мною может случиться все что угодно.
Я хочу собрать воедино записки, касающиеся моей жизни, прежде чем еще раз усну.
Я записывал все с величайшей точностью. Моя жизнь была похожа на сон, а сновидения казались явью. Моя жизнь была прекрасна, как сон; ах, лучше бы она была несчастливой, зато сны – прекрасными!
…Это началось в год моего шестнадцатилетия.
Странности случались и прежде. Впрочем, ничего особенного: их вполне можно было счесть ребяческими выдумками, и только. Например, столярная мастерская. Я проходил мимо нее ежедневно, по дороге в школу. Часто останавливался под ее узким окном. Мастерская казалась темной, и постепенно в моей фантазии она стала местом каких-то таинств. Без всякой на то причины я вообразил, что там, под скромной вывеской столярной мастерской, орудуют ужасные злодеи, фальшивомонетчики, может быть, даже убийцы, они мучают безвинных мальчиков… таких, как я. Я настолько уверовал в это, что заразил своей верой и некоторых моих сотоварищей, мы основали даже самое настоящее секретное «общество доктора Холмса», чтобы проникнуть в тайну. Общество, как и тайна, распалось само собой, но я и после того всякий раз вздрагивал, когда из окна столярни в нос ударял запах клея – он был мне как-то непонятно знаком, этот запах, как будто я сам долго жил и томился в такой мастерской…
А между тем я рос в дворянской семье, был богат и считался лучшим учеником в гимназии.
Вот только были в классе двое… они отчего-то вызывали во мне странное чувство…
Вообще я весьма возвышался над моими школьными товарищами. Меня любили, мной восхищались, ибо я был хорош собой и ловок, умней и сильней, чем они, красиво одет, у меня всегда водились карманные деньги, а главное – я не обращал на них ни малейшего внимания и ни во что не ставил их дружбу. Я был поистине Sonntagskind:[1]1
Буквально: дитя солнца (нем.), т. е. счастливчик; родившийся под счастливой звездой.
[Закрыть] меня все баловали, везде и всюду провожали восторженными взглядами, и я, с младенчества купаясь во всеобщей любви и обожании, в сущности вовсе не знал цену любви, был приветлив со всеми, но ни к кому не тянулся всерьез. Зато тем больше тянулись ко мне, каждый ревниво старался подойти поближе, коснуться моей руки, а, например, сутулый тихий Иван Хорват был откровенно в меня влюблен.
Его-то я все же терпел около себя: он учился классом старше и был умен, я любил с ним пофилософствовать, давал читать французские книжки и время от времени требовал отчета:
– Как, ты все еще на пятнадцатой странице!
Я знал, он учит французский только затем, чтобы не позориться передо мной.
– Тебе-то легко, – жаловался он, когда я так его припирал. – Тебя бонна учила чуть не с пеленок.
– Ах, оставь, чему можно научиться у бонны? Просто хоть несколько книг надобно проштудировать со словарем.
Я страстно любил книги. Хотел все понять, все знать, отворить перед своим интеллектом все двери. И презирал остальных, кому чужды были подобные стремления. Я понимал и считал естественным их преклонение перед собой, хотя оно тяготило меня. Догадывался, конечно, что причиняю боль тому, к кому равнодушен, кого не могу вознаградить за проявление чувств, – однако мое равнодушие и беспечное высокомерие лишь возрастали. Недоброжелательства во мне не было, больше того, я был способен и на сердечность и на любовь к ближнему, но ощущал себя сильным, и моя сердечность не желала оказаться сестрой слабости.
Тем не менее среди товарищей моих было двое, перед кем я чувствовал себя именно слабым.
И тот и другой были самыми заурядными и тупыми подростками. Карчи Ходи постоянно ухмылялся во весь рот, и меня это неизменно приводило в смятение: чудилось, будто ухмыляется он надо мной. Я никак не мог победить это неприятное чувство, а тем более объяснить его. Но ведь подобные вещи может наблюдать на себе каждый, однако ни для кого они не обретают такого значения, как для меня.
Второй мальчик был Фазекаш. Этот унылый верзила квартировал у корчмарши, причесывался как парикмахерский подмастерье и, казалось, не вылезал из своего черного, словно припорошенного пылью, мешком висевшего на нем одеяния. Он всегда был мертвенно-бледен. И всегда, всякий раз при взгляде на него во мне возникало какое-то смутно-неприятное ощущение. Как если бы он напоминал мне о чем-то очень неприятном.
Словом, многое наводило на мысль, будто в неведомых тайниках моей памяти существовало нечто ужасное, что-то такое, от чего мир сразу предстал бы мне в ином свете, – однако что это, я не знал.
Но в остальном и я был обыкновенный школяр, с упоением играл в мяч, разучивал танцы в танцевальном классе, наслаждался обществом моих книг – короче говоря, еще веселое, беззаботное дитя и уже маленький вдумчивый философ. Я любил математику, любил все трудное и строгое, на чем можно было самому себе продемонстрировать блистательную точность и остроту моего ума. Наши наставники относились ко мне с уважением, больше того, и они держались со мною в какой-то мере так же, как мои однокашники. Именно передо мной старались предстать в самом выгодном свете, передо мною стыдились показать незнание, слабость, ревниво следили, кого из них я люблю и почитаю больше других. В сущности я был для них авторитетом: Микша Кёбдек, например, вызывал меня всякий раз, когда сам был не очень тверд в своем предмете… Так шли годы.
А на шестнадцатом году…
Я окончил шестой класс, был май, предстоял традиционный пикник. Я рано поднялся в тот день, побежал взглянуть, хороша ли погода. Поразительно, как запомнилось мне это утро. Я его опишу – опишу весь этот день, – чтобы читатель увидел, откуда, из какой жизни я проснулся… в кошмар. Сквозь оконные квадраты нашей большой застекленной веранды золотилось солнце, все было зелено и свежо вокруг. Серебряные брызги, бледно-зеленые иглы-пальцы на соснах, закрученные шарики подснежников. Мне памятен каждый цветок. Как пышно цвела сирень! И еще был куст, который мы, дети, называли просто ягодником, потому что на нем росли белые пузырьки-ягоды, мы любили давить их каблуком на земле, и они лопались с треском. Куст цвел розовыми крошечными кистями, их густо облепляли пчелы, и ягодник гудел, как церковный орган.
Несколько створок в стеклянной стене веранды были открыты, и я слышал каждый звук, – слышал пчел, ос, они вылетали из куста внезапно, словно конец струны из тугого мотка, и крутой звенящей дугой уносились над чугунной решеткой на улицу, куда их манил медовый аромат акаций. Я слышал птиц, слышал, как они чирикают и щебечут на тысячи ладов, все было так звучно и живо. А эти весельчаки дрозды! Они издавали вдруг громкий клич и ошалело галдели, будто разгулявшиеся парни в корчме, и я, все еще дитя, не мог устоять и тоже вливал свой голос в их хор:
– Эге-гей, не робей! Эге-гей, веселей!
Он весь был смех и радость, этот зеленый мир. Свист, пересвист и смех. Резвые солнечные зайчики среди густой листвы, будто смеющиеся ямочки на щеке. Я тоже смеялся, счастливый тем, что наш пикник пришелся на этот дивный погожий день. На подоконник села хорошенькая сизая горлица, я попытался подкрасться, поймать ее. Но она упорхнула, опустилась во двор и, покачивая головкой, важно зашагала по земле.
Тут вошла Маришка, принесла завтрак. Веранду наполнил дразнящий аромат свежепрожаренного кофе. Платок Маришка кокетливо, словно молодуха, повязала назад. Улыбаясь во весь рот, сказала:
– Опоздаете, барчук. Вы ж еще эвон и не одеты.
Я бросился к себе, новое платье, заботливо приготовленное, ожидало меня.
Как хорошо, когда у человека имеется своя отдельная комната. Как восхитительна холодная вода – утром, внезапно, а-ах! Как чудесна прохлада чистого белья! О, как приятно, когда о тебе так заботятся! А битье горшков на пикнике будет?!
Неожиданно дверь отворилась, в комнату заглянула мама, и я, сидя на кровати и уже готовый надеть свежую рубашку, вдруг почувствовал, что непроизвольно метнулся, словно олененок, застигнутый врасплох. Моя мать была так прекрасна, молода, элегантна… и я застыдился одеваться при ней… При служанке – нет, не стыдился. Но тут, увидев это красивое, благородное лицо (мое лицо, говорят, точная его копия), этот аристократический стан в дорогом красивом пеньюаре, я весь втянулся под одеяло, как улитка в свой домик.
Она наклонилась и хотела поцеловать меня в лоб, но я испуганно укрылся чуть ли не с головой.
– Видел ли кто такого мальчишку? Стыдиться собственной матери!
Едва она вышла, я быстро оделся, распахнул дверь, кофе дымился, над белой скатертью склонялась тетя и разливала сливки.
Я любил ее, пожалуй, больше всех на свете. Она была старшей сестрой моего отца, замуж не выходила и жила постоянно с нами. Мне всегда чудилось, будто она соткана из серебра. Волосы на маленькой головке так серебрились, что впору было и обмануться; тонкое нежно-белое лицо с мягкой светящейся улыбкой напоминало серебро филигранной работы; и свет улыбки был как свечение серебра, и голос – я никогда не слышал более серебристого звука, чем ее голос. Но уж точно самой серебряной была ее душа, и голос был гласом души, и улыбка – светом души. Мне кажется, что даже имя ее, каким звали мы ее дома, – само это слово Ненне[2]2
Ласкательно измененное слово néni – тетушка (венг.).
[Закрыть], стоит произнести его хотя бы мысленно, непроизвольно вызывает в воображении тихий серебряный свет, серебристый плеск. Вряд ли я верил, что ее волосы побелели с возрастом: Ненне была молода, изящна, очаровательна, она, вероятно, так и родилась серебристой, словно фея; я вообще представлял себе фей не иначе, как в ее облике – вот такой, какой была она там, над чистой скатертью, свежими взбитыми сливками и сверкавшими в утренних лучах солнца серебряными ложками.
В саду уже прогуливались девочки – моя младшая сестра, десятилетняя Бёжике, и другая Бёшке, Бёшке-гостья, двоюродная наша сестрица, веселая и хорошенькая семнадцатилетняя девушка. Отец еще почивал, однако же на пикнике обещал быть непременно, да и наставники наши рассчитывали на него, одного из самых именитых граждан нашего города. От меня, гордости родителей, требовалось только быть красивым и аккуратным; уже на лестнице мама в последний раз оглядела придирчивым взглядом мой туалет, позади меня стояла Маришка с платяной щеткой; тут же была и старенькая наша няня Виви, о которой речь впереди. Ненне сказала:
– Девочки, срежьте-ка розу да приколите Элемеру в петлицу, пусть он будет у нас понаряднее.
Бёшке, большая Бёшке, вставила мне розу в петлицу, и я, стоя на ступеньке совсем к ней близко, смотрел на ее прелестное лицо, а потом, в знак благодарности, изогнулся ловко, как бы танцуя, и неожиданно поцеловал ее в щеку; ей это было приятно, однако она изобразила негодование и несколько раз поправила прическу. Я же смеялся здоровым лукавым мальчишеским смехом.
Таким оно было, это наполненное жужжанием пчел, яркое солнечное утро. И Цезарь, милый наш песик, радостно прыгал вокруг, мне едва удалось уберечь от него мой праздничный костюм. Все проводили меня до ворот и долго смотрели вслед, а я, гордый и чистый, с розой в петличке, уходил от них на майский наш праздник.
И так мне помнится все – так же подробно я мог бы описать весь тот день. Сбор на школьном дворе, густой, исполненный ожидания гул, который, словно гул в театре перед началом спектакля или запах свежей типографской краски от новой книги, будоражил мне душу; моих товарищей, таких скованных и необычных – очень уж чистеньких и приодетых, как если бы с них содрали старое платье и упаковали во все новое, – словом, видно было, что они лишь на один денек покинули школу, показались среди людей, будто тюлени, вышедшие из воды; преподавателей – Микшу Кёбдека, прохаживавшегося среди нас со всем утренним грузом непререкаемого своего авторитета, господина учителя Эрнё Круга, организатора майского гулянья, которое было гордостью его существования, ежегодным главным событием его жизни – полгода он готовился к нему, а вторую половину года, после него, купался в славе; наше знамя, подаренное школе моей мамой – она была дамой-патронессой. И миг отправления – о, как этот миг прекрасен! Все вместе шагаем через поля! Жарит богоданное солнце, пот холодит под мышками, наяривает на своей скрипке цыган, завтра каникулы, и кто сейчас помнит про уроки латыни? Мы идем!
– Замечательный лес! – восклицает Пишта Реви, который все еще зачитывается Жюлем Верном и вечно рассуждает о полипах и кессонах. – В таких лесах устраивают засаду ковбои.
Я мог бы описать все гулянье, все игры – было, было и битье горшков! И перетягивание! И бег в мешках! До чего же неловок был Краус! И как он потом добрых полчаса доказывал, что его неловкость совсем ни при чем. А один горшок разбил самолично господин учитель Наци Какаи, чей педагогический принцип: «в играх быть вместе с детьми»… Я отличился во всем и был счастлив, крохотная частица некоего великого счастья: вся душа моя блаженно таяла в веселом гомоне. С детьми бывает такое – они вдруг перестают ощущать свое «я». Иногда, сидя с товарищами моими на скамейке, я задумывался, почему среди такого множества людей «я» это именно я. Какая тайна привязывает все мои интересы, все чувства именно к этому ладно скроенному телу? А не к телу моего соседа?.. Но в тот день я ни о чем подобном не думал, и моя душа радостно растворялась во всех, кто меня окружал.
Это был счастливый, счастливый день! И в такой-то день мне пришлось узнать все!
Зачем я так вызывающе соперничал в играх с Карчи Ходи и с Фазекашем? Как будто желал себе доказать, что я во всем первый. Но ведь так и было!
В чем они передо мной провинились? Отчего я ненавидел их, того не желая?
Эти два лица были в моих глазах как две грубых, чем-то памятных кляксы, как два пятна на прекрасной картине, где краска осыпалась и проглянул грубый холст.
В этот день мне пришлось узнать все.
Настало время обеда, мы теснились на длинных скамьях, приятный ветерок смягчал жару, колыхался над головами ажурный золотистый ковер, листья акации изредка слетали к нам на тарелки. После супа кто-то вдруг заорал во всю мочь:
– Да здравствует господин учитель Круг!
– Урра! – вырвалось сразу из четырехсот мальчишечьих глоток: так вылетает пленница птица из клетки, так взвивается в воздух птичья стая, внезапно, стремительно, ввысь. Это было нескончаемое, оглушительное «ура»; те, у кого нервы послабее, тоже вопили, но зажав уши: дрожали ветки деревьев, наши наставники смеялись и сердились.
Круг ходил между столами, присматривая за порядком.
– Не правда ли, как я популярен? – со смехом отнесся он к Дарвашу; но, впрочем, был весьма и весьма доволен.
Здравицы, однако же, не умолкали – всякий раз во славу другого учителя, – обрушивались шквалом после каждого нового блюда:
– Да здравствует господин учитель Дарваш!
– Да здравствует господин учитель Череи!
– Да здравствует господин учитель Какаи!
Каждому досталось положенное. Дарваша приветствовали робко, стеснительно, Череи – с дурашливым хохотом. Когда дошла очередь до Наци Какаи, весь лес зазвенел от неистовых кликов.
– Довольно, мальчики, хватит! – жестами пытался утихомирить нас Наци.
Но мы не желали утихомириваться. Уже и директор беспокойно поглядывал вниз с веранды ресторана. Старый манжетоносец ублажал там свое чувствительное самолюбие среди избранных гостей – родителей, влиятельных в городе лиц, друзей школы, принявших участие в товарищеском обеде. Среди них я увидел и моего отца. Уездный судья Личко, который все утро не выпускал стакана из рук, своим хриплым голосом рассказывал нескончаемый охотничий анекдот и уже почти кричал, пересиливая наши здравицы.
– Слушай, – сказал мне на ухо сосед мой, Пишта Реви. – Погляди вон на того человека, что сидит рядом с Личко.
Я поглядел. «Третье пятно!» – ударило меня в самое сердце.
Это был крупный сильный мужчина. Темная спутанная борода под Кошута, странно беспокойные сизо-стальные глаза. На нем был серый полотняный костюм, но без жилета – его заменял мягкий и широкий, уложенный вокруг талии складками черный шелковый пояс. Отложной воротник рубашки лежал свободно, под ним был повязан темный шейный платок с бахромой.
– Известно ли тебе, что это янки? – торжественно осведомился Пишта Реви и, захлебываясь, стал рассказывать: – Он долго жил в Америке, знает английский, был там инженером, фамилия – Кинчеш. Домой вернулся совсем недавно, а проживал там в городе Большое Соленое Озеро, Греат-Салт-Лаке-Сити.
– Грейт-Солт-Лейк-Сити, – поправил я его произношение.
Наконец удалось более или менее унять шум, к веранде вышел Криглер, лучший ученик восьмого класса, и принялся декламировать что-то скучное.
А я все смотрел и смотрел на вернувшегося из Америки инженера. И не мог оторвать от него глаз. Подозревал ли я уже тогда, что в этот миг начинается нечто – начинаются муки всей моей жизни? Вряд ли. Но это лицо… Или я его где-то уже видел? Да, мне определенно было знакомо это лицо.
С самого раннего детства на меня особенно сильное впечатление производят лица. Даже ныне я словно воочию вижу в них самое душу; человек и его лицо в моих глазах равнозначны. Но ни одно человеческое лицо не производило еще на меня такого впечатления, как это (не считая твоего, дивная Этелка, – но можно ли поминать твое лицо на той же странице, что и его?). Как поразительно знакомы эти темно-сизые мужские глаза… Однажды их взгляд случайно упал на меня, и я содрогнулся: как будто этот человек был мой учитель, а я совершил нечто недозволенное. И еще показалось мне, будто в памяти моей откуда-то из темноты, из глубины всплывают тысячи и тысячи мрачных воспоминаний и тянутся и рвутся туда, к этим глазам, которые и вызывают их из небытия, манят, извлекают на свет их горькую рать…
Весь этот человек являл собою образ какой-то иной, фантастичной реальности. Косо падавшие с крыши веранды лучи сбоку отсекали его ноги; голова оставалась в тени. Весь он был какой-то мятый и пыльный – ни намека на элегантность. Рубашка небрежно расстегнута, при резких движениях обнажалась грудь. В лице чуялась необузданность, грубость мастерового. Что-то настораживающее во взгляде… Я смотрел на него, и отчего-то все наше веселье стало как бы нереальным – милым миражем, и только. Я уже не мог думать ни о чем другом. Ученики весело болтали. Криглер все декламировал. Директор отвечал ему. Я ничего не слышал.
И вдруг опомнился. Троекратное «ура!». Цыган заиграл туш.
Быть может, я знаю кого-то, похожего на этого человека? Нет, нет, я знаю его, его самого.
Что за бред! Откуда? Ведь он только что вернулся из Америки, с берегов Большого Соленого озера.
Тишина! Говорит мой отец. Красиво, отчетливо, благородно. Он произносит тост от имени гостей праздника. С кем бы он ни беседовал, в его голосе непременно слышны снисходительные нотки, но это ни в коем случае не оскорбительно или неприятно для собеседников – напротив, они скорее чувствуют себя польщенными. Мой отец истинный венгерский барин: серьезность, радушие, открытый взгляд, аккуратная с проседью бородка. Всегда обдуманно и со вкусом одет, умен, рассудителен, прекрасно разбирается в людях. Для меня он был истинным идеалом. Но сейчас – сейчас я как будто вдруг удивился тому, что он мой отец. Как будто я видел сон и во сне был сыном этого образованного, красивого, богатого аристократа.
У меня отяжелели ресницы. Может, так подействовало пиво? Обильная еда? Слишком засиделись за обедом? Наконец мы встали из-за стола. Отец поманил меня:
– Тебе весело?
– Весело.
И я опрометью бросился от веранды. Прочь, прочь! Я боялся, действительно боялся – того человека. Следующие полчаса была моя очередь дежурить около кассы; вместе с Пиштой Реви мы побежали к арке по темной аллее, где уже развешивали китайские фонарики.
– Эй, – сказал Пишта Реви. – А известно тебе, что город Большого Соленого Озера называют еще Новым Иерусалимом?
Я не ответил, и Пишта опять затараторил:
– Там живут мормоны. А известно тебе, что у них на трех главных начальников восемьдесят две жены?
Я опять промолчал. Ведь он все равно не уймется, пока не выложит все, что читал о мормонах.
– А известно тебе, что мормоны без конца воевали с индейцами? Хотя сами считают себя родственниками индейцев.
И Пишта задумчиво добавил:
– Хотел бы я знать, случалось ли инженеру Кинчешу видеть индейцев?