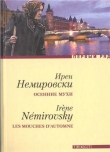Текст книги "Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы"
Автор книги: Михай Бабич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
И все же от грандиозного скандала был кое-какой прок: благодаря ему легко осуществилось желание Франци о переводе на другое место. Конечно, его карьере это не пошло на пользу. Каким бы махоньким городишком ни был Гадорош, все же он находился у Христа за пазухой. Франци в полной мере оценил этот факт, лишь очутившись в забытой богом глухой дыре, где ни огромных розовых плантаций, ни гадорошского вина не было и в помине. Подобно изгнанному из рая Адаму вспоминал он дни, проведенные у тетушки Илки, и размышлял о внезапном крушении своей судьбы. Похоже, все, что было заманчивого и прекрасного, ушло в небытие вместе с весенними розами, а на его долю остались лишь стыд и горечь. Остались также и почтовые квитанции на деньги, отправляемые им в погашение долгов: это было его единственной связью с прошлым. Но в его душе навеки запечатлелись покрытые виноградниками гадорошские холмы, плавные очертания которых были так непохожи на крутые изгибы здешних гор! Даже чаша позора источала сладковатый аромат воспоминаний, напоминающий запах розовой воды.
Так и жил наш герой год за годом, подобно Овидию, который тоже из-за амурных дел угодил в Томы. Снедающие его стыд и горечь не давали ему располнеть: он сохранил подтянутость и юношескую стройность. Но волосы у него рано начали выпадать, и к тому времени, как его назначили судьей в Шот, Франци в сущности облысел.
Гадорошские переживания повлияли на его жизнь и еще в одном отношении: уберегли его от супружеского ига. Но вместе с тем воспоминание о пережитом вновь и вновь, до скуки и пресыщения влекло его в розовый сад цветущих девичьих прелестей, à l’ombre des jeunes filles en fleurs[39]39
Под сенью девушек в цвету (фр.).
[Закрыть], пользуясь выражением одного французского писателя более поздних времен. Франци повсюду искал утерянный рай – благоуханный розовый сад тетушки Илки. Ощущение стыда со временем притупилось, зато тоска по былой райской жизни все возрастала. Перебравшись в Шот, Франци нанес местной знати официальные визиты и без труда был принят в обществе. На девичьих вечеринках он чувствовал себя в родной стихии; без атмосферы пьянящей молодости, дамских сплетен, кокетства и ухаживаний он попросту не мог обойтись. Но старался ни с кем не сближаться, не впутываться ни в какие осложнения. Его постоянно удерживал болезненный страх: как бы не связали его имя с какой-либо особой дамского пола!
Жизнь его проходила меж этих двух полюсов: тоски по раю и застарелого страха. И под конец превратился Франци Грубер в вечного кавалера: почтенного господина судью, наслаждающегося кофе со сливками в обществе приятных дам… Таким я и представил его в начале своего повествования.
Неумолимо бежали годы. Франци совсем облысел, а его упругой походке нанесла урон подагра. Доктор порекомендовал ему поехать на курорт в Харкань, весьма популярный в ту пору среди обитателей Шота. Туда наведывался среди прочих дядюшка Деме – старина Деме Рац, о котором я не раз упоминал в другом своем рассказе.
Франци столкнулся со стариком в первый же день. На пару прогуливались они средь уютного журчанья серных источников.
– Есть тут и кое-кто из гадорошцев, – заметил во время одной из таких прогулок дядюшка Деме, которого связывали с Гадорошем родственные узы. – Госпожа Осой с дочерью. – И тотчас же издали почтительно поклонился какой-то улыбчивой толстушке; дама эта в сопровождении дочери-подростка только что вышла из лечебного здания.
Франци охватил панический ужас, как всякий раз, когда на горизонте появлялось очередное гадорошское лицо. Однако он не сумел подавить непроизвольный возглас:
– Аптекарь Осой?.. Разве он женился?..
Дама с дочерью направлялась прямо к ним. Франци всполошенно озирался по сторонам, подыскивая подходящий предлог, чтобы сбежать. Но когда обитательницы Гадороша подошли поближе, он успокоился. Низенькая толстушка была ему совершенно незнакома, и Франци надеялся, что она тоже не знает его. Должно быть, Осой подыскал себе супругу на стороне…
«Представлюсь-ка я ей сам, – вдруг осенило его. – На английский лад… Важно, чтобы она не разобрала моего имени. Надо только опередить дядюшку Деме…»
Но пухленькая дама уже стояла перед ним и вдруг, без всяких церемоний, обратилась к нему просто по имени:
– Францика, неужто вы меня не узнаете?
У Франци душа ушла в пятки. И тут он сразу узнал «незнакомку»: ну, конечно же, Гизи Балог. Узнать ее можно было лишь по глазам и смеху, ибо ничто больше не напоминало прежней стройной, задорной чаровницы. Франци невольно перевел взгляд на стоявшую подле нее барышню. Крупная, белобрысая, флегматичная девица ничуть не походила на свою мать и в молодости. Вылитый папаша.
– У меня совсем взрослая дочь, не правда ли? – с гордостью заметила аптекарша. – Годы-то как бегут, Францика… Вот и я раздалась вширь, – с улыбкой прибавила она. – А с вашей стороны некрасиво совсем позабыть нас. Вы ведь, наверное, и не знали, что я вышла замуж… Сколько раз мы с тетушкой Илкой вас вспоминали!
Франци содрогнулся, как вздернутый на дыбу грешник при виде орудий пытки. Но Гизи невозмутимо продолжала щебетать:
– Тетушка Илка очень расстраивалась, что вы ей ни строчки не написали. А уж как мы все ждали вашего письма! Как потешались над той историей. Ловко вы все подстроили, Францика, никто бы не мог предположить в вас такие способности… Переполоху на весь город наделали… Бедняжка Ирен, конечно, была убита. От такого удара кому хочешь не поздоровится… О нет, вы не подумайте, будто она и в самом деле расхворалась, просто ей пришлось сказаться больной, ведь она от стыда не знала куда деваться, – доверительно проговорила Гизи. – Почему же вы не писали, Францика?
– Я… я думал… мне казалось… – растерянно бормотал Франци.
– Да, несчастной Ирен за глаза крепко доставалось, – продолжила госпожа Осой. – Так ей и надо! Если уж решила во что бы то ни стало выскочить замуж – пеняй на себя, верно я говорю? Не подумайте, будто мне ее не жалко, наоборот, я и тогда ее жалела, да и теперь ей сочувствую. Вы бы тоже ее пожалели, если бы сейчас увидели. Замуж ей уже никогда не выйти, она совсем состарилась, усохла, а ведь помните, какая у нее была дивная фигура! Словом, выглядит старуха старухой. Но будь она хоть какая молодая – это бы ее все равно не спасло: кто бы захотел на ней жениться после такой истории! Да оно и понятно, не правда ли? Теперь она ходит только в церковь: деятельницей церковной общины заделалась, а уж вам-то должно быть известно, что религиозной она сроду не была, над попами вечно насмехалась. Впрочем, она и теперь только насмехается… И вообще по-прежнему говорит о людях гадости. В этом отношении она ничуть не изменилась.
– А как поживает тетушка Илка? – поинтересовался Франци; несколько оправившись от потрясения, он тотчас же вспомнил о требованиях приличия.
– О, тетушка Илка тоже не та, что прежде! С тех пор, как ей пришлось расстаться с розовым садом, от нее одна тень осталась. Вы, наверное, знаете, что она продала свой сад? Какой смысл за него держаться, если розы сбывать некуда! Перевозка в копеечку обходится. Старое русло Дуная стало несудоходным, и сербы больше не ездят в Гадорош. Дядюшка Пишта, тот без розовых плантаций себе жизни не мыслил, ну, а после его смерти они вовсе без надобности сделались. Вы знаете, что Питю, сынок их, тоже умер?
– Нет…
– Он ведь вечно из хворей не вылезал… Конечно, трудно представить себе тетушку Ил-ку в одиночестве и без ее огромного розария. Правда, небольшой сад и посейчас сохранился, и карточные партии по-прежнему устраиваются. Тетушка Илка верна своим привязанностям. Я тоже иногда играю. Вот только Ирен окончательно оторвалась от компании… Но настроение теперь переменилось. То ли дело в былые времена, в особенности летом, когда цвели розы!.. От их аромата можно было задохнуться, помните, Францика? А нынче на месте розария – виноградник; сейчас мода пошла низкорослые сорта высаживать, торгаши-евреи из всего норовят пользу урвать. Конечно, настоящего гадорошского вина с таких виноградников не получишь… И веселья прежнего как не бывало. Не забыли, как тетушка Илка смеялась? Иногда казалось, что курица кудахчет… И где уж тут было удержаться, бывало, волей-неволей и сама с ней расхохочешься. Да, Францика, вот и над вами с Ирен мы так же потешались… Лучшего развлечения и не придумаешь: ночи напролет веселой компанией сидеть в розовой беседке и смеяться, смеяться… Вам должно быть жаль, что вы при этом не присутствовали.
Гизи, увлеченная воспоминаниями, и сама расхохоталась.
– Однако мне пора, – произнесла она, вновь обретя серьезность. – Я ведь здесь с супругом, его, беднягу, ревматизм замучил. Он уже нас ждет у источника. Вы здесь долго пробудете? Надеюсь, мы еще встретимся. Мой муж будет счастлив повидать вас, Францика, он вас частенько вспоминает. Давайте как-нибудь пообедаем вместе… А пока до свидания. Детка, и ты тоже попрощайся.
Белобрысая деваха неуклюже сделала книксен.
Вдоль аллеи выстроилось несколько цветущих розовых кустов. Цветочный аромат тщетно пытался противостоять едкой вони серного источника.
Перевод Т. Воронкиной.
РАССКАЗЫ
ЦЕНА ЖИЗНИ
I
Вся Франция с неподдельным участием встретила весть о болезни ван Леберга. Газеты, без различия их политической принадлежности, тепло отзывались о знаменитом писателе, который, по имени и по рождению будучи чужестранцем, тем не менее воплощал в себе самый что ни на есть типичный французский дух. Его здоровьем интересовались и правительственные круги, ибо ван Леберг относился к числу тех, кто умел сочетать наисовременнейший вкус с безупречно консервативным мышлением и чье поведение никогда не выходило за рамки традиционной корректности. Общество же, tout Paris[40]40
Весь Париж (фр.).
[Закрыть], горячо обсуждало каждую новость о том, как чувствует себя знаменитый parisien[41]41
Парижанин (фр.).
[Закрыть]. В огромном городе, казалось, не было человека, кто не знал бы и не любил его, не восхищался его остроумием, пленявшим публику за столами литературных кружков и у каминов столичных салонов.
Болезнь ван Леберга была на редкость мучительной, и близким писателя потребовалась вся заботливость и терпение, чтобы хоть как-то умерить его страдания. Жена его, истинная парижская матрона из той породы, что в обществе – сама элегантность и молодость, само остроумие и кокетство, дома же – преданная жена и любящая, нежная мать, ухаживала за ним с бесконечной самоотверженностью; в этом ей помогали дочери, цветущая Клэр и только-только вышедшая из детского возраста, прелестная Марселина, для которых отец был объектом любви и гордости, безраздельным кумиром.
Однако страдания больного все усиливались, становясь порой совершенно невыносимыми. Ничто так не сокрушает даже самый несгибаемый дух, как физические мучения, особенно если они сочетаются с ужасным сознанием, что избавить от них способна лишь смерть. Ван Леберг отдавал себе ясный отчет о плачевном своем положении; в часы, когда от невероятной боли сводило дыхание, он жестоко страдал еще и от грозной мысли, что так теперь будет всегда и судьба не подарит ему ни одной спокойной минуты. Постепенно он ни о чем другом уже не мог думать. Он с радостью поменялся бы даже со смертником, ожидающим казни: ведь у того впереди по крайней мере целая ночь без боли. О, как это много, ночь без боли! сколько за это время можно всего передумать и сделать! сколько счастливых моментов вспомнить и заново пережить в душе! сколько всего он, ван Леберг, успел бы… пускай не за целую ночь, а за один только час! Он чувствовал, у него за душой еще много такого, в высшей степени важного и прекрасного, что он мог бы сделать, сказать людям. Однако страшные приступы болезни и, меж ними, тяжелое, не дающее облегчения забытье отнимали даже то ничтожное время, что было отведено ему в жизни.
Как он ни напрягал свой мозг, свои нервы, ни о чем, кроме болезни, кроме близящейся смерти, он не мог думать.
Хотя он знал, что только Она способна избавить его от мук, он видел в ней не избавительницу, а палача. Никогда еще не испытывал он такого страстного желания жить, такой жажды действия; ему казалось: смерть его станет для мира, для каждого человека ужасной утратой; казалось, что жизнь он растратил впустую, что не использовал данных ему возможностей и потому с ним из мира уйдет, исчезнет нечто невосполнимое. И словно ребенок, который, хотя едва уже разлепляет веки, все никак не хочет идти в кроватку, «потому что не наигрался за день», – он упорно, с отчаянием цеплялся за жизнь, и близкая смерть представлялась ему вопиющей, невероятной несправедливостью. Он злился, он обливался потом, думая о своем бессилии, – и ни о чем другом не мог думать.
Так тот, кто недавно был само спокойствие и невозмутимость, совершенно утратил всю свою сдержанность, все терпение. Мир, неумолимо и равнодушно отказывающий ему в спасительном чуде, стал его заклятым врагом. Любовь и самоотверженная забота, какой его окружали близкие, воспринимались им как ничтожный пустяк: что́ эти заботы и жертвы рядом с той страшной утратой, которая угрожает ему, – рядом со смертью! Люди не могут не быть в долгу перед ним. И во взгляде его, в каждом слове вставал один-единственный, требовательный, отчаянный, леденящий душу вопрос:
– Неужели вы не можете помочь мне?
II
Несчастная мадам ван Леберг, неделями не отходившая от постели больного, готова была отдать жизнь, чтобы помочь мужу. Самые знаменитые парижские врачи – все как один почитатели и друзья больного – побывали в этом, когда-то счастливом, а теперь погруженном в скорбь доме, но в глазах у них бедная женщина с ужасом читала одно: медицина, увы, здесь бессильна, приговор, вынесенный природой, обжалованью не подлежит.
Был у больного один знакомый, индийский князь, известный теософ, который жил в Париже и занимался оккультными науками. В последней судорожной попытке изменить приговор жестокой Природы несчастная женщина обратилась к нему; с той безрассудной, мистической верой, что дремлет в любом из нас, как сова, вылетая в ночные часы, часы тревоги и страха, она попыталась найти в его гипнотических, странных глазах, сверкавших на иссохшем восточном лице, некую сверхъестественную надежду. О, эти непостижимые люди могут все; мадам ван Леберг уже слыхала о таинственной передаче жизненной силы из здоровых, молодых тел в тела умирающих, даже мертвых; о чудесных «алатарах», когда Сила, подобно электрической искре, перелетает от одного любящего к другому, из уст в уста, пробуждая к новой жизни ослабевший, увядший, истративший жизненную энергию организм.
– А вам не жаль было бы своей молодости, мадам? Разве вы не боитесь смерти?
– Боялась – прежде. Боялась больше, чем кто-либо. Но чем мне дорожить в жизни? – сказала мадам ван Леберг. – Я дорожу теперь только им, ведь он столько уносит с собой – уносит все, что есть у нас! Своя смерть не страшна: кто теряет себя, тому уже все равно! Но потерять того, кого любишь, знать, что от него ничего не останется, что его мысли, его тепло, его чувства, весь человек, твой спутник жизни – просто исчезнет, превратится в ничто… Нет, это невыносимо! И как он страдает, как хочет жить!
Она схватила руку индуса:
– Помогите мне! Сотворите чудо: я готова на все.
– Мадам, – тихо сказал теософ. – Много ли стоит жизнь в изношенном теле? Предположим, я бы помог, как вы говорите, сотворить чудо… Предположим, я подсказал бы вам способ, как постоянно поддерживать жизнь в нервной системе, даже когда анимальные силы тела исчерпаны… Дал бы вам источник энергии, который будет питать процессы в этом тончайшем устройстве, нервах, и они будут делать свое дело, генерируя чувства, мысли, сознание – все то, благодаря чему жизнь и является для индивида жизнью… Но что это бессильному, лишившемуся стержня телу? Чего бы стоила призрачная, нагая жизнь души, если бы не было, в чем и чем жить? Ибо все мы живем своим телом. Принял бы умирающий такой дар?
– Значит, есть такой способ, есть? – вскричала с сияющими глазами мадам ван Леберг. – О, сделайте, сделайте все, что можно! Душа – это все; мысль, сознание – это все. И неправда, неправда, что жизнь души ничего не стоит! Если б вы слышали – да ведь вы слышали, – как просит, как умоляет несчастный, чтобы ему позволили только мыслить, только жить, жить слепым, глухим, жить калекой, но только жить! Только чтобы все это: мысли, чувства – не провалилось в небытие, – вот что было бы ужасно! Есть ли у него сокровище дороже, чем мысль? И разве не в этом был весь он: в мысли, в чувстве? Пока существует мысль, существует и он. Душа… Разве не душу его обожает вся Франция, весь мир? Так пусть же она живет, пусть будет! Сохраните для людей его душу.
III
Теософ изучающим взглядом смотрел на свою собеседницу.
– Предположим, такой способ действительно есть, – сказал он негромко. – Только…
Мадам ван Леберг вся обратилась в слух.
– Только?..
Тихо, но твердо, как стук металла о металл, прозвучал короткий ответ:
– Он дорог.
– Я все отдам, все, я же сказала, что пожертвую всем! – вскричала преданная жена. – Если понадобится моя жизнь, здоровье… молодость уже позади…
Один взгляд на неподвижное и сухое лицо успокоил ее.
– Нет, не жизнь, – бесстрастно сказал князь. – Нужна не жизнь. Деньги.
– Деньги? Я отдам все, что у меня есть! – воскликнула женщина. – Князь, я выросла в состоятельной семье, да и муж мой совсем не беден. Ведь это-то и ужасно: мы жили в роскоши, тратили много денег, а единственно важное, единственно необходимое в этом мире – его жизнь – спасти не могли. Вы думаете, я пожалею отдать последнее су?
– Подумайте все же, мадам, – повторил индус. – Вы не одна. На вас лежит ответственность за детей, за их состояние…
– Для Клэр и для Марселины жизнь отца дороже, чем состояние, – перебила его мадам ван Леберг. – Князь, не терзайте меня! Нужно ли вообще говорить об этом? Разве мы уже не потратили бог знает сколько денег? И если ваша наука в самом деле спасет ван Леберга… Требуйте что угодно, что угодно!
Она смотрела на загадочного восточного ростовщика с мольбой, как на бога. Ей даже в голову в этот момент не пришло, что самые известные врачи Парижа отказывались брать гонорар за услуги, которые они спешили наперебой оказать своему знаменитому другу. Она посчитала вполне естественным, что бесценная жизнь ее мужа стоит дорого, очень дорого.
– Мадам, – снова заговорил индус. – Лично мне, как вы сами можете догадаться, не нужно ничего. Но лекарство стоит больших, очень больших денег, и их вам придется достать. Но это еще не все…
Он помолчал, устремив на женщину неподвижный взгляд.
– Вылечить тело, разрушенное болезнью, уже невозможно, – начал он снова. – Можно лишь поддерживать деятельность нервной системы, питая ее с помощью искусственного источника силы; сила эта идет не из тела. Ее источник открыт тайной наукой, наукой йогов… Мадам, я не имею права это рассказывать, но я все-таки делаю это, и вы можете судить, как я уважаю вас и вашего мужа, как искренне хочу выполнить ваше желание и продлить жизнь моего друга.
Вперив в пространство мрачно сверкающий взгляд, он глухим и глубоким голосом говорил:
– Истинные йоги всю свою жизнь посвящают какой-то одной большой мысли. Случается, мысль еще до конца не додумана, а смерть уже на пороге, – вот тогда они обращаются к этому средству. Но лишь до момента, пока не завершат Мысль; а после по собственной воле отдают тело Смерти, ибо жить без конца – противно естеству человека.
Взгляд его снова упал на женщину.
– Источник энергии очень, очень дорого стоит, – повторил он. – Но и это еще не все. Самое главное: организм должен питаться энергией постоянно, до тех пор, пока мы намерены сохранить в нем жизнь. Ибо тело вылечить не удастся, душа же будет жива, пока мы поддерживаем нервную систему в действии – это все время требует новых и новых денег. Тут нужен не капитал, мадам, а проценты, или, может быть, нечто большее… Что же касается роскоши, развлечений, обеспеченной жизни…
– Деньги, деньги! Зачем вы все время мне говорите про деньги? – с досадой перебила его мадам ван Леберг. – Неужели вы не чувствуете, что обижаете меня этим? Неужели вы не верите мне? Не верите, что жизнь мужа мне дороже денег, дороже всего?
Бесстрастное, экзотическое лицо на какой-то миг разительно, пугающе изменилось: возле тонких губ появились две вертикальные складки, меж которыми зазмеилась холодная, умная улыбка – словно в темном подвале вдруг вспыхнул – и тут же погас – яркий, режущий свет. Мадам ван Леберг стало не по себе; она возбужденно и нетерпеливо воскликнула:
– Ради всего святого, князь! Говорите же! Можно ли спасти моего мужа? Что для этого требуется? Только деньги?
– Деньги и сохранение тайны, – ответил индус.
IV
Сохранение тайны? Сначала это возмутило мадам ван Леберг. Сколько прекрасных, умных, добрых людей каждый день умирает вокруг нас: может быть, они остались бы жить, если бы метод этого удивительного ученого был им известен! Не преступно ли хранить его в тайне от человечества? Однако князь Ниведита (так звали индуса) не хотел слышать ни о каких компромиссах в этом пункте, и мадам ван Леберг решила, что дело тут, вероятно, в каком-то ужасном азиатском обете, обязывающем посвященных хранить тайну, в страшных угрызениях совести, которые, может быть, уже терзают князя, выдавшего один из сокровенных секретов йогов. Она смирилась.
Все доходы и часть семейного капитала они отдали на оплату чудесного снадобья, которое обеспечило жизнь больному пока что на полгода. Сама мысль, что он будет жить, почти исцелила ван Леберга; он во что бы то ни стало хотел встать с постели, задумывал планы больших романов – однако приступать к их выполнению не спешил: ведь впереди у него столько времени, а творчеству вредна спешка. Еще он мечтал о грандиозных коммерческих операциях на ниве литературы: не мог же он допустить, чтобы жена одна несла на своих плечах огромные денежные затраты, необходимые для поддержания его жизни; он должен взять на себя гораздо большую долю общих забот, чем до сих пор. Мадам ван Леберг как ни старалась, не смогла утаить от мужа, какую сумму ей пришлось отдать за лекарство; князь Ниведита и сам бы не согласился, чтобы друг его оставался в полном неведении. Благодарность ван Леберга не знала границ, вся семья была вне себя от счастья, и Париж не уставал радоваться известию, что жизнь замечательного писателя вне опасности. Ван Леберг, несмотря на слабость, на непрекращающиеся боли, вновь наслаждался жизнью, всеобщей любовью и славой.
Однако мадам ван Леберг, посчитав все, что у них оставалось, пришла к печальному выводу: прежний образ жизни им дальше вести невозможно. Она осторожно сказала об этом мужу, зная, что тот будет против всяких дальнейших жертв. Так и случилось: ван Леберг не хотел даже слышать о том, чтобы семья ограничила свои запросы. Он принялся лихорадочно писать, надеясь на гонорары; но висящее над головой сознание необходимости лишало крыльев его вдохновение, и он был сам недоволен тем, что создавал. Уныние и усталость овладели им, он вновь вспомнил свою болезнь, которую было забыл ненадолго, и решил, что будет сначала лечиться, чтобы избавиться от слабости и от боли: ведь это наверняка они, боль и слабость, лишают его способности к работе.
Вскоре он согласился, чтобы семья – временно, разумеется – перебралась на более дешевую квартиру и рассчитала часть прежней прислуги. Силы к нему, однако, не возвращались; под предлогом работы он целыми днями сидел без дела в своей комнате, уповая только на будущее, которое, благодаря чудесному снадобью, казалось неисчерпаемым и открывало его мечтам безграничные перспективы. Издатели не получали от него ничего – или вещи, написанные скучно и через силу; спустя какое-то время его читали только люди малообразованные. Но выдохшийся писатель напоминает обманутого мужа: сам он горькую правду узнает последним; так что ван Леберг, зная, что жизнь у него впереди, по-прежнему предавался мечтам о грандиозных успехах и взлетах. Мираж богатой и полнокровной жизни – мираж манящий и, как всякий мираж, убегающий, ускользающий – опять маячил перед его мысленным взором.
Тем временем экзотическое лекарство приходилось приобретать снова и снова, и добывание нужных сумм каждый раз оборачивалось невероятными хлопотами и трудностями. Состояние, которым владела семья, постепенно съедали долги. Доходы же все сокращались. Семье снова пришлось ограничить свои потребности. В городе разнесся слух, что ван Леберги разорились. Не зная, чем объяснить этот неожиданный крах, люди говорили о тайных страстях, о требующих огромных денежных средств восточных мистических оргиях, которым привержены то ли муж, то ли жена. Дружба с индийским князем лишь способствовала распространению этих слухов.
Но постепенно и князь Ниведита отдалился от них. Неприятности все умножались, кредиторы делались все настойчивее. Ван Леберг пережил немало поистине горьких часов. Он чувствовал: ореол всеобщего восхищения и любви, окружавший его, постепенно бледнеет, сходит на нет. Ему в равной степени угрожала материальная и моральная нищета. А невероятно дорогой арканум надо было с предельной точностью заказывать по калькуттским адресам, которыми снабдил их князь. Страшная власть денег безмерно угнетала ван Леберга: вся его жизнь, все, что было в ней ценного, что поднимало его в глазах мира и в собственных глазах, теперь целиком зависело от этого выдуманного символа, от этой утекающей меж пальцами шелухи, которая стала для него, как какой-то чудесный эликсир, важнее пищи. Ужасный, но реальный вопрос терзал его: сколько стоит жизнь? Сколько стоит его, ван Леберга, жизнь? Унизительный этот вопрос, лишающий его сна и покоя, выливался в несложную арифметическую задачку, где все сводилось к точным суммам денег и соответствующему им количеству лет. Он видел самоотверженность своих близких, слышал, как на семейном совете они уже поговаривают о том, не пришла ли пора дочерям поискать какой-нибудь заработок. И все это – ради него, чтобы он мог прожить еще несколько лет…
– А зачем? – спрашивал он себя в моменты уныния. – Стоит ли вообще жить? – Как-то жене пришлось силой отнять у него револьвер; время от времени он намекал на какие-то неопределенные планы самоубийства. Но планы эти никогда не были слишком серьезными; каждый раз, когда он по-настоящему думал о смерти, страшное чувство безвыходности, ощущение, что ты сам захлопываешь перед собой единственную дверь (ощущение это часто терзало его в самый тяжелый период болезни), отзывалось в его душе такой болью, что жизнь представлялась ему желаннее и милее всего. Он еще в полной мере не насладился ею; он просто не может, не имеет права умереть, пока ему не дано будет пережить хоть одну минуту бесконечного, полного покоя, чистой радости: ведь с тех самых пор он только и делает, что старается приспособиться, привыкнуть к новому положению, и это отнимает все его время, связывает ему руки! Вот когда-нибудь после, потом, когда все трудности сгладятся, будут забыты, – тогда наступит новая жизнь! И в ней будет подлинная свобода, безграничность возможностей, безграничность надежд!..
– Главное – жить, – говорил он. – Пока ты жив, у тебя есть, у тебя может быть все!
V
Дочери ван Леберга поступили на службу: Клэр работала в банке, Марселина окончила курсы учителей. Усталые, мрачные приходили они домой после целого дня тяжелой, однообразной работы. Ван Леберг хорошо видел это.
Он утешал себя надеждами на грядущий литературный успех. Вынув свидетельства былой своей славы, он показывал их дочерям. В одну из таких минут близкая к полному отчаянию Клэр (которая унаследовала ум отца без его легкого характера) сделала какое-то ироническое замечание. Слова ее можно было понять в том смысле, что, дескать, сейчас, когда им так нужны деньги, отец мог бы работать и побольше; но можно было расслышать в них и намек на то, как смехотворно выглядит в писателе, который явно вышел в тираж, питающееся былыми заслугами тщеславие. Ван Леберг побледнел. Ответ его был раздраженным и полным горечи:
– Вот благодарность за труд всей моей жизни, за известность, свет которой падал и на всех вас! Пока мог, я работал не меньше других! И теперь имею право отдохнуть немного…
Клэр, не сдержавшись, напомнила, какие жертвы приносит ради него вся семья; напомнила и о том, что, собственно, все их несчастья происходят от требующей слишком уж много денег болезни отца.
– Вам жаль, что я все еще жив! – жалобно вскричал больной и горько разрыдался. Маленькой Марселине стоило немалых трудов хотя бы чуть-чуть успокоить страсти.
С этого дня тяжелые сцены стали в семье постоянными. Мадам ван Леберг, которая многие годы сохраняла девическую свежесть, теперь, под грузом забот и волнений, стремительно увядала, словно цветок под дыханием губительного сирокко. Иногда, после какой-нибудь особенно безобразной сцены, она становилась просто больной; нервы ее были уже на пределе. Дочери в этом винили только отца – и не скрывали от него своего мнения. В душе ван Леберга совесть боролась с нарастающим озлоблением. Мадам ван Леберг не соглашалась с дочерьми, упрекала их в черствости, но те вновь и вновь напоминали ей об их общих страданиях.
– Все, что мы вынуждены терпеть, мы терпим во имя жизни отца, не забывайте об этом, – говорила им мать. – Вы ведь знаете, кто ваш отец, – говорила мадам ван Леберг, в чьих глазах былое сияние, окружавшее ее мужа, ничуть не померкло. – Ради того, чтобы отец жил, все можно вынести…
Случалось, что Клэр, вздохнув горестно, говорила:
– Лучше бы уж он не жил!
Мадам ван Леберг, слыша такое, разражалась рыданиями; но у Клэр, собственно, и не было иной цели, кроме как вызвать у матери слезы. Ибо отчаяние – как опиум: в небольших дозах оно неприятно, но когда ты вкусил его в полной мере, то больше уже не можешь им насытиться и, даже помимо своей воли, делаешь все, чтобы слышать вокруг себя все новые и новые рыдания.
Но однажды случилось, что слова дочери услышал и сам ван Леберг. И несмотря на полную их абсурдность, несмотря на то, что они противоречили всему, что он знал и в чем был убежден, – принял их всерьез. С этого дня, поначалу принуждая себя, но позже с маниакальной страстью все больше веря в собственные фантасмагории, он лелеял в душе ужасную мысль, что он всем лишь мешает и семья задумала от него избавиться: ведь жизнь его, которая так дорого стоит, взваливает на них непосильный и все возрастающий груз! Воображение нашептывало ему, что им нужен только удобный предлог, чтобы отказать ему в деньгах на лекарство, такое необходимое для поддержания его жизни. Это казалось ему черной неблагодарностью, вопиющей несправедливостью: разве же не ему обязаны они тем, что долгое время жили в атмосфере всеобщего уважения, даже, можно сказать, славы и имели действительно неплохие доходы, разве не он был отцом, главой семейства, которого они обязаны любить и почитать? Ему вспоминался Мильтон с его дочерьми, и он, увлекаясь, какое-то время красовался перед самим собой в позе старого Мильтона. Но потом сердце его вновь сжималось, и он погружался в тоскливое отчаяние, в раздумья о чудовищном положении, в котором вдруг оказался: вот до чего он дожил, собственные дети хотят его смерти… а может быть, и жена с ними заодно? Эти мысли, накладываясь на боль, то и дело возобновляющуюся, окончательно лишили его способности к творчеству. Возбужденная фантазия находила выход не в литературных образах, а в кошмарных видениях; он во всех подробностях представлял, как жена и дочь сговариваются лишить его жизни, но поскольку отнять у него арканум князя Ниведиты они не смеют, то обсуждают другие способы убийства: например, подсыпать яд в кофе, открыть газ в его кабинете. Страх смерти вновь завладел его сердцем, сочетаясь теперь с каким-то злобным упрямством: ах, его хотят погубить? так он из принципа, им назло не умрет! он покажет им, кто он такой! он все равно будет жить! жить любой ценой!.. В душе его тлела ненависть, шевелились змеиным клубком подозрения, во сто крат превышавшие естественную взаимную неприязнь поколений; упрямство его только усугублялось подспудным чувством, что он глубоко не прав: ведь вечный закон природы и состоит в том, что старики уходят из жизни, оставляя поприще молодым. Ему вспомнились дикие племена, где заведено, чтобы дети убивали своих одряхлевших родителей. Все это лишь увеличивало его страх: изношенные, больные, болезненно чувствительные нервы заставляли его везде чуять здоровую, грубую, молодую, готовую на преступление силу. Страх все больше завладевал им; ища от него защиты, он придумал целую систему суеверных примет, тайных предосторожностей, способов незаметно следить за домашними; на это он тратил едва ли не все свои силы. Бывали минуты, когда он и сам понимал нелепость своих подозрений; но злоба его от этого не становилась слабее: он чувствовал, что при таком душевном настрое никогда не осуществит свои литературные планы. И потому все с большим упорством цеплялся за время, за надежду на долгую жизнь, за лекарство, которое открывало перед ним двери, ведущие в будущее с его свободой, с неведомыми, но прекрасными возможностями! Так жажда жизни, самое естественное из человеческих чувств, превращалась у него в безумную, всепоглощающую манию.