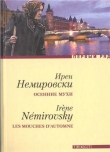Текст книги "Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы"
Автор книги: Михай Бабич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Истина в том, что для Бенедека Шари была мучением – и не только мучением: еще и страхом. Его отношение к любви не было таким простым, как у прочих. Сильные, но подавленные страсти соседствовали в его душе с особенным, тайным страхом. Чем сильнее он вожделел к девушке, тем труднее ему было решиться прикоснуться к ней, но он со скрываемым от себя самого и тем более глубоким содроганьем – да, настоящим содроганьем – думал о том дне, когда это живое и теплое тело станет его собственностью. Близость пугала его, и, видимо, поэтому он терзался виной, оттягивая женитьбу: так или иначе, но в глубине души он благословлял это промедление и едва ли верил всерьез, что свадьба на самом деле состоится. Близость казалась ему чем-то наподобие смерти: каким-то завершающим событием, которое не начало, но конец всему. Ведь жизнь – тоже мука и сплошное усилие, однако все мы боимся смерти… Он боялся близости, как кончины, ведь и самый сильный не знает заранее, что остановит его, окажись он с глазу на глаз со смертью.
Весть о катастрофе не застала учителя врасплох. Он, по сути, всегда знал, что нечто подобное должно совершиться, что иначе этот узел не развязать. Все то, что некогда он чувствовал подсознательно, он теперь осознал в себе как реальность: он сел на берег озера в высокой и вечно чуть влажной траве, нимало не озабоченный тем, что может простудиться или испачкать одежду зелеными травяными разводами, – так заняло его мысли необычайное открытие! Да, он лгал, говоря о «внезапном несчастье», «трагической случайности», «болезненном ударе судьбы» и «крушении надежд»! Он с самого начала воспринял это событие как фатальную неизбежность и восстановление жизненного порядка. Да, это явилось для него радостью и облегчением, освобождением и отрешеньем от уз, и теперь ему самому стало совершенно ясно, что он считал себя каким-то мистическим образом причастным к смерти невесты, и поэтому не хотел, не смел говорить об этом с посторонними, что поэтому он, как виновник, прячется здесь, в горах, поэтому он не в состоянии глядеть в глаза никому из тех, кто знает о случившемся. Но при этом он не ощущал в себе укоров совести, ведь он заранее знал, что все должно было произойти именно так, как произошло. Он оглядывался на прошлое, как с того света, и в нем не было жалости к Шари точно так, как если бы он в самом деле убил ее, или погиб бы вместе с нею, или попросту сделал бы ее своей любовницей… Сейчас, здесь, на берегу опасного озера, в первозданной влажной траве, которая была самим сладострастьем, он наконец понял непротиворечивость древней истины, по которой любовь и смерть – одно загадочное целое или, по крайней мере, сестры… Любовь и смерть, радость и траур, раскрепощение и катастрофа, ужас и похоть – все словно бы слилось воедино в этой долине, и учитель сидел над бездной в каком-то дурмане, сидел, как тот, кто проник в страшную тайну бытия, где бросаются в объятья друг другу властные и непримиримые силы неизвестной мифологии.
Здесь, на озере, время словно замирало для него: он вдруг замечал, что уже смеркается, и ему надо, спотыкаясь и налетая на деревья, ощупью пробираться в сторону дома через страшные лесные дебри. Он весь дрожал в эту пору и часто сбивался с пути, хотя и обзавелся уже для своих прогулок карманным фонариком; истерзанный, перевозбужденный, с взбаламученной душой добирался до дома и всю ночь не мог заснуть, мучась нервной бессонницей. Прогулки на озеро стали для него как бы вредоносным наркотиком и отравляли его, как отравляет яд. Бенедек исхудал, его глаза странно блестели, взгляд порой рассеянно стекленел, учитель всегда теперь казался немного сонным и потерял аппетит. Иногда он вдруг соскакивал с места, как будто вспоминал о чем-то неотложном и это что-то требовало немедленно отправиться на Крошку-озеро шаткими, гипнотическими шагами. Продравшись сквозь заросли и увидев перед собой знакомую, уже очень знакомую картину, он бросался в траву и клал рядом книгу – какой-нибудь пустяковый роман, который везде можно купить за несколько филлеров. Но книга оставалась нераскрытой: он полулежал, вперив глаза в противоположный берег, пока в них не начинало рябить, и тогда с призрачной почти ясностью вырисовывался перед ним там, на другом конце озера, на фоне кустистых, пучками растущих тростников, коричневый нос узкой лодки, он видел длинные, рассекающие воду весла, и хотя вдали, перед буйными тростниковыми зарослями очертания расплывались, он отчетливо видел своими очень, впрочем, близорукими глазами еще и бледное женское тело, обнаженные руки и ноги, и яркое пятно красного купального трико. Виделись или угадывались там и другие человеческие фигуры, но он тотчас узнавал среди них свою, долго вглядывался в нее, стараясь поточнее различить силуэт, наконец глаза начинали слезиться от напряжения или налетал порыв ветра, – и лодка, вздрогнув, исчезала в скорбных волнах. Ветер на озере, как нарочно, обнаруживал себя только порывами, как внезапный озноб: впрочем, заросли тростников оставались неподвижными, хоть и склоняли понуро камышовые булавы и цветущие метелки. Как только эта неподвижность вновь вставала перед взором, снова обрисовывался нос лодки, и Бенедек заново представлял себе весь ход катастрофы до мельчайших подробностей, как мог бы воображать себе какую-нибудь страшную картину тот, кому страсть не дает покоя.
Однажды поздно за полдень, когда он так приневоливал зрение, рядом с воображаемой лодкой вдруг появилась настоящая, которую ни порыв ветра, ни колыхание тростника не могли заставить исчезнуть: эта лодка точно и бесспорно не имела никакого отношения ни к всегда зеленым и волглым тростникам, ни к коричневой линии берега, усыпанного рыжей опавшей листвой, которая казалась лежащей и пламенеющей здесь с какого-то вечного прошлого года, настолько не верилось, что уже вправду наступила осень… Это была настоящая лодка, и в ней какая-то женщина – не в купальном трико, но совершенно одетая – с видимым напряжением работала веслами: казалось, она никак не может пристать к берегу, – лодку странно вращало, словно на озере были сплошные водовороты, как и полагалось по досужим разговорам. Бенедек бегом обогнул озеро и предложил свою помощь. Он бежал как будто во сне, и словно бы входило в сон, что ему сейчас, немедленно нужно сбросить с себя одежду и вбежать в воду, чтобы помочь перемогающейся в лодке девушке в коричневом платье. Однако девушка предупредила, что это опасно, так как озерное дно в этом месте внезапно обрывалось, образовав воронку. Бенедек озирался кругом, не зная, что посоветовать; в конце концов он зацепил крючковатой веткой борт лодки, и, хотя, пока подтягивал, сам едва не свалился в воду, ему удалось-таки подвести лодку к берегу. Девушка без всяких излияний восторга поблагодарила его, а затем они вместе подыскали подходящее место, чтобы приковать лодку цепью.
– Я никогда не видел лодки на этом озере, – сказал учитель.
– Графиня приказала сделать, – ответила девушка. – Напал на графиню такой каприз, что непременно хочет кататься на Крошке-озере… Я ее камеристка, – добавила она.
Учитель также представился. Они вместе пошли по крутой дороге вниз, пробираясь сквозь густые дебри, и, так как мало-помалу стемнело, рука учителя и его карманный фонарик вели даму. Этот путь вниз тоже был похож на сон: то камень скатывался из-под ног, то неизвестный зверек прошмыгивал в темноте, потом вдруг, засияв, вышла луна, и фонарик вернулся обратно в карман плаща; девушка без умолку рассказывала о причудах графини.
– Она один-единственный раз и была-то на озере, – объясняла новая знакомая, – и больше не хочет, уже закаялась. Говорит, насколько красивое озеро, настолько смертное настроение навевает. Даже воздух, говорит, там ее душит. А по правде говоря, тут прекрасно, и грести здесь – одно удовольствие. Я люблю грустить, – романтически прибавила она. – Сегодня только присмотреть за лодкой приходила, но решила, что и в другой раз выберусь, воспользуюсь случаем и греблей позанимаюсь, пока графиня не распорядилась убрать лодку. Я большей частью свободна во второй половине дня…
Она и в самом деле пришла к озеру в другой раз, и у них очень скоро вошло в обычай вместе спускаться с горы: девушка всегда попадала на озеро поздно, когда с неизбежностью надвигались сумерки. У деревни девушка прощалась с Бенедеком: она не хотела, чтобы ее увидели вдвоем с мужчиной.
– Сплетни пойдут, – сказала она. Тогда Бенедеку показалось, что ответить нужно чем-то галантным, вроде: «Самое большее скажут, что одним ухажером у вас больше стало» – или еще чем-нибудь в этом же духе, но девушка так была овеяна странным настроением, присущим озеру, что невозможным казалось говорить с ней в легкомысленном тоне, кроме того, как камеристка или, скорее, компаньонка графини, она представлялась Бенедеку образованной привлекательной дамой без всяких признаков ветрености. При всем том девушка предупредила его незаданные вопросы и заметила тихо, что у нее нет и не будет воздыхателя.
– Мой жених умер. Наложил на себя руки. – Она мгновенье помолчала и продолжила: – Пустил себе пулю в лоб, когда мои родители не согласились на нашу свадьбу. Ведь я потеряла бы место в графском доме…
На учителя ее слова подействовали странно: он вдруг позволил своей душе повиноваться влечению; девушка была для него почти тем же, чем было озеро, гибельное озеро, которое «ежегодно требует своей жертвы». Ведь наверняка и девушка уже знает о нем все, знает, каким образом он потерял невесту; она к тому же из хорошей семьи, склонна к задумчивости и «любит грустить». Он думал об этом целую ночь, представляя себе камеристку среди изящной мебели или на террасе замка, в окружении изысканного фарфора и серебряных приборов, но вдруг почувствовал, что умирает от желания увидеть ее обнаженной в купальном трико, как Шари, или лучше совсем нагой, и вспомнил подростков, которых он видел непристойно голыми, когда они купались в озере, и в ту минуту он понял, что это озеро, собственно говоря, требует наготы, абсолютной наготы, и как странно все же, что он ни разу не попробовал раздеться и искупаться в нем! Какой-то страх, какое-то внутреннее противодействие не допускало его до воды, словно любое купание в озере оказалось бы для него гибельным… Это же чувство, возможно, не позволяло ему сесть в лодку вместе с камеристкой: он предоставил ей грести в одиночку, а себе – помогать ей причаливать к берегу, как в самый первый раз… Нельзя было понять, чего он боится: женщины или озера? Он всегда следил за нею с берега: это было как-то неловко и очень неучтиво, но девушка не подавала вида, что сердится.
Однако однажды Бенедек решился тоже сесть в лодку и начать грести. Назавтра выдалась чудесная погода: каждый бы согласился, что воздух был против обычного насыщен испареньями, солнце в то утро было более свирепым, а туман более горячим, чем всегда. Когда время подошло к полудню, тростники казались дряблыми, как разваренные макароны; пожухшие травы обвисли и напоминали разложенные по берегу подушки. Что случилось этим полднем, никто уже в точности не узнает. Мертвые тела камеристки и учителя нашли на следующий день; лодка застряла вверх дном в камышах.
Перевод Р. Бухараева.
ВСЕГО ОДНО ЛЕТО
Правдивая история
Каждый раз, когда я вспоминаю тот случай, мне становится немного не по себе. А ведь с тех пор прошел уже добрый месяц – дивный летний месяц, когда ты наконец переводишь дыхание после долгой, трудной зимы и начинаешь немного свыкаться с мыслью о спокойной, уединенной работе, которая ждет тебя в маленьком дачном домике на холме, где можно часами не уставая стучать на машинке.
Нет, я должен написать об этом; пожалуй, надо было сразу же написать, тогда, может, не было бы у меня сейчас так тяжело на душе.
Перед дачным сезоном у каждой хозяйки – масса хлопот и проблем. Гувернантка наша нам изменила и отказалась ехать на дачу. Одна приятельница жены посоветовала ей:
– Почему бы тебе не нанять на лето к ребенку бедную девушку из хорошей семьи? Самый надежный, самый дешевый, к тому же испытанный метод. Дай объявление, скажем, по радио или где хочешь. Наверняка найдется девушка, которая рада будет поехать с вами за питание и жилье, за возможность провести лето на лоне природы, на свежем воздухе.
О лето, живительный воздух, сельский обильный стол, поля, лес, холмы! Жене моей вспомнилась юность, лучезарные дни давних летних вакаций, и сердце у нее сжалось, когда она представила бедных девушек из хороших семей, годами лишенных возможности вырваться из нездорового, душного города, где они заперты, словно в тюрьме.
– Прекрасная мысль! Вот только… – Это «вот только» в наши дни часто прячется за прекрасными мыслями. И мудрено ли: дела идут все хуже и хуже, венгерский писатель зарабатывает сейчас куда меньше, чем прежде…
– Собственно… я подумала, этим летом мы обойдемся, пожалуй, и нянькой…
– Полно, милая, ведь так даже гораздо дешевле! Эта девушка согласится жить у вас лишь за питание; оплатишь ей дорогу, места у вас достаточно, выделишь отдельную комнатенку – и весь день в саду. Да она счастлива будет!
Честно сказать, я во все это не очень вникал: дел было и без того по горло. После обеда, с гудящей головой, я ушел к себе в комнату отдохнуть немного: это было в тот самый час, когда радио через все свои демократические рупоры и простые наушники разнесло по огромному городу и по забытой богом стране, прокричало и прошептало в уши сотням и сотням бедных, измученных голодом и жаждой девушек, забывших о том, что такое чистый воздух, коротенькое, в несколько слов, объявление, которое сочинила в соседней комнате моя заботливая, предприимчивая жена.
Я прилег на диван, но в тот же миг зазвонил телефон, это наглое, громогласное домашнее чудище, деспот пештских квартир. Из-за которого мой дом – отнюдь не «моя крепость».
Взволнованный женский голос попросил к аппарату мою жену. Та немедленно догадалась, о чем пойдет речь.
– Как, уже? – воскликнула она, недоверчиво беря трубку. – Еще двух минут не прошло, как прочитали «annonce»[47]47
Объявление (фр.).
[Закрыть]. Кто-то прямо от репродуктора бросился к телефону. Ну нет, я не клюну на первую же приманку.
– Будьте добры, приходите, пожалуйста, лично… Нет, я все же сначала хотела бы вас увидеть… – раз десять повторила она в трубку немного досадливым тоном. Ей всегда трудно бывает закончить телефонный разговор, не то чтобы она так уж любила болтать – просто боится выглядеть невежливой с собеседником. А на этот раз собеседник или, вернее, собеседница была на редкость настойчивой: можно было подумать, от того, сколько она успеет рассказать о себе и какое произведет впечатление, зависит вся ее дальнейшая жизнь.
Прийти лично… А вдруг место за это время уже займут?..
Наконец жена попрощалась и положила трубку. Но в ту же минуту телефон зазвонил опять.
– Простите, по радио сейчас сказали… – торопливо заговорил несмелый, но настойчивый голос. Беседа на сей раз была не столь долгой; но едва она кончилась, раздался третий звонок. А за ним – четвертый и пятый. Жена даже не успевала отойти от телефона; а когда она подняла трубку в пятый раз, задребезжал звонок у входной двери.
Перед нами, с трудом переводя дыхание, словно перед этим долго бежала, стояла бледная, миловидная девушка, почти подросток. Она бросала вокруг робкие взгляды и, несмотря на наши приглашающие жесты – жена еще не закончила разговор, – ни за что не хотела присесть.
– Я здесь недалеко живу, услышала вот радио и подумала: схожу сразу, пока никто не опередил, – лепетала она, наивно округляя глаза.
Она не успела закончить фразу: телефон опять затрещал. И тут же раздался новый звонок в прихожей.
Теперь к телефону пошел я: жена занята была с посетительницами. Я дал себе слово обходиться без церемоний. Каждая новая претендентка лишь осложнит нам задачу. Жена вообще с трудом принимает решения в подобных вопросах. Достаточно тех, кто придет сам. Остальным надо беспощадно отказывать. Я попробовал говорить, что место уже занято.
Но звучащие в трубке далекие голоса, исполненные отчаяния и надежды, напрочь лишали меня твердости:
– Ради бога, запишите хотя бы адрес, – умоляли они. – Вдруг все-таки… Мало ли что…
Я решил отпугивать их, суровым голосом осведомляясь, хорошо ли они слышали объявление.
– Это вовсе не должность, мы никакой платы не обещаем.
О да, они прекрасно все слышали, никакой платы.
– Это довольно высоко на горе, далеко от города и, увы, насчет удобств и комфорта не очень…
– О, я в этом смысле нетребовательна, даже буду еще с удовольствием помогать по дому!
Один чиновник, недавно сокращенный с должности, рекомендовал свою дочь: он был особенно подобострастен и говорил особенно умоляюще. Потом позвонил один мой старый знакомый. Я обрадовался: наконец-то можно поговорить о чем-то другом; но оказалось, старый знакомый хотел составить какой-то родственнице протекцию все на ту же «должность».
– Да поймите же, это совсем не должность, речь идет всего только об одном лете, – сказал я, подняв трубку в очередной раз. И по тому, как задрожал в трубке голос моей собеседницы, понял: есть люди, для которых одно лето, целое лето на полном обеспечении – недостижимая, сказочная мечта.
Жена тем временем тоже держала круговую оборону. Звонок на двери все время трещал, в прихожей, меряя друг друга враждебными взглядами, толпились ожидающие своей очереди молодые женщины; несколько человек стояло уже в коридоре. Консьержка внизу вся извелась, наблюдая это странное-паломничество. У жены голова шла кругом. А девушки все шли и шли: красивые и просто привлекательные, скромные и интеллигентные, одетые бедно или изысканно. Иногда даже очень изысканно. Одна кончала монастырскую школу, другая знала несколько языков, у третьей было рекомендательное письмо от какой-то сиятельной особы… И все они обожали детей и природу, и ни у одной из них не было никаких требований насчет комфорта.
Все были счастливы, если могли хотя бы оставить свой адрес или получали разрешение позвонить завтра.
Жена склонялась к тому, чтобы остановиться на самой первой позвонившей нам девушке, но в суматохе не могла собраться с мыслями и отложила решение на следующий день. Правда, тем, кто не очень ей нравился, она, набравшись духу, сообщала, что решение уже принято. Это были душераздирающие сцены. Каждая вторая из отвергнутых разражалась горькими слезами.
– Вот всегда так: вечно я оказываюсь последней, – всхлипывала какая-то белокурая худышка. – Куда ни ткнусь, кругом все уже занято.
Одна девушка протянула моей жене букетик роз – и бесхитростной этой взяткой совсем разжалобила ее. Многие приходили с матерями, а от тех непросто было избавиться. Чаще всего это были настоящие дамы, у которых муж занимал в свое время хорошую должность, но в данный момент пребывал без работы; кое-кто ссылался на общих знакомых. Дочь прекрасно изъясняется по-немецки и по-французски…
– В этом никакой необходимости нет. Пусть ребенок сначала по-венгерски научится говорить…
– О, моя дочь все умеет, за любую работу берется, – спешила заверить мать, испугавшись, как бы про ее дочь не подумали, что у нее слишком тонкое воспитание. Она согласна была бы отдать дочь даже в служанки без содержания. – Сейчас ведь, знаете, вовсе не так, как раньше…
Жена, совершенно измученная, заявила, что никого сегодня больше не примет. Однако звонок в прихожей все не смолкал. Вновь пришедшие пускались в пространные разговоры с горничной, рассказывали ей про свою жизнь, выспрашивали, пытались задобрить. К телефону, подходила теперь гувернантка, которая вскоре должна была нас покинуть. Она по крайней мере умела быть холодной и беспощадной. Бедлам продолжался и на другой день. Квартира наша оказалась в настоящей осаде. Пришлось отключить звонок, чтобы я мог работать. Соседи не могли взять в толк, что у нас происходит.
А после обеда посыпались письма. Кроме обычной увесистой стопки, какую я получал каждый день, почтальон принес около трех десятков конвертов, адресованных жене и надписанных каллиграфическим школьным почерком или корявыми, неумелыми буквами с грамматическими ошибками. Среди них были два-три послания в дружеском, даже фамильярном тоне: редко напоминающие о себе знакомые просили в них обратить особое внимание на ту или иную из претенденток. Но больше располагали к себе наивные умоляющие письма тех, кто не был ничьим протеже. Сколько лирики, сколько искреннего чувства вложено было в эти, от самого сердца идущие строчки; они звучали как вздохи, чистые, трогательные, безыскусные девичьи вздохи, долетевшие из провинции, из вросших в землю домишек, стоящих на пыльных улицах в душных, сонных местечках… Сколько в них было униженности, тоски, сколько надежды хоть на капельку счастья… Словно выросшие в неволе пичужки пытались расправить крылья в тесной и темной клетке…
– Нет, это ужасно! – воскликнула моя жена. – Как я могу распоряжаться столькими судьбами!
И расплакалась прямо в прихожей, за неимением лучшего – на груди у сочувственно молчащей горничной. Всем нам хотелось заплакать вместе с ней. Господи, в какое мы время живем! Маленькая, невинная хитрость, которая обещала сберечь нам немного денег, вдруг заставила нас испытать такие угрызения совести, такую страшную силу власти над ближними… Что будет дальше с этими бедными, милыми, умными, юными и восторженными созданиями? Кто остановит эту лавину страдания, кто утолит это море печали?
Всего одно только лето, лето без нужды и без забот: какой пустяк!.. А для них – вожделенный предмет надежд, сказочная мечта, сама воплощенная радость. Если бы знали богатые, как дешево стоит возможность сделать человека счастливым!
Перевод Ю. Гусева.