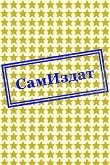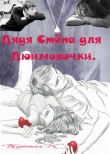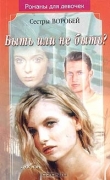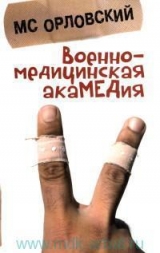
Текст книги "Военно-медицинская акаМЕДия"
Автор книги: Михаил Орловский
Жанр:
Медицина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Лекция 62 О ВЕТЕРАНАХ
Последний бой, он трудный самый.
Из песни
Как один день, отгремел выпускной. Будто час пролетел отпуск. Секундой показались все шесть лет обучения. Как же скоротечно бежит земное время! Многие академики переженились на своих близких подругах и обрели новый статус: человек семейный, накормленный.
Шаг в семейную жизнь ими оказался сделан совсем не потому, что уж жениться ой как хотелось (или что-то там чесалось), а потому, что страшно всё-таки настоящему мужчине одному жизненный путь прокладывать. Пусть даже и с кортиком. Привык он, понимаете ли, так сказать, с рождения около груди тереться. Уже на уровне инстинкта. Сначала мамулечка. Затем alma mater. И вот теперь, после выпускного, далеко не всем улыбалось оставаться в гордом одиночестве. Именно по сей причине у большинства товарищей интернатура началась в статусе человека женатого, шибко разумного.
Михалыч тоже стал семейным. Причём дважды. Семейный муж своей супруги и семейный эскулап. Точнее, вторым он ещё не стал, но очутился в интернатуре именно по названной специальности. Оказавшись там, друг наш вновь погрузился в глубины букварей и учебников. Вновь началась неистовая работа во всех клиниках и больницах города, коих в те времена перевалило далеко за сотню.
Одним из первых клинических циклов в интерновском расписании продолжительностью в четыре месяца значилась щедрая на запахи и пострадавших гнойная хирургия. Местом положения изучения данного предмета назначалось не что иное, как медсанчасть № 18. В те года медсанчасть ещё располагалась на Полюстровском проспекте. Именно в ней Михалыч и столкнулся с тремя ужасами жизни в нашем Царстве. Но обо всём по порядку.
Итак, шефство над нашим ретивым товарищем взял опытнейший хирург, вдумчивый клиницист и просто отличный человек Юрий Николаевич Богжданов. Разумеется, что Юрий Николаевич отпирался от неопытных врачей-интернов, как мог, но, глянув в их светлые глаза, сдался и решил хоть как-то помочь медицине и внести лепту в уменьшение нашего врачебного кладбища. Стоит заметить, что, несмотря на двадцатилетний стаж работы и полжизни, отданных медицине, Юрий Николаевич проживал в коммунальной квартире вместе с женой и уже давно повзрослевшим сыном. Именно тогда Михалычу открылся первый ужас нашего существования (жизнью подобное тяжело назвать) и встал вопрос: а оно мне надо? Тем не менее самостоятельное плавание начиналось далеко не скоро, пока шла учёба, и отказываться от неё на седьмом году было бы непростительно грешно. Тем более здесь, в медсанчасти, руки не вязали и разрешали делать абсолютно всё. Практики хоть отбавляй. Михалычу дали две палаты, скальпель с зажимом в руки и вперёд. Колдуй, так сказать. Разумеется, Юрий Николаевич не посмел бросить процесс на самотёк. Он встал рядом и тщательно и посекундно контролировал каждый шаг юного доктора, поэтому впечатлительных читателей прошу к пугающим мыслям не обращаться.
Для тех, кто не в медицине, смело сообщаю: контингент гнойной хирургии составляют самые различные воспалительные процессы в мягких тканях человека. Таковыми являются и флегмоны, и абсцессы, и панариции, и ещё всякая куча самых различных гнойничковых (пиодерьмоидных) инфекций. Однако здесь, как и везде, на фоне общей гнойной массы достаточно легко выделялся особый отряд людишек. Отряд количеством в две четверти пациентов. Чаще всего подобные людишки представлялись мужским полом, находящимся в районе около сорока-пятидесяти лет, ведущими образ жизни «Пей, кури и веселись» и не сильно заботящимся о своём здоровье. Поводом для попадания последних в гнойную клинику являлось самое распространённое среди подобного контингента заболевание – ОЭСНК. Переводилась нозология не иначе как «Облитерирующий Эндартареит Сосудов Нижних Конечностей». Или, если на простом языке, «Частичное подгнивание культяпок». В общем, двумя словами, механизм болезни сводился к следующему.
Существо, похожее на человека, выпивало и курило. Спало. Опять курило. Вновь выпивало. Подобие с человеком пропадало окончательно. Но самое главное, что на подобные вливания организм реагировал двояко: на первое действие сосуды расширялись, а на второе – сужались. Подобная пляска у каждого продолжалась по-разному, но итог всегда оставался неизменным. Сосудам надоедало столь откровенное издевательство и они, недолго думая, а точнее, совсем не думая (в сосудах нет костного мозга. – Авт.), просто-напросто слипались. Происходило подобное обычно в одном из трёх мест: голове (инсультик), сердце (инфарктик) или ногах (наш драгоценный гнойный клиент). Если взрыв происходил в первых двух местах, то пациентом обычно занимался патологоанатом. А если поражались последние описываемые члены, то запускался очередной этап повреждения. На данном этапе начинали холодеть ноги. Существо на сей факт плевало, что есть мочи, или мочило, что есть плёва (не умираю же), и выпивало дальше. Вслед за похолоданием вылезала и новая оказия: перемежающаяся хромота. Опять, вместо того чтобы увидеть необходимого врача, пострадавший встречался с Зелёным Змием и Табакеркой. И вновь травил себя, и травил… и травил.
И лишь тогда, когда развивалась необратимая гангрена (а обратимых не бывает!), любитель выпить бежал, точнее, ковылял напрямую к доктору и плакал тоскливо в белый халат: «Что-то нога почернела и болит». Доктор смотрел, вздыхал и, отпустив шутку с мытьём ног, отвечал: «Гангрена у вас, батенька. Ампутировать надо бы, по бедро». На сиё заключение больной пытался возражать, просил какую-нибудь мазь, но предупреждение врача в стиле «без ампутации сгниёте целиком и заживо» неизбежно приводило несчастного пациента к нам. То бишь, ни больше ни меньше, как в медсанчасть № 18.
Михалыч, который постепенно поднабрался опыта на флегмонах и панарициях, стал потихонечку оперировать гангренозных больных. Давались подобные операции ему с трудом, но, к большому счастью окружающих, без летальных или иных непостижимых последствий. Вскоре рука товарища окрепла и набилась, а процедура отымания конечности стала даже вполне привычной.
Утро. Операционная. Чистота. Клиент на столе. Зафиксирован. Заинтубирован. Михалыч купается в «Первомуре», сушится полотенцем, поданным медсестрой из стерильного бикса. Оттуда же достаётся халат и перчатки, в которые ловко упаковывается наш вышеупомянутый академик. Подойдя к операционному столу, он, с помощью своего наставника, обрабатывает пострадавшую ногу спиртом, йодом и иммобилизирует стерильным бельём. После иммобилизации в ход идёт драгоценный (видно из названия) раствор «бриллиантовой зелени». Раз и всё. Именно зелёнкой, будто маркером, Михалыч рисует линию предстоящего разреза. Изобразив художества, он хватает со стола блестящий скальпель и вперёд.
– Помним о ровном лоскуте, – наставляет Юрий Николаевич, говоря о линии разреза для последующего создания анатомически верной культи.
– Есть! – козыряет интерн и прогоняет из рук дрожь.
Учитывая слабонервную читательскую публику, коей в наше время существует в избытке, само иссечение подгнившей конечности я описывать не буду. Так сказать, по морально-этическим соображениям. Отрезанная культяпка тяжело падает в пакет и отправляется в патологоанатомическое отделение, на гистологическое исследование. Операционная же бригада после бесконечной писанины в истории болезни, шурша подошвами, отправляется испить утренний чай. Ближе к обеду, конечно.
Так происходит изо дня в день. Из месяца в месяц. Из года в год. И поток «желающих» ампутировать себе часть тела почему-то не иссякает. Иссекает в данном случае Михалыч, чувствуя себя в подобные минуты скорее мясником, нежели врачом. Мясником, отделяющим голяшку от туши. Приятного мало. Процесс бесконечный.
Потрудившись на благо человечества, вечером, после работы, наш товарищ возвращается в родные пенаты. Он устало тащит уже свои ноги по бульвару, едет на автобусе и садится в ближайшее метро. На ступенях эскалатора он по привычке раскрывает учебник и исчезает в нём. Его тело трясётся в бесчисленных тоннелях Боткинской подземки, быстро преодолевая большие расстояния. Увлекательное чтение медицины, как правило, продолжается весь путь. Порой Михалыч даже проезжает мимо нужную ему станцию и едет обратно. И вновь проезжает. И лишь одно может оторвать его от потрясающего чтения.
Лишь одно…
На N-й станции в дальнем конце вагона Михалыч слышит привычную для мегаполисных горожан речь: «Уважаемые граждане. Помогите, кто чем может инвалиду, ветерану кавказкой войны. Дай Бог вам и вашим детям здоровья!» Субъект, говорящий подобное, сидит в инвалидном кресле. Одет он в военно-полевую форму. На голове берет. На груди значки. Отсутствие одной ноги говорит о том, что инвалид действительно сказал правду. Но Михалыч, полезший к себе в карман за милосердным червонцем, вдруг неожиданно смущается. Он замирает, и пальцы, уже захватившие в кошельке милостыню, безжизненно разжимаются. Смущение, зародившееся в руке, хватает академика за горло и ползёт к голове. Михалыч растерян. Однако при ближайшем рассмотрении ветерана товарищ всё же детально понимает, что конкретно его смущает. А смущает его именно сидящий в коляске человек. Человек, выписанный из их драгоценного стационара, не давеча как месяц назад. «Ещё и эпикриз его помню», – подумал Михалыч и про себя возмутился: «Ничего не скажешь, ветеран. Ногу в бою потерял! Далеко в неравном бою. с алкоголем». Остальной контингент электрички верит значкам и медалям и милостиво подсыпает пепла в дальнейшие боевые действия.

Уже позже, изучив вопрос метрополитеновских привокзальных попрошаек, коллега наш выяснил, какие баснословные деньги они зарабатывают. А потом по старой схеме: магазин – ликёро-водочный отдел – запой. Вследствие подобного круговорота начиняют теряться и остальные висячие конечности и прочие органы. Михалыч тогда милосердный червонец не отдал. Он лишь молча просидел в шоке.
Когда же «ветеран» вновь поступил на ампутацию второй ноги, он не забыл случай в метро. При первом же обходе «участник войны» честно поделился прибылью с Михалычем за то, что последний не сдал его там, в подземке. А когда товарищ наш стал отказываться от денег, «ветеран» с усмешкой добавил: «Ты чё, бери. Теперь у меня двух ног не будет! За это ещё больше денег дают!»
Вот так для доктора открылся и второй ужас нашего существования.
А медсанчасть потом закрыли. Зачем городу не приносящая доход больничка? Сотворили оное по стандартной схеме. Сначала из лечебного учреждения оформляется реабилитационный центр. Затем говорится о несостоятельности реабилитации, и её продают с открытых торгов. А на торгах подобное – это лакомый кусочек, ведь больше половины клиник и госпиталей Боткинбурга находятся в позиционно выгодных местах и территорию занимают немалую. Именно подобным способом уже закрыли больницы на Васильевском острове, на Петроградке и на Фонтанке. В наши дни вплотную подобрались и к базе Акамедии на Пушкинской, и к самой Акамедии, и к 442-му госпиталю, раскинувшемуся на Суворовском проспекте, рядом со Смольным. А зачем, говорят, больницы? Не рентабельно!..
Это третий ужас нашей «жизни».
Лекция 63 О РАЗНИЦЕ
Если нет разницы, зачем платить больше?
Из рекламных слоганов
Вообще, на отделении гнойной хирургии Михалычу удалось многое для себя почерпнуть и интересного узнать. Узнать такого всего парамедицинского и даже совсем не имеющего отношения к его отрасли. В плане опыта «гнойка» оказалась отличной школой. Подобных знаний в наших (и зарубежных) учебниках точно не встретишь.
Одной из подобных информаций явилось понимание осознания. Осознания положительного отношения к своему здоровью некоторых людей. Точнее, отсутствие подобного отношения. И сразу возник вопрос: как лечить подобных товарищей, если они сами себя пытаются зачехлить? Невозможно же помочь тому, кто сам себе роет яму. Хотя неопытный Михалыч всё же пытался осуществить невозможное. Но это случилось чуть позже. Сначала мой коллега обратил внимание на то, как по-разному относятся к себе люди. И примером подобному отношению явились двое его пациентов, одновременно поступившие на лечение в славную N-ую медсанчасть.
Перед знакомством с больными наш академик заметил некоторые изменения в любимой клинике. Изменения разместились на лестнице и несколько порадовали моего товарища. Так, между первым и вторым этажом, где не курил разве только некурящий, вместо предупреждений о запрете курения и штрафах висели более действующие таблички. Таблички, сменяя друг друга, гласили:
НЕ В НОГАХ СЧАСТЬЕ
затем
ПОКУРИЛ, ВЫПИЛ, ОТКИНУЛСЯ
потом
РАК ЛЁГКИХ – ЭТО НЕ СТРАШНО
и, наконец,
НА ТОМ СВЕТЕ ТОЧНО ПОМОГУТ
Первый пациент оказался настоящим ветераном Великой Отечественной (или как её называют в расширенном варианте – Второй мировой) войны. Он поступил с нехитрым диагнозом: «флегмона левого бедра». При осмотре дедушки Михалыч обратил внимание на удивительную гладкость кожи, которую первый имел в свои неполные восемьдесят три года. Да, если честно сказать, дед выглядел вообще чудесно. Подтянутый, бодрый, с минимальным количеством морщин. Славный лысенький живчик. Такому и младенцы могут позавидовать. Единственное, чего не хватало у ветерана, – это восьми пальцев на руках. Михалыч, разумеется, поинтересовался отсутствием маленьких вездесущих помощников. Дескать, дедуля, где потеряли? В ответ пожилой пациент поведал: «Приказ Верховного Славнокомандующего Иоськи Сталина до последнего бороться за живучесть танка. Я данный приказ выполнял до конца и вот итог». Михалыч представил поле боя, горящий танк, и кошмар войны охватил его, уже с намёком на седину, голову.
Выйдя от деда, товарищ мой зашёл в соседнюю палату, куда поступил второй пациент. Оному товарищу тоже предстояло близлежащее хирургическое вмешательство. Этот клиент хоть и оказался моложе предыдущего на сорок два года, внешне легко мог потянуть на ветерана Первой мировой войны. Хотя некоторые коллеги утверждали, что данный субъект с лёгкостью мог сойти за родного сына какого-нибудь из египетских фараонов. Дабы не проводить аналогию на пустом месте, попробую детально описать вышеупомянутого пациента.
Первым делом бросалась в глаза ужасность клиента. Больше всего выделялась рожа. Рожа лица (не путать с одноимённым заболеванием). Она была красная, морщинистая и опухшая. Сам же пациент на ощупь казался дряблым и отёкшим. На руках, правда, имелись абсолютно все пальцы, но толк от них практически не присутствовал. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, почему отсутствовал толк. Тряска конечностей, достигающая силы второго класса вибрации (по шкале вибрации), свела на нет любые вопросы толка. И было понятно, что даже танка пациент в глаза не видел. Войны, слава Всевышнему, не случилось, а вот призывную кампанию он точно пропустил. И сам не помнит как.
– Синячите? – глядя на облик пострадавшего (облик, потому как личности уже нет. – Авт.), спросил Михалыч.
– Бывает, – пробурчал больной, хотя подобная информация не нуждалась в подтверждении.
– Это был риторический вопрос, – тихо пояснил товарищ.
Помимо внешности у вновь поступивших пациентов различались и диагнозы. Случай с юношей (а относительно деда второй пациент не тянул выше юноши. – Авт.) оказался более серьезным, чем история с ветераном. Иными словами, морщинистого клиента готовили прямиком к ампутации. Ампутации на уровне средней трети бедра. Однако моего академика поразило не то, что мужчина в сорок лет по своей дури станет инвалидом первой группы. Нет. Моего товарища поразила колоссальная разница между ним и ветераном-дедушкой. При форе в сорок с лишним годков мужик достойно обгонял деда. И обгонял прилично. Как минимум, лет на двадцать. И отставать не собирался.
– А ещё говорят, что кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт, – тихо вспомнил Михалыч и не спеша поплёлся намываться в «Первомуре».
Лекция 64 О ДОВЕРИИ, ПОВЕРИИ И ПРОВЕРИИ
И нюх, как у соба-ба-ки, и глаз, как у орла.
Песня из м/ф «Бременские музыканты»
Уже хлебнув опыта практики и немного свежего гноя, мы вовсю старались увязнуть в недрах медицины. Плюс появилось рвение к работе. Ещё хотелось максимально плотно обследовать каждого поступившего пациента. Провести лабораторную диагностику. Заглянуть инструментально. Выписать лучшие лекарства. Хотелось многое, и даже было не лень оставаться на ночные дежурства. И не только с симпатичными медсёстрами.
В ту благую пору интернатуры нам активно хотелось работать. Мы, будто наивные дети, ещё не задумывались о размерах благотворительности родимой медицины. Хотя именно там, в интернатуре, нам и пришлось столкнуться с проблемой смехотворной оплаты медицинского труда. Кошмары нищеты медперсонала бросались в глаза моментально. Они вылезали из углов и сыпались с потолка. Ими оказались пропитаны койки отделения и халаты сотрудников. Именно тогда обнаружилось, что нормальные доктора практически скопом побросали рабочие места и разошлись кто куда. Некоторая часть ушла в торговлю, некоторая в рабочие, а меньшинство – на пенсию. Несмотря на подобное массовое бегство из стана Здравоохренения, ниша медицинского состава не опустела, словно банка с огурцами на праздничном столе.
Нет. В столь ушлом Царстве подобное не могло случиться. Где угодно могло, а у нас фиг. Не на тех напали.
Радужный читатель уже, наверное, возрадовался. Дескать, вот мы молодцы. Быстро и чётко готовим медкадры. Столько молодых перспективных врачей, медсестёр, санитарок. Широка страна моя родная!.. Однако хитрый автор ворвётся в ваше ликование и не разделит оптимистичный настрой дорогого читателя. Нет, нет, нет. Только не в этом случае. То есть я хочу сказать, что насчёт кадров всё выглядит немного иначе.
Итак, медицинские работники дружно разбежались. Разом. Скопом. Галопом. Ещё вчера стояли здесь, и всё. Нет никого. Подразделение медицинского персонала распущено. Как говорится: «Целуем крепко. Пишите письма. Шлите бандероли. Будут деньги – высылайте». И вдруг, смотрите. Спустя короткую толику времени опустевшая ниша медицинского братства быстренько заполнилась. Заполнилась она всего двумя категориями медработников. Но это не врачи общей практики с гинекологами. Нет. Это другие. Чужие. И не совсем добрые. Первая категория: докторишки, придумывающие несуществующие диагнозы и лечащие от несуществующих заболеваний. Они оказались падкими на деньги и клятве врача России предпочли клятву Бенджамину Франклину, розовому Вантовому мосту и Хабаровску. Для тех, кто не в курсе, о чём я, могу с лёгкостью пояснить. Дело в том, что в начале XXI века вышеперечисленные символы олицетворяли основные денежные купюры максимального значения, имеющие ход в нашем Государстве. Это сто долларов, пятьсот евро и пять тысяч рублей соответственно (пояснение для читателей следующих столетий. – Авт.). Именно к ним и тянулись данные обсуждаемые алчные граждане. И вторая категория: врачишки, купившие свои драгоценные дипломы в переходах метрополитена и иже с ними подобных структурах. Эти негодяи оказались более коварны и опасны, нежели первые. Да и логично всё. С купленным-то дипломом по-другому никак. Вот мне как раз с подобным псевдодоктором и пришлось столкнуться, когда по наивности своей я безоговорочно поверил в любимых коллег.
В один не самый ненастный день случилась беда. Моего старого хорошего знакомого, пятидесяти лет от роду, побили разбойники. В роли разбойников выступали не хулиганы, как многим подумалось, а опасные люди из Органов МВД (Министерство Высших Дубин, об этом отдельная книга!), которые оказались страшнее любой мафии. Когда-то им было позволено легально носить оружие для защиты гражданского населения. В наше время задумку несколько изменили, и Органы Дубин могли избить любого гражданина прямо посреди белого дня.
Просто так. От скуки ради. Да хоть на центральной улице. Не приведи Авиценна.
Однако вернёмся вновь к знакомому. Николая Фёдоровича (именно так его и звали) с тупой травмой спины, головы и души госпитализировали в больницу № 003. В приёмном покое знакомому оперативно (часа через четыре, максимум шесть) сделали УЗИ, обнаружили подоболочечное (да простят меня доктора за жаргонную терминологию) кровоизлияние на почке и благополучно отправили на урологическое отделение. На урологии Фёдоровича тоже не обошли вниманием и поспешили назначить лечащего врача. Лечащий врач, бросив беглый взгляд на очередного пациента, взял перо и сделал в истории болезни нужные отметки. Отметки гласили о необходимости лекарственного лечения и контрольном дневнике осмотра. Так называемый минимум миниморум. С той долгожданной (для нас) минуты врач и стал поправлять Фёдоровичу его здоровье.
Так всем нам казалось поначалу. На самом же деле, данный медработник чуть не загнал моего знакомого в глубокую и безвозвратную инвалидность. Тяжёлую инвалидность. А что? Долго ли, умеючи?
Итак, Фёдорович лежал. Он пил прописанные пилюли и потихоньку предъявлял жалобы на спину. Мол, побаливает, окаянная. Да и ворочаться тяжеловато. Доктор смотрел в глаза и говорил: «Хондроз» и ничего значимого не делал. По окончании второй недели госпитализации у Николая Фёдоровича разом отказали ноги и тазовые органы. Налицо вся клиника перелома поясничных позвонков. Я иду с челобитной к лечащему врачу. Последним оказывается врач высшей категории по сложной фамилии Ара…тюнян. Ничего не имея против данной национальности (и вообще, против любой национальности) и заприметив в ординаторской цитату Вовы Маяковского:
Антисемиту
не место у нас —
все должны
работой сравняться.
У нас один
рабочий класс,
и нет
никаких наций,
– я представился сам. Затем расспросил про знакомого. Прослушав в ответ краткое резюме по Фёдоровичу, я аккуратненько поинтересовался:
– Извините, коллега, а не перелом ли у него поясничных позвонков?
На что мне «врач высшей категории» ответил:
– Да ну. Какой перелом, слушай? Нет перелома. Это дегенеративно-дистрофический синдром. – Его палец многозначительно поднялся вверх. – Типа вроде, пьёт много. Вот он у нас и неврологом консультирован.
Ну, думаю, может, и взаправду так. От Змея Зелёного ножки-то отказали. Сам видел подобных клиентов (правда, квасили они раз в десять больше). А я про перелом подумал. Уж больно клиническая картина на него похожа. Да и анамнез соответствующий. Скорее всего, ошибся я. Ведь рентген-то они наверняка сделали, к бабке не ходи. А Коля действительно периодически крепенько за воротник закладывал. Пускай и не часто. Кто же тогда мог знать, что невролог от уролога тоже недалеко ушёл. И категорию у себя имел весьма с ним схожую. За ту же цену, стоит полагать.
Наступил день выписки знакомого. Волоча Фёдоровича под мышки, я получил выписной эпикриз на руки. Пробежал по нему дважды и даже прочитал между строк. Я нашёл все анализы, УЗИ и лечение. Я нашёл там даже фамилию заведующего, кривую печать и опечатку в типографском шаблоне. Единственное, что никак не хотелось находиться, так это злополучное исследование. Именно нужное мне исследование. Рентгеновское исследование.
– А где..? – хотел было спросить я про недостающее исследование. С этой целью я даже открыл рот и поднял вопросительно свои глаза. Я только сейчас заметил, что как-то случайно их обронил. – Дак, где..?
– Не нарывайся на рифму, – холодно ответил мне коридор отделения, и всё стало ясно не только потому, что я поднял глаза, но и потому, что рентгена не существовало и в помине. Врача, вручившего выписку, уже тоже след простыл.
Возмутившись от обиды и укусив Фёдоровича за локоть (свой локоть не достать, а ситуация, как говорится, «кусай локти»), я поехал в другую городскую больничку сдавать необлучённого Николая-инвалида настоящим коллегам. В качестве настоящего коллеги выступил мой славный однокашник Серёга Бранников, уже третий год работавший в стезе нейрохирурга.
Недоверчивый читатель здесь может восторженно воскликнуть: «Ага! Попался-таки к концу повести! Тоже мне, правдивые мемуары! Как можно третий год работать врачом, если он ещё в интернатуре?» А я отвечу: «Можно, и ещё как». Если у нас диплом о высшем медицинском образовании не проблема приобрести, то уж имея рвение к работе, в клинику ты всегда сможешь устроиться. Просто по трудовой оформлялся один человек, а работал наш Сергей (кстати, отличнейший доктор, могу сказать). Первому – стаж, второму практика. Так что товарищ мой действительно выполнял обязанности нейрохирурга и в день своего суточного дежурства встретил нас в приёмном покое. Запихав Фёдоровича под установку старого доброго дедушки Рентгена, мы, конечно же, сразу увидели очевидное: перелом первого поясничного позвонка со смещением.
После этого случая я всегда и везде пользуюсь поговоркой: «Доверяй, да проверяй», вследствие чего хожу только к проверенным врачам.
К самым проверенным.
Например, к однокашникам.
Или к себе.:-)