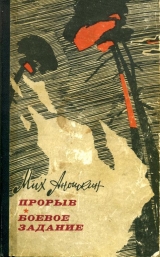
Текст книги "Прорыв. Боевое задание"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
Днем над лесом пролетел «фокке-вульф», почти на бреющем полете, и сбросил листовки. Трудно гадать – или немцы засекли маленький отряд, или это была простая случайность, что листовки очутились именно в том месте, где дневали хлопцы Анжерова. Вчера, как, только закончили формирование, двинулись догонять колонну. Решили пробираться к шоссе: там легче сориентироваться. Но разведка, вернувшись оттуда, доложила, что на шоссе полно немцев. Капитан круто изменил маршрут, свернул вправо, в лес. Сейчас эти листовки. Неужели немцы что-нибудь пронюхали?
В листовке писалось, что советские войска разбиты или окружены. Пал Минск, на очереди Москва. Сопротивление бесполезно, дальнейшее кровопролитие бессмысленно. Лучше сдаваться в плен и кончать войну. Листовка служила пропуском. Для пущей убедительности на обороте была отпечатана карта, на которой жирный черный удав сдавливал тоненькое красное колечко.
Игонин ходил по биваку и отбирал листовки. Некоторые сами рвали, и некоторые огрызались:
– Боишься, командир? Думаешь, поверю брехне?
– Кто тебя знает, – усмехнувшись сказал одному из таких Петро. – Тебя жалко. Давай, давай. Начитаешься всякой отравы, а потом будешь маяться тяжко. Возиться с тобой придется, но ты сам не дурной, видишь: когда же с тобой возиться?
Красноармеец, худощавый такой, с пасмурным взглядом, сложил листовку вчетверо и положил в нагрудный карман. На Игонина не обратил внимания, будто перед ним было пустое место. У Петра потемнело в глазах.
– Порви! – шепотом приказал он. – Слышишь?
Красноармеец не собирался выполнять приказ.
– Ты! Порви, говорю!
Тот поднял на Игонина глаза, в которых сквозь пасмурность пробивалась злость, упрямо мотнул головой:
– Не порву!
– Порвешь! – голос у Петра сорвался.
– Не скрипи! Командир выискался! Какое твое дело? Хочу рву, хочу берегу.
Однажды, когда Петро впервые прибился с дружком к черноморским рыбакам, один парень, черный, как цыган, франтоватый и наглый, принялся смеяться над ним. Петро не умел танцевать, вот цыган и зубоскалил. Было это возле клуба, в ясный вечер, при девушках. Петро кипел, но держался, пока парень не отмочил что-то очень соленое и обидное. Вот тогда у Петра потемнело в глазах, и он не помнил, что делал. Очнулся тогда, когда четверо рыбаков оттащили его от цыгана, который лежал на земле, стонал и ругался похабно и забористо.
Сейчас случился такой же провал в самообладании, и Петро неожиданно для всех, кто наблюдал эту сцену, тем более для виновника, схватил его за грудки, притянул к себе с такой силой, что у того треснула под мышками гимнастерка.
– Подлюга! – хрипел Петро в побледневшее лицо насмерть перепуганного бойца. – Душу продать задумал, фашисту душу продать хочешь. Не выйдет, вытрясу из тебя сам, вытрясу, подлюга.
Андреев подскочил к Игонину, схватил за руку, спросил с упреком:
– Очумел?
– Уйди! Я его... – Игонин качнул парня сначала влево, потом вправо и со всего размаху отбросил прочь. Парень отлетел метров за десять и завалился в куст орешника. Лежал сначала не шевелясь, видимо, собирался с духом. Вдруг вскочил, поднял винтовку, которая тоже очутилась в орешнике, вскинул ее быстро, целясь в Игонина. Петро как-то даже стал выше, подобрался, выпятив грудь, и двинулся медленно, не спуская глаз с парня, вперед, на сближение с черным злобным кругляшком дула. Цедил сквозь зубы:
– Струсишь, падла. Струсишь, не выстрелишь.
Андреев заорал:
– Опусти винтовку! Опусти, говорю тебе!
Игонин шел и шел на сближение, медленно, неотвратимо, и рука у парня дрогнула, винтовка опустилась, штыком уперлась в землю, Игонин выхватил ее и, взяв за ствол, замахнулся, как дубиной:
– Убью!
Парень схватился за голову и со всех ног бросился бежать. Петро кинул на землю винтовку и, низко наклонив голову, зашагал в глубь леса, где расположился Анжеров. Григорий еле поспевал за ним.
Капитан, лежа на животе, рассматривал схему местности на обороте листовки. Плохо – в отряде ни у кого не нашлось даже завалящей карты. Та, что была перед прорывом, осталась у Волжанина. А без нее командир слеп. В листовке более или менее правильно нанесены крупные населенные пункты – Барановичи, Слоним, Ганцевичи. Слоним где-то недалеко.
– Товарищ капитан, разрешите обратиться?
Анжеров поднял голову, еле заметная улыбка скользнула по губам:
– А, комвзвода один! Чего такой хмурый? Случилось что-нибудь? – капитан сел.
– Я, товарищ капитан, чуть не побил красноармейца. Вот Андреев видел.
– Ого! – Анжеров вскочил на ноги, отряхнул гимнастерку и брюки от прилипших желтых иголок и соринок. – Что-то новое в командирской практике.
– Андреев лучше расскажет, он все видел. Если и приврет – не обижусь.
– Отставить! – это слово капитан произнес мягче, чем обычно, как-то обыденно и нестрого. Игонин сразу уловил этот тон и с жаром принялся рассказывать, как тот красноармеец отказался сдать листовку и как он, Игонин, рассвирепел.
– Что вы добавите, Андреев? – спросил Анжеров и как-то сбоку, остро глянул на бойца.
– Все правильно, товарищ капитан.
– В этом я не сомневаюсь. Я вас спрашиваю о другом – как вы оцениваете поступок Игонина?
Петро переминался с ноги на ногу, ни на кого не глядел, он был сейчас пришибленным, жалким. Не ожидая, когда закадычный друг Гришуха даст оценку его поведению, Петро сам решил ускорить ход событий.
– Вы меня разжалуйте, товарищ капитан. Командира из меня не вышло.
– Мне отвечать обязательно? – спросил Андреев.
– Да!
– Игонин погорячился, товарищ капитан, это правильно. Я не оправдываю его.
– Еще бы! – усмехнулся капитан.
– Его, наверно надо наказать, дело ваше, а разжаловать...
– Пожалели друга?
– Нет! – неожиданно твердо возразил Андреев, и капитан даже с любопытством приподнял брови: интересно!
– Продолжайте!
– Необходимо устранить, товарищ капитан, самое главное – плохое настроение у бойцов.
Анжеров пристально, изучающе посмотрел на Андреева, потом на Игонина, и вдруг горячая волна уважения к этим двум друзьям захлестнула его. Нет, Анжеров не был сентиментальным, ему нельзя быть сентиментальным по роду своего занятия. И наверно, в любое другое время он бы строго взыскал с любого командира, который проявил бы невыдержанность, как проявил ее Игонин. Но сегодня сложились несколько необычные обстоятельства и ему, капитану, в них приходится несладко, без помощников, без знания обстановки, с этим отрядом, сколоченным наспех. И вдруг оказывается, что есть у него помощники, пусть малоопытные, но зато думающие, знающие, что от них требуют, помощники, которые увидели то, что как-то невзначай и непростительно для него, опытного командира, оказалось вне поля зрения – настроение бойцов.
Но обычная выдержка не изменила капитану, друзья так и не догадались, какие чувства обуревали их командира.
– Правильно, Андреев, – похвалил он Григория, – в корень смотришь. – Капитан заложил руки назад, как обычно это делал, и принялся вышагивать взад-вперед перед Игониным и Андреевым, упрямо наклонив голову. Потом остановился и повторил:
– Правильно. Газет не видим, радио не слышим, что в мире делается – не знаем. Прячемся в лесу. А противник листовки сбрасывает. Почитаешь их, и до всякой пакости додуматься можно. Некоторые малодушные эти листовки прячут на всякий случай. Так я говорю?
– Так точно! – гаркнул Петро.
– Не так громко, Игонин. Откуда тут взяться хорошему настроению? Помнится мне, Андреев, что вы кончили педагогическое училище.
– Так точно!
– Зарядили оба, как попугаи, – поморщился Анжеров. – Я ведь с вами советуюсь, так говорите со мной запросто. Перед строем или при бойцах ведем речь, тогда другое. А сейчас мы совет держим, проще чувствуйте себя, можете звать меня по имени-отчеству – Алексей Сергеевич.
– Как-то непривычно.
– Привыкайте. Значит, педучилище?
– Да.
– Попробуйте провести беседу с бойцами, задушевную такую. Можете?
– Не пробовал.
– Смелее. Ну, скажем, вспомните о Чапаеве. Я видел у вас в противогазной сумке книги.
– Есть «Железный поток».
– Замечательно! Почитайте. Соскучился народ по светлому советскому слову. Договорились?
– Хорошо, Алексей Сергеевич!
– При первом же случае и проведем!
Издалека человек кажется всегда менее понятным. Мало понимал Андреев и капитана. Сначала он виделся придирчивым службистом, которому распечь подчиненного ничего не стоит – выгнал же Игонина с мозолью на занятия.
Потом вдруг в глазах Андреева комбат вырос неимоверно, и он безропотно поверил в его командирские таланты. Очутившись в этом пока чужом им отряде, Григорий благодарил судьбу за то, что рядом с ними был Анжеров. Сейчас, после этого трудного разговора, капитан раскрылся совсем с другой стороны – раскрылся как человек, правда, раскрылся очень мало, но и этого было пока достаточно, чтобы настроение у Григория поднялось.
Беседу он, конечно, проведет, хотя, откровенно говоря, побаивается. Но не боги же горшки обжигают!
3Беседу провести, конечно, необходимо, и это будет очень полезно. Однако рассчитывать, что после нее настроение бойцов поднимется, было бы просто непростительно. Это Анжеров отлично понимал. Народ в отряде разномастный, друг к другу притереться еще не успели, все еще жива старая инерция – на привалах держались группами по признаку совместной довоенной службы. Колонна затерялась в лесу, как иголка в сене. Капитан даже подумывал: а не форсировала ли она с ходу и шоссейную дорогу и не устремилась ли на юг, на соединение со второй колонной? Эту возможность капитан не упускал из виду, хотя и держался первоначальной задачи – настигнуть колонну, самому не форсируя шоссе. Жила еще такая надежда. Догонят колонну, и все встанет на свои места. Но командир обязан предусмотреть неожиданности и разные варианты.
Вариант первый. Что, если отряд столкнется с фашистами прежде, чем нагонит колонну? Выдержит бой или рассыплется при первой же опасности? У капитана не было уверенности, что отряд выдержит бой.
Вариант второй. Колонну не догнать. Следовательно, придется на соединение с регулярными частями идти самостоятельно. Сколько это займет времени? Пойдут могучие леса, с питанием будут сплошные перебои. Не разбредутся ли бойцы потихоньку кто куда? Не зря же кое-кто прячет листовки. Учитывать надо и это.
Значит, выход один и главный – всеми силами и возможностями в самое короткое время спаять отряд, сделать из него боевую единицу. Это чертовски трудно, однако задача облегчалась тем, что бойцы успели до войны пройти школу армейской жизни. Есть у них чувство дисциплины, ответственности за себя и товарищей, а главное – они выросли уже при Советской власти, самому старшему из них не больше двадцати трех лет. Этих чечевичной похлебкой с пути не собьешь, для них честь и свобода – не пустые слова и социалистическая Родина – не отвлеченное понятие.
Дело за тобой, капитан. Начинать, пожалуй, надо с простого: выявить коммунистов и комсомольцев и провести с ними собрание.
На одном из привалов Анжеров и Григорий обошли бойцов. Список коммунистов и комсомольцев Григорий занес к себе в тетрадь – двадцать семь человек.
Собрание провели вечером, перед сумерками, когда отряд расположился на ночевку. Прежде чем открыть собрание, Анжеров попросил друг у друга проверить партийные и комсомольские билеты. Такая процедура взаимной проверки была тогда принята, она тем более необходима была в условиях отряда.
Вот поднялась чья-то рука. Анжеров спросил:
– Что там?
Встал коренастый горбоносый боец и доложил:
– Товарищ командир, у одного нет комсомольского билета. Говорит, комсомолец, а билета нет.
– Как это нет? Садись. У кого нет билета?
Поднялся тот самый круглолицый солдат, с нежным девичьим лицом и печальными глазами, который угощал Игонина папиросой, – Феликс Сташевский.
– Объясните.
– Мой комсомольский билет остался в казарме.
Собрание слушало объяснение настороженно, настроение складывалось явно не в пользу Сташевского. У некоторых на лицах можно было прочесть недоверие: «Это еще неизвестно, что ты за гусь!»
– В субботу, – продолжал Сташевский, сильно волнуясь, – командир взвода сказал мне, что поедем в Белосток. С вечера я переложил документы из рабочей гимнастерки в выходную. А утром подняли нас по тревоге. Я подумал, что это обычное учение, и надел старую гимнастерку. Новая с документами осталась в казарме. В казарму я больше не попал. Вот и все. Хотите верьте, хотите нет.
– Не верим.
– Придумать все можно!
– Проверить его надо!
– Тише! – крикнул Анжеров. – Не все сразу!
Собрание стихло. Сташевский низко опустил голову. Уши у него пылали.
– Есть вопросы к Сташевскому? – спросил капитан.
– Кто может подтвердить, что ты рассказал правду?
Сташевский вздохнул. Так случилось, что во время прорыва он растерял друзей. Они, наверное, ушли с колонной.
– Вот видите! – опять выкрикнул кто-то.
– Товарищи... Друзья... – срывающимся голосом горячо заговорил Сташевский. – Честное олово... Отцом-матерью клянусь.
Все снова зашумели. Одни требовали удалить Сташевского с собрания, другие призывали поверить ему и разрешить присутствовать. Андреев не понимал: чего привязались к парню? Разве не видно, что он искренне переживает утерю билета?
– Голосую, товарищи, – сказал Анжеров.
Большинство выразило Сташевокому недоверие. Он быстро взглянул на капитана печальными, полными слез глазами, не видя его, закрыл вдруг лицо руками и убежал. «Почему они ему не поверили? – терзался Григорий. – Он честный, его ж насквозь видно». Хотел возразить капитану – почему же он не вступился? Но, взглянув на него, отказался от намерения – капитан хмурился, на скуле вспух тугой желвак. Нет, это был опять тот капитан, которого знал до прорыва: недоступный как скала.
А собрание пошло своим чередом. Кончилось оно поздно – уже ночь вступила в свои права, теплая, звездная, с непроглядным таинственным мраком леса. Капитан и Андреев вернулись к тому кусту, у которого оставляли Игонина, но Петро куда-то исчез. Вокруг спали люди. Слышался храп, кто-то бредил во сне, бормоча невнятное. Шептались те, кто пришел с собрания, но скоро и шепот умолк – ребята улеглись спать. Разыскивать Игонина не стали, легли под кустом.
Анжеров остался доволен собранием, теперь он знал: опора у него есть надежная.
У Григория из ума не выходил Сташевский. Ставил себя на его место и с ужасом убеждался, что, пожалуй бы, тоже заплакал, если бы с ним обошлись так же.
Вернулся Петро. Прилег рядом с Андреевым и спросил:
– Спишь?
– Нет. Где ты пропадал?
– Посты проверял. Одному цуцику чуть морду не набил.
– Послушай, Петро, – вмешался Андреев. – У тебя то цуцики, то падлы. Всем бы ты морду бил. Надоело, ей-богу. Говори по-человечески.
– Ого! Гришуха начинает меня прорабатывать.
– Нужно мне тебя прорабатывать, – возразил Андреев: ему почему-то не хотелось, чтоб их разговор слышал капитан, но тот наверняка слышал.
– Сидит, понимаешь, под сосной и во всю смолит цигарку. Как затянется, так зарево кругом. Пришлось принять меры.
Замолчали. Слышно было, как капитан повернулся на другой бок, лицом к солдатам. Неожиданно спросил Игонина:
– Вы почему не были на собрании, Игонин?
– Я беспартийный, товарищ капитан. Босяком был, наподобие Челкаша.
– Смотри, ты, оказывается, и Горького читал, – зачем-то подковырнул Григорий: самому даже неловко стало. Да еще при капитане. Но Анжеров будто не заметил этой неловкости.
– Я многое кое-что читал, – обиделся Петро, не ожидавший от друга насмешки, тот никогда еще не подковыривал его: меняется Гришуха, ох, меняется, – Ясно тебе? И вообще, Гришуха, давай не будем подкалывать, я тоже это умею. Я, может, когда вы ушли на собрание, сиротой себя почувствовал, болваном, дураком, места не находил, а ты мне шпильки ставишь.
– Зачем же обижаться, Игонин? – вступился Анжеров. – Шутки надо уважать. Чем же вы занимались до армии?
– Я? Ходил по белому свету.
– Искали что-то?
– А черт его батька знает. Может, и искал.
– Что же?
– Наверно, счастье. Что же еще?
– И нашли? – По голосу чувствовалось, что капитан улыбается. – Какое оно?
– Сермяжное, – засмеялся Петро. – Колючее, как тот еж, в руки никак не дается. Ну его к ляду, то счастье, товарищ капитан. Глупым был, взялся было за ум, да вот война.
– За ум браться никогда не поздно.
– Оно, конечно, так, правда ваша. Только я думаю, товарищ капитан, за ум следует браться сразу, когда «мама» научишься говорить.
– Это слишком рано.
– В самый раз, зато к двадцати годам из таких толк выйдет, – Петро сделал паузу и добавил ни к селу ни к городу: – А бестолочь останется, – сам же и хихикнул. Но почувствовал, что сказал невпопад, спросил: – Товарищ капитан, вам когда двадцать лет было, что вы делали?
Андреев напрягся: интересно, что ответит капитан? Григорий не мог угадать, каков будет ответ. Почему-то ему, как ни странно, и в голову не приходило, что Анжерову тоже когда-то было двадцать лет.
– Безработным был.
Григорий сначала решил, что ослышался, хотел переспросить. Но до Игонина, видимо, тоже не очень дошел ответ капитана, и он переспросил раньше Андреева:
– Как это безработным?
– Очень просто. Никого у меня не было. Отец погиб в империалистическую, мать с младшим братом умерли с голоду в двадцать первом. Я батрачил у одного мироеда. Всю душу из меня вымотал, тогда я и подался в город, в Ростов. А работы себе не нашел – трудно тогда было с работой. Двадцать седьмой год.
– А потом?
– Вы же спросили, что я делал в двадцать лет, я и ответил.
– Можно еще вопрос? – не унимался Петро.
– Дотошный же ты парень, – улыбнулся Анжеров, впервые назвав Игонина на «ты». И в этом «ты» Григорию почудилось больше теплоты и задушевности, чем в официальном «вы».
«Это хорошо, что он с нами запросто, – думал Андреев, не в силах одолеть дремоту. – Хорошо. И меня будет на «ты» или только Петьку?»
– Не хватит ли? Вот Андреев уже спит, а мы ему мешаем.
– Я еще не сплю.
– Тогда другое дело.
– В армии вы давно, товарищ капитан?
– Одиннадцать лет. Я в армии много учился.
– Да, хлебнули вы в жизни, – вздохнул Петро. Разговор на этом оборвался. Вскоре все трое уснули.
Утром Григорий разыскивал Сташевского, на привале подсел к нему, хотел покурить вместе. Сташевский угостил его папиросой.
– Где ты их взял?
– Папиросы? Машина одна интендантская под бомбежку попала, я пять пачек взял. Две замочил при переправе, остальные докуриваю вот. Хочешь, угощу?
– Не откажусь.
Феликс дал Григорию десяток штук. Четыре Григорий запрятал, а шесть раскурит с Петром. Приглядывался к Феликсу. Всякий, даже неопытный в жизни человек мог безошибочно определить, что Сташевский из интеллигентной семьи, никогда физическим трудом не занимался. Лицо у него нежное, одухотворенное. Гимнастерка на спине топорщилась, воротник был великоват. Обмотки намотаны неумело, спадали вниз. Но той беспомощности, которая так бросилась в глаза Григорию на собрании в нем теперь не было. Видимо, вот эта неуклюжесть в одежде создавала впечатление беспомощности, и только.
– Поляк, что ли? – спросил Андреев.
– Обрусевший. Мой прадед участвовал в польском восстании, это еще в прошлом веке. Его сослали в Сибирь.
– Понятно. Откуда сам?
– Из Москвы.
– Родные там?
– Мать, отец, сестра.
– Отец-то кто?
– Профессор Высшего Бауманского училища.
– Вон ты какой! – удивился Андреев. – Почему вчера заплакал?
Феликс взглянул с укором, и Григорий пожалел, что задал такой неуместный вопрос.
– Вы думаете, мне легко?
– Вообще, конечно, история... Восстановить тебя трудно будет.
Феликс не отозвался. Подали команду подниматься. Сташевский вскочил, закинул за плечо винтовку и заторопился в строй. Григорий наблюдал за ним и подумал о том, что Феликсу, неприспособленному к трудностям человеку, тяжелее, чем другим. Потому что все, кого Григорий знал, в том числе и он сам, не были избалованы ни роскошью, ни особым вниманием. Жизнь их не оберегала так заботливо от нелегкого и колючего, как она оберегала Феликса. Видимо, вчерашние слезы были не только выражением обиды, но и сумятицы, которая творилась в его душе.
4Третий день по лесу, третий день без пищи. Кончилось и курево. А колонны нет и нет, даже следы исчезли. Словно сквозь землю провалилась. В таком лесу с могучими дубами, липами, непременными в этих местах соснами в два обхвата и косматыми березами, в лесу, раскинувшемся на сотни километров, могла затеряться целая армия.
Отряд капитана Анжерова был оторван от внешнего мира и не знал, что делается на белом свете. Уже два дня, как не слышно гула самолетов. Порой казалось, что на земле тихо и спокойно, нет никакой войны, а кошмар первых военных неудач просто приснился.
Без хлеба... Ели грибы, ягоды, сдирали слизистую кожицу с берез. Посланная вперед разведка привела заблудившуюся в лесу игреневую лошадь, с пугливыми фиолетовыми глазами. Капитан приказал зарезать ее и мясо раздать бойцам. У лошади спутали ноги, повалили ее и выстрелили в сердце. Кровь до единой капли собрали в котелки, а потом варили ее и ели. Каждому досталось по куску свежего мяса, и был пир горой.
Утолив голод, бойцы повеселели и подобрели. Жизнь теперь казалась не такой уж невыносимой, как часа два назад. Одно удручало – не было курева. Вспоминали, какую курили махорку до войны, а главное, привередничали тогда много – этот сорт не хорош, этот слаб, давай получше. Сейчас бы любой сорт сгодился. А махорочка-то была какая – моршанская, гродненская. Гродненская самая сердитая.
Вспоминали. Растирали засохшие листья берез, перемешивали получившуюся труху с мохом и дымили беспрестанно, но душу отвести не могли. Курево из листьев и мха было кислым и горьким, от него до боли першило в горле, дым до слез ел глаза.
Шесть папирос, которые дал Феликс, давно были выкурены, а четыре Григорий умудрился сохранить. Четыре полные папиросы! Настоящие! Петра обуяла детская радость, он принялся пританцовывать. Но капитан остудил его пыл. Он забрал у Андреева все четыре папиросы и пустил их по кругу – «по-казацки». Разделил курящих на четыре группы, каждой выдал папироску. Головной закуривал, сразу передавал второму, второй затягивался всего раз, отдавал третьему. Самые последние кричали азартно:
– Легче, легче затягивайся! Не один! И нам надо!
Все глотнули по разу ароматного, вкусного папиросного дыма. Папиросы докурили до такой степени, что остались от них замусоленные бесформенные ошметки. Мало, совсем мало досталось каждому, а вот поди-ка: повеселели хлопцы! Совсем повеселели!
Капитан по-товарищески обнял Григория за плечи, от чего Андреев напрягся – ему и нравилось это, и в то же время робость брала. Спросил запросто, как и Петра, – на «ты»:
– Так где у тебя «Железный поток»?
– Здесь, – показал на противогазную сумку.
– Видишь, какое настроение – самое подходящее для тебя. Представь, что ты политрук. Ну?
– Сделаю, Алексей Сергеевич!
Он бы, наверно, и на луну мог прыгнуть, если бы приказал капитан. Тот обошелся с ним, как товарищ с товарищем, с человеком, которому безгранично верит.
Капитан приказал бойцам рассесться в круг.
– Поплотнее, поплотнее, – говорил он, показывая руками, как плотнее садиться. Когда уселись, объявил:
– Слово предоставляю товарищу Андрееву. Это наш политрук. Прошу учесть на будущее.
Капитан сел рядом с Игониным. В кругу, на виду у сотен глаз, Григорий остался один. Сначала лица казались сплошной безликой массой, но потом стал различать знакомых. Вон тот, остроносый, с пасмурными глазами, не хотел отдавать Игонину листовку, и дело чуть не кончилось трагически. Странная была у него фамилия – Лихой. Совсем не подходящая к характеру бойца. Петро, когда узнал об этом, схватился за живот:
– Как, как?
– Иван Лихой.
– Хо-хо! Ох, и шутники же эти люди – надо же этому хлюпику дать такую грозную фамилию!
Лихой расположился рядом с Куркиным, бойцом атлетического сложения. В первый же день появления Куркина в отряде капитан сделал ему замечание за неряшливый вид, но это впрок не пошло. Григорий замечал, что Куркин частенько ходил в этаком растерзанном виде – гимнастерка нараспашку, пилотка поперек головы. Штыка у винтовки нет, так он ее носит дулом вниз. Сейчас Куркин жует что-то.
Еще один новый знакомый пристроился в сторонке – Шобик. Парень скуластый, белобрысый, костлявый. На его спине очень заметно выпирали лопатки. Как-то на большом привале Шобик заснул на посту. Григорий тогда был караульным начальником и пошел проверять часовых. Шобик спросонья чуть его не застрелил. Пальнул без всяких, ладно рука у него дрожала, а то мог бы убить. Поднялась тревога, думали, что напали немцы. Пришлось нерадивого снять с поста. На смену должен был прийти Феликс, да Григорий пожалел его, не стал будить. Остаток вахты достоял сам, хотя и не положено делать этого караульному начальнику, но никто не заметил нарушения. Шобик привалился спиной к сосне, надвинул на лоб пилотку – видно, собрался вздремнуть. Ну и черт с ним. Зато Феликс смотрит во все глаза, подбадривает. Чего подбадривать? Оторопь сама собой пропала. Вот сейчас прочту отрывок из «Железного потока», тот, когда отряд Кожуха прорывался сквозь ущелье, и посмотрим, что будет.
Григорий читал тихо, но выразительно. Сначала бойцы вроде шумели, и до задних рядов чтение доносилось с пятого на десятое. Но отрывок был интересный, близкий по духу нынешней обстановке, и всем хотелось послушать. Задние зашикали:
– Тише, ничего не слышно!
– Громче читай!
Григорий дождался окончательной тишины и продолжал читать так же негромко, и теперь все слушали его, даже Куркин перестал жевать, а Шобик сдвинул пилотку на затылок. Пропала у него дремота. Когда кончил, закричали:
– Шпарь еще! Здорово написано!
– Продолжай!
Но Григорий спрятал книгу в сумку и сказал:
– В следующий раз, друзья. Мне хотелось бы напомнить вам еще об одном герое гражданской войны. О нем писатель Фурманов написал роман, а режиссеры братья Васильевы поставили фильм – о Чапаеве. Я этот фильм смотрел раз двадцать, честное слово. Кто из вас не видел этого фильма?
Враз загалдели, заулыбались.
– Нет таких?
– Не-ет!
– Помните, как лавина казацкая летела на чапаевцев, а за пулеметом ожидала их Анка?
– Она еще волосы на себе рвала! – крикнул кто-то.
– Не рвала, чего ты брешешь! Ка-ак резанет из «максима», – возразил Куркин. – И здоровеньки булы, казачки!
– Нет, послушайте, а когда Петька объяснял про щечки! Умора! – кричал боец, у которого конопушки залепили нос и ту часть щек, что прилегала к носу. Звали его Сашей.
И пошло. Растревожил бойцов Григорий и уже не смог управлять беседой. Она помчалась сама, как строптивая горная речушка по камням-перекатам. Люди измучились душой, истосковались по доброму живому слову. Теперь вдруг открылись друг другу и увидели, что у каждого за спиной не только их маленькое, порой непримечательное прошлое, но и прошлое их отцов, прошлое революции и ее героев! Нет, не сами по себе живут, не ради личного спасения прячутся в этом белорусском лесу, а сохраняют силы для решительных боев и копят святую ненависть к захватчикам, чтобы защитить то, что штыком и саблей утвердили на русской земле Чапаев и Кожух, чтоб оградить от грабителей завтрашний день Родины, ее будущее. Каждый сидящий здесь знал это и раньше, и дело не в ораторском искусстве Андреева. Он только правильно учел настроение, затронул ту струнку, которая дремала в глубине души каждого. Разбередил эту струнку и сделал прекрасное дело, от него сегодня большего и не требовалось. Анжеров был рад, что сумел рассмотреть в этом чернобровом парне то, что может принести великую пользу отряду, – талант политработника. Да, да этот талант только проклюнулся, но он есть, и это главное. Андреев не сможет так молодецки отдать рапорт, как Игонин, может быть, не полезет безрассудно в самое пекло, как тот же Игонин, но это ему и не надо. У каждого есть свое.
Анжеров ничего не сказал Андрееву, ни одного слова похвалы. Но он крепко, до боли пожал руку, и этого было достаточно. Петро покровительственно похлопал друга по спине – молодец, Гришуха!




