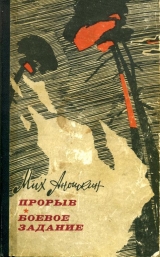
Текст книги "Прорыв. Боевое задание"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
1Полыхало солнечное утро.
Андреев проснулся. Не хотелось не то что двигаться, а и пальцем пошевелить – такое блаженное тепло разлилось по телу. Глаза открывать не опешил. Слышал, как приходил связной из штаба и увел с собой лейтенанта, как потянулся Мишка Качанов, даже косточки хрустнули, пропел:
– Охо-хо, хохонюшки!
Ишакин заметил насмешливо:
– У тещи на перине прохлаждаешься, блинов ждешь? Не будет блинов, понял?
– Плевал я на блины. У меня концентрат есть. Пшенный, краснознаменный.
Сержант рывком сел и, протерев глаза, спросил:
– Лукина так и нет?
– Лукин на аэродроме с грузином чай попивает, – отозвался Мишка, а Ишакин покачал головой:
– Не подфартило парню.
Сосна, у которой спали гвардейцы, находилась на отшибе. Пространство вокруг нее было залито ослепительным светом. Мишка нежился. Ишакин ушел собирать хворост.
Андрееву бросилась в глаза одинокая фигура партизана, сидящего поодаль на пеньке. Чудилось в ней что-то отрешенное и грустное. Партизану, видимо, перевалило за пятьдесят. Поношенный пиджак перепоясан брезентовым поясом и перекрещен пулеметной лентой, как у матроса-красногвардейца. Вместо левой ноги торчала деревяшка, ловко привязанная сыромятными ремнями к культе. Партизан докуривал «козью ножку». Как потом Андреев узнал, табачок выпросил у Мишки Качанова. От едучего дыма щурил глаза и с любопытством поглядывал на гвардейцев.
– Послушайте! – позвал его Андреев. – Где тут вода?
Партизан положил винтовку, которую до этого держал меж колен, на землю и встал.
– По этой тропке иди, – начал он объяснять, жестикулируя. – И никуда не сворачивай. И будет там ключик.
Еле заметная тропка змеилась по вырубке и пряталась в сосновой чаще.
– Дай схожу, сержант, – вскочил Мишка Качанов.
– Ладно, я сам, – и Андреев, забрав два котелка, направился по тропинке в лес.
Кто проложил эту тропу? Чья она? Топтали ее немецкие кованые сапоги? Или на этой тропе, подстреленный вражьей пулей, истекал кровью партизан? Возможно, сохранилась она с мирных времен и фашисты сюда не смеют сунуться?
Идет Григорий по незнакомой тропинке настороженно, отвык от леса. Больше всего приходилось мотаться по степи. Пахло сухими опавшими колючками и смолой. Сквозь сплетения ветвей процеживаются тоненькие столбики солнечного света. Новое, неизведанное чувство приподнятости и грусти охватило Григория.
Миновав мелкий сосновый лесок, Андреев очутился на полянке, залитой солнцем. Не сразу обратил внимание на девочку, которая стояла на тропинке и смотрела на него. На ней мешковато сидело поношенное платьице и трудно было определить, какого оно цвета. Видимо, сшито из когда-то белого парашютного материала. Русые волосы давно не знали гребенки, скатались в змейки.
Много повидал Андреев детей на горьких тропах войны. Но увидев эту девочку, вздрогнул. Лицо ее распухло, казалось недетским. Распухли ноги и руки. Сквозь узенькие щелки глядели на Андреева внимательные, удивительной синевы глаза. Не бойкие, не любопытные, а по-взрослому внимательные и неподвижные.
Григорий сначала и не сообразил, почему так опухла девочка. Мимоходом подумал, что, видимо, она больна водянкой. Но заметив в руке темно-синюю ягоду-черничку, увидев, что губы и щеки вымазаны черничным соком, даже охнул от догадки – девочка опухла от голода. Ходит по лесу и собирает ягоды, потому что есть больше нечего.
Девочка смотрела, смотрела на незнакомого солдата своими неподвижными синими глазами, а потом тихо спросила;
– Ты кто?
– Я сержант.
– Полицай?
– Нет.
– У тебя сухарик есть?
Про сухарик спросила с безразличием, наперед зная, что ей откажут, но именно это безразличие потрясло Андреева.
– Есть! – торопливо прошептал он. – Есть у меня сухарик! Жди здесь, ладно? Я быстро!
– Не обманешь?
– Что ты! – крикнул Григорий и со всех ног бросился обратно, позабыв про воду. Бежал и думал только об изуродованной голодом девочке. Многое пережил сержант за эти годы. Видел детей убитых, изможденных голодом – в чем душа держалась, видел плачущих от ран, онемевших от ужаса. Но опухшего от голода ребенка встретил впервые. На водянистом лице только синие глазенки сохраняли признаки угасающей жизни. «Я ей отдам все, пусть ест, я как-нибудь выдюжу», – лихорадочно думал Григорий, торопясь к своим.
Вот знакомая вырубка, одинокая сосна. Григорий невольно замедлил бег. Возле сосны толпились женщины. Было их, наверно, не меньше пятнадцати. Сбились в тесную кучку. Возле них прыгал на деревяшке партизан, что-то сердито кричал, потрясая над головой винтовкой. Ишакин прижался спиной к сосне и смотрел на происходящее хмуро, с досадой и жалостью. Качанов опустился на колени и, торопливо развязав вещевой мешок, запустил в него обе руки. Он вытащил пригоршню сухарей и опять вскочил на ноги. У Андреева снова больно сжалось сердце. Женщины были опухшие, как и девочка, оставшаяся ждать его на поляне. И если голод, изуродовав тело девочки, не смог окончательно погасить в ее глазах искорок, то в глазах женщин застыло равнодушие ко всему, в них не было жизни. И даже тогда, когда Мишка совал им сухари, глаза их не оживились, они не радовались, в них начисто исчез интерес к жизни.
Колченогий партизан кричал:
– Поимейте совесть, бабоньки! Это же бойцы Красной Армии, им завтра в бой, а они будут голодные. Не берите у них ничего!
Мишка лихорадочно совал сухари в отекшие руки женщин и бормотал:
– Берите, берите... Не слушайте его.
Побледневший Ишакин кусал губу и увещевал Качанова:
– Опомнись, Михаил! От твоих сухарей они сытыми не будут, а ты свободно можешь протянуть ноги.
– Берите, берите, – бормотал Мишка, не слушая Ишакина, и раздавал сухари.
Женщины молча брали сухари и молча совали их в рот. Те, которым еще не досталось, не кричали, не тянули руки, не ждали – достанется так достанется, нет – все равно помирать. Чем бы все это кончилось, трудно угадать. Потому что и Андреев, забыв на миг про девочку, тоже готов был вытряхнуть свои припасы. Ишакин оттер вещевой мешок к сосне, прижал ногой, будто опасаясь, что Качанов доберется и до его «сидора».
Но появился лейтенант с двумя партизанами, молодыми, сердитыми, в серо-зеленых немецких френчах. Один был в кубанке, наискось перечерченной широкой красной лентой, а другой – в фуражке. Партизан в кубанке накинулся на безногого партизана:
– Куда смотришь, Акимыч? Почему допускаешь такое?
– Я-то что могу? – оправдывался Акимыч. – Они прут и прут, что тебе бессловесное стадо. Не стрелять же.
– Гражданочки, прошу очистить площадь. Столпились, как на майдане, а вот он прилетит да как зачнет бомбы кидать, тогда что? Уходите подобру-поздорову.
Женщины молчаливой толпой побрели к лесу. Качанов обхватил голову руками и закачался, будто китайский болванчик.
Ишакин сплюнул сквозь зубы:
– У тебя мозги набекрень, Михаил.
Мишка резко повернулся к нему, глаза сухо горели.
– Рыбья кровь! В жилах твоих рыбья кровь... Не видел разве? Они же не живые женщины. Живые и уже мертвые...
– Не надо расстраиваться, товарищ, – сказал партизан в кубанке. – Побереги нервы, они на другое пригодятся.
Григорий вдруг вспомнил, почему вернулся без воды, вспомнил опухшую девочку, которая ждала его на полянке, торопливо достал два сухаря, банку тушонки и собрался бежать к ней.
Строгим звенящим голосом остановил его Васенев.
– Куда?
– Я мигом, лейтенант.
– Мы уходим.
– Я мигом..
– Отлучаться не разрешаю.
Андреев шумно вздохнул и, закипая, отчеканил:
– Стрелять будешь – все равно пойду!
Девочка ждала его. Он отдал сухари и консервы, неловко провел рукой по голове девочки.
Через несколько минут группа лейтенанта Васенева в сопровождении двух партизан двигалась гуськом по лесу, направляясь к дороге. Перед уходом Акимыч еще раз выпросил у Мишки Качанова махорки на две закрутки, пообещав при случае вернуть долг сполна.
На дороге гвардейцев ждала машина. На ней предстояло проехать тридцать километров до отряда, в котором они должны были воевать. Машина походила на кургузый пикап. Вместо обычного кузова – небольшой, вровень с сиденьем шофера. Кабины тоже не было.
Партизаны передали гвардейцев на попечение шофера, попрощались и скрылись в лесу.
2Всю дорогу у сержанта не выходила из головы девочка. Лето она еще продержится, а осенью начнутся дожди и холода, ни ягод не будет, ни грибов. За какие грехи выпали ей такие муки? Весной на штаб батальона налетел фашистский самолет и его удалось сбить из пулемета. Летчик выбросился на парашюте, и взвод Васенева, прочесывая лес, взял фашиста в плен. Тот даже не сопротивлялся. Спрятался под куст и думал там отсидеться. Руки поднял покорно. В документах нашли фотографию, на которой были изображены две прилизанные белобрысые девочки лет десяти-двенадцати. Фашист сбросил бомбу, она попала в хату, в которой взрослых никого не было, а играло пять малышей – четыре мальчика и одна девочка. Их изуродовало до неузнаваемости. Летчика подвели к обезображенным трупам. У того затряслись губы, он рухнул на колени и стал просить пощады. До сих пор Григорий не мог без омерзения вспоминать его плаксивую рыхлую рожу, размазанные по щекам слезы.
Скоро придет час, и мы предъявим фашистам полный счет за все, что они успели натворить на нашей земле.
На каком-то корневище машину особенно сильно подбросило. У Андреева даже внутри что-то екнуло. Он подумал: «Чего это шофер без разбора гонит свой драндулет? Рессоры у него, что ли, полопались? Так все внутренности отбить может».
Качанов постепенно приходил в себя от встречи с голодными женщинами.
Да, трудные тут дела творятся. Мишке на Большой земле, когда он думал о партизанах, мерещилась сплошная романтика.
Когда особенно сильно тряхнуло, у Качанова слетела на колени пилотка, и он не выдержал:
– Кашалот! Не мешки с опилками везешь!
Шофер повернул голову настолько, чтобы не упускать из виду и дорогу и в то же время Мишку.
– Проняло, – удовлетворенно произнес он. – Похоронное у вас настроение, как я заметил.
– До моего настроения тебе дела нет, – возразил Мишка. – Вези, как полагается, коли сел за руль. Иначе мы тебя вытряхнем среди дороги – я сам шофер.
– Вот это мужской разговор. А что, на Большой земле лучше?
Ему никто не ответил. «Видать, парень разговорчивый, – отметил про себя Андреев. – Мы, действительно, нахохлились». И спросил:
– Послушай, женщин мы тут видели...
– А! – на лету подхватил шофер. – Беженцы. С голоду пухнут. Немец деревни вокруг попалил. Живой кошки с огнем не сыщешь не то, что какой скотины.
– На ту сторону надо переправить, – сказал лейтенант.
Шофер покосился на его погоны:
– Извините, товарищ командир, первый раз вижу эти штуки, не знаю, что означают две звездочки.
– Лейтенант.
– По-старому два кубаря? Ясно. Как же их на ту сторону, товарищ лейтенант? На наш аэродром только «кукурузник» садится, и то не всегда. А пешком куда им?
– А ты не опух, – вставил Ишакин, – харчишки, стало быть, водятся. Шофера умеют жить!
– Меня не задирай, солдат, – незло отбился от ишакинских слов шофер. – Я пайку, хоть хреновую, но имею – шматок сала и кусок сухаря. Им сто граммов муки на болтушку в сутки – и соси собственный кулак. Вот так, друг.
– Смотри, приятель выискался, – улыбнулся Ишакин. – Ты с какого года?
– С девятнадцатого.
Встрял в разговор Мишка:
– Здешний?
Григорий вспомнил первую встречу в этом лесу: «Таракан запечный, хохол здешний».
– Не, – покрутил головой шофер. – Застрял в сорок первом. С самой границы топал, пятки до дыр стер.
Андреев встрепенулся. Ага, свой брат, кадровик. Сорок первый многих прибрал к рукам. Одни погибли, другие оказались в плену, третьи осели в лесах.
Потом ехали молча. Шоферу молчание было невмоготу, принялся дотошно расспрашивать про Большую землю – как там люди живут, много ли в деревнях мужиков. Сначала отвечал Васенев, но постепенно разговор взял в свои руки Качанов.
– Какие мужики? – усмехнулся Мишка. – Бабы да старики. Еще калеки. У вас тут один на деревяшке прыгает – такие.
– Акимыч? Он здорового за пояс заткнет.
– Выпросил у меня сначала на одну закрутку, потом еще на две и успокоил: ты, говорит, не расстраивайся, видит бог, верну, за мной никогда не пропадало.
– Вернет, это точно.
– Где же он меня найдет?
– Чего ж тебя не найти, если жив-здоров будешь? Везу я тебя в отряд Давыдова, а кто этот отряд не знает? Акимыч у нас главный аэродромный начальник, и к рации у него доступ есть.
– Старик с должностью – чайничек-начальничек, – усмехнулся Ишакин.
– С должностью, – подтвердил шофер, резко свернул влево, в кустарник, и остановился. – Перекурим. Видите поганая повисла?
В чистом безоблачном небе медленно плыла «рама» – немецкий разведчик. Самолет действительно напоминал раму – фюзеляж состоял из двух параллельных плоскостей, между которыми была пустота.
– Над Акимычем не смейся, – повернулся шофер к Ишакину, без спроса запуская в его кисет руку. – Боевой дядька!
– Ну-ну! – живо откликнулся Мишка Качанов. – Давай про Акимыча.
– Однажды в плен его взяли. Про Старика слышали? Знаменитый такой партизанский разведчик есть. Ну вот, Старик послал Акимыча в разведку. Пошкандыбал наш Акимыч в деревню, где стояли фашисты. Бредет по улице безногий человек, никому и в голову не царапнуло, что это партизанский разведчик. Идет беспрепятственно, все замечает и на ус мотает, как и велел Старик. А тут беда из-за угла: знакомый полицай, из одной деревни. «Эге! Попался ты мне, Акимыч, я тебя знаю и знаю, кому ты служишь!» А тот ему: «Правда твоя, земляки мы с тобой, о чем душевно жалею. Я-то служу народу, а вот ты, прихвостень, фашистам». Ну, схватили дядьку, второпях забыли обшарить, подумали, какое у хромого оружие? Бились, бились с ним, а он простачком отговаривается – и баста. Видят, ничего безногий не знает, но отпустить с миром – такого у них нету. Уж коли попал в лапы – прощайся с жизнью. Ну и Акимыча хотели пустить в расход. Вывели во двор. Дело зимой было, поставили к сараюшке и двое полицаев на него винтовки наводят. Выхватил Акимыч из-за пазухи гранату-лимонку и как шарахнет в полицаев – наповал. Сам скок к забору, а тут офицер. Акимыч хватил его по голове кулаком, выхватил пистолет – и через забор. А там на счастье подвода стояла, а в ней полицай. Акимыч пристрелил полицая, схватил вожжи и айда. Ему вдогонку стреляли, но он ушел.
– Молодец, – улыбнулся Качанов. – Я тоже люблю загибать, но ты загибаешь с масштабом.
– Иди-ка ты! – рассердился шофер. – Сам ты трепло.
– Свой брат – шофер, – вставил Ишакин. – Язычки у них привязаны будь здоров!
– Про этот случай кого хошь спроси, все знают, один ты темный. Продолжать, что ли?
– Давай..
– Приехал Акимыч к своим, доложил Старику честь по чести, лошадь в обоз отдал. А по деревне слух пошел – одноногий партизан фрицев кучу поубивал, насочиняли чего и не было. Дошли те слухи и до Старика. Позвал Акимыча и приказывает доложить в точности, как было. Акимыч ничего не утаил. «Что ж ты молчал?» – спросил Старик. – «А чего хвастать? Что было, то сплыло». Однако пора. Улетела. Все время летает, высматривает. Давыдов ругаться будет: где, скажет, пропадал?
Васенев молчал. На сержанта и не смотрел. Григорий понял – сердится на что-то, отозвал лейтенанта в сторону и спросил без обиняков:
– На меня, что ли, обиделся?
У Васенева запрыгали желваки, до булавочных головок сузились темно-серые зрачки.
– Откуда взял?
– По тебе видно.
– При рядовых такое сморозил: стрелять будешь все равно пойду. Знаешь, что за такое бывает?
– Ладно, я виноват, погорячился. Но ты мог меня спросить? Мог или нет?
– Мог.
– Почему не спросил? А меня ждала маленькая девчушка, опухшая от голода, я обещал принести ей сухарь.
– Хорошо, не будем об этом.
– Нет, будем. Нужно договориться раз и навсегда. Нельзя, чтоб такое повторялось, нельзя, чтоб мы разговаривали на разных языках и не понимали друг друга. Неужели ты считаешь, что у меня нет других забот, как насолить тебе или обвести вокруг пальца?
– Я так не считаю.
– Почему ж тогда цепляешься за любую малость? Чего добиваешься?
– Эгей, товарищи командиры, поехали! – крикнул шофер. – Ехать далеко, а Давыдов не любит, когда опаздывают.
Васенев направился к машине, не ответив на вопрос сержанта. Он сердился на Андреева за его резкий ответ там, на вырубке, и на себя, потому что чувствовал свою неправоту. Конечно, нужно было спросить, куда хотел идти сержант, тогда не было бы размолвки. А вот не мог сдержаться никак, помимо воли получалось как-то. А Андреев камня за пазухой держать не умеет, говорит напрямик. Это хорошо. И как бы ни больно было Васеневу, но сержанту он был благодарен за это.
Пикап, подпрыгивая на неровностях, продолжал путь.
Вскоре дорога нырнула в темный бор, в самой гущине его шофер свернул на еле приметную тележную дорогу. Колеи заросли ярко-зеленой травой, кое-где в особо глубоких выбоинах поблескивала вода от недавних дождей. Но ехать по этой дороге было все-таки удобнее – не так трясло.
Вдруг на пути вырос человек богатырского сложения, в синих галифе, в фуражке с зеленым околышем. Он стоял, заложив руки за спину, и на груди у него тускло поблескивала Золотая Звезда Героя.
– Давыдов, – тепло проговорил шофер и, остановив машину, выпрыгнул на землю.
– Опаздываешь, Леня, опаздываешь, – мягко укорил его Давыдов. – Не похоже на тебя.
– «Рама» помешала, товарищ комбриг.
– Это с каких пор ты стал бояться «рамы»?
– Я – что! Со мной товарищи с Большой земли.
– Обижаешь их. Это же гвардейцы, что им «рама»?
Васенев попытался было доложить по форме о прибытии, но Давыдов остановил:
– Вижу, что прибыли. Значит, пятый так и заблудился?
– Так точно, товарищ командир!
– Загадочная история, – произнес Давыдов. – Ну, что же, располагайтесь в нашем доме. О делах поговорим потом, – и комбриг широким жестом хлебосольного хозяина пригласил гвардейцев в лес.
«Хороший дом, без крыши, без дверей», – усмехнулся Андреев. Мишка шепнул ему на ухо, глазами показывая на партизанского командира:
– Силе-ен!
«Драндулет» лихо развернулся и умчался обратно, обдав солдат горьким бензиновым дымком.
...Прежде всего нужно привести себя в порядок. Утром позавтракать не удалось – надо перекусить. Перемотать хорошенько портянки и всласть покурить. Надо, наконец, познакомиться с партизанами, установить, так сказать, дипломатические отношения. Ведь отныне хозяева этих лесов и гвардейцы будут связаны одной нелегкой судьбой.
Андреев чувствовал себя в новой обстановке свободно. Сколько раз приходилось ему начинать жить в новом коллективе: его несколько раз переводили из одной части в другую. Привык. Правда, с партизанами не приходилось иметь дело, но разве это другие люди? А если другие, то, пожалуй, поинтереснее будет!
А вот Васенев оробел. Еще в батальоне, принимая взвод, знал – он командир, остальные его подчиненные. Отсюда вытекали отношения. Но какие у него должны быть отношения с партизанами? Что это за люди? Какая у них дисциплина? Партизаны уже два года ходят по острию ножа, много натерпелись и много навидались. Они, должно быть, суровые и нелюдимые, могут его, необстрелянного лейтенанта, и не признать. Комбриг ушел и не сказал, с кем держать связь и за какие дела приняться. У Васенева уже перекипела злость на Андреева. Тронул его за плечо и спросил:
– Что будем делать, сержант?
Андреев чутко уловил незнакомую, мягкую нотку в голосе взводного, понял его состояние и ответил:
– Завтракать, а потом знакомиться. Вот идут парламентеры, встречать надо.
И в самом деле, к гвардейцам приближалась группа партизан, человек шесть или семь, во главе с кряжистым, маленького роста политруком, у которого на левом рукаве гимнастерки виднелась красная матерчатая звездочка. На Большой земле таких уже не носили.
Для гвардейцев начались партизанские будни.
ЛУКИН
1Когда командир корабля подал команду приготовиться, Юра Лукин поднялся вместе со всеми, резко вскочил со скамейки. Вещмешок завязан был слабо и развязался. Содержимое вытряхнулось на пол. Никто на это не обратил внимания. Лишь после того, как в звенящую пустоту нырнул Мишка, капитан увидел Лукина, ползающего на коленях ,и собирающего с пола сухари и концентраты.
– Вай, вай, вай! – закричал растерянный командир. – И зачем таких пускают воевать? Скажи, пожалуйста, зачем?
Лукин и сам понимал, что с ним приключилось неладное и в самое неподходящее время. Даже летчик-наблюдатель присел на корточки, освобождая туловище из стеклянного колпака, и с досадой, смешанной с иронией, посматривал, как Лукин торопливо засовывает в мешок поднятые с пола припасы.
А самолет улетел от костров далеко. Командир корабля хотел приказать второму пилоту сделать вторичный, непредусмотренный заход над кострами, чтобы выбросить незадачливого парашютиста. Но Лукин, наконец, завязал вещмешок, пристроил его на место и, не предупредив грузина, стремительно ринулся к двери.
– Куда! – закричал летчик, он попытался схватить солдата за руку, но не успел.
...Снижаясь, Лукин не видел костров и не придал этому значения. Вспомнил о них у самой земли. Где же костры? Не могли же они погаснуть? И вот тут до него, наконец, дошло, в каком положении он очутился. На миг сделалось страшно, но отвлекла забота – нужно было приземляться, и все мысли сосредоточились на этом. Боялся упасть в гущину леса. Повиснешь на дереве и снять некому. Ведь неизвестно, что за лес: партизанский или бродят по нему фашисты?
Парашют относило к опушке. Луна светила вовсю, земля хорошо просматривалась. Было тихо. Никто не стрелял, не кричал. Откуда в лесу немцы? Они, рассказывают, ночью из деревень носа не кажут.
Вот и земля. Последние метры... И вдруг дикая боль в ноге замутила сознание. Будто сильным током стрельнуло из пятки в самый мозг. Лукин вскрикнул и потерял сознание. Парашют краем коснулся земли и погас, улегшись на опушке.
Лукин очнулся вдруг, словно вынырнул из несусветной тьмы. Лежал, не двигаясь, соображая, что с ним такое стряслось.
Осторожно пошевелил ушибленную ногу. Пальцы двигались без боли. Подвигал ступню – ничего, жить можно. Тогда отстегнул парашютные ремни, с опаской поднялся, стараясь не опираться на больную ногу. Выпрямившись, все-таки перенес на нее центр тяжести, но опять взвыл от боли, еле удержался на здоровой ноге. Присел на пенек, стер со лба холодную испарину. Влип в историю, ничего не скажешь.
Скоро рассвет. Что же делать? Подтянул за стропы парашют, свернул в комок. Переместил вещевой мешок на спину, автомат устроил на груди. Взял под мышку парашют и запрыгал на одной ноге к лесу. Прыгать тяжело. Парашют выскальзывал из рук, автомат неудобно болтался на груди, пришлось перекинуть за спину. Еле-еле доковылял до леса. Здесь передвигаться стало легче – можно опираться на шершавые сосны.
В глубине леса обнаружилась старая воронка от бомбы, заросшая травой и совершенно сухая. Постелил на дно парашют, улегся на спину, под голову приспособил вещмешок.
Не повезло, однако! Есть поблизости партизаны или нет? Живут здесь люди? А может, хозяйничают тут немцы да полицаи?
Главная печаль – покалечил ногу. Пятка огнем горит, будто ее над костром поджаривают. Хорошо, если просто зашиб. Ну, а если кость задета? Впору плакать, но плачь не плачь, слезами горю не поможешь. И измученный, Лукин пристроился поудобнее и уснул.
Проснулся он поздно. Косые длинные лучики солнца, пробивающиеся сквозь сосновые кроны, падали в воронку, в которой он лежал, пригревали ноги и ласкали лицо. С удовольствием потянулся и снова его пронзила боль. Вернулись тревоги, которые дремали вместе с ним.
Юра сел. Мишка Качалов сказал бы: «Надо это дело перекурить». Да, ребята, конечно, меня потеряли. Скажут – струсил Юрка. Нет, сержант догадается, что со мной неувязка получилась. Это он настоял, чтобы меня взяли на задание, а я подвел его. Васенев придирается, искоса на меня поглядывает. Чем я ему не угодил? А теперь, наверно, сержанта пилит, мол, я тебе говорил не брать растяпу, ты настоял, а фактически труса пригрел. Ох, неловко получилось, и сержанту заботушки добавил, и ребята обо мне плохо подумают.
Лукин закурил и ощутил сухость во рту. В желудке что-то заныло. Не ел ничего со вчерашнего вечера. Загасил цигарку, окурок пристроил на камушек – после докурит, кто знает, сколько придется скитаться одному?
Лукин отрезал сала, похрустел сухарем: утолил голод. Потом докурил цигарку и захотел пить. А воды поблизости не было.
В лесу тишина. Ни далекого, ни близкого звука, который бы говорил о присутствии человека. Пичуг даже не слышно. Только дятел долбит клювом по сосне. Рядом где-то. Ага, вон на кривой сосне елозит на брюхе и, как заводной, долбит сильным клювом, как молотком. Ему что – плевать на людские невзгоды, на Лукина тоже. У него не спросишь, как добраться до сержанта.
Палку, пожалуй, придется вырубить, без нее никак не обойдешься. Юра срезал стройную сосенку, очистил от сучков и на него пахнуло домашним приятным смоляным запахом, вроде и жить веселее стало.
А теперь надо решить куда идти. Летели строго на запад, в самолете сидели с правой стороны – выходит, с северной. Когда из «сидора» припасы мои посыпались, кажется, тогда самолет повернул на север. И так держал, пока я не бултыхнулся из него. Ага, приземлился, стало быть, я севернее того места, где горели костры. Ясно. Нужно идти на юг.
Лукин поднялся, сделал первый шаг, которого больше всего боялся – как поведет себя ушибленная нога? Встал на носок, оперся на палку – ничего, терпимо.
И поковылял Лукин на юг, навстречу неизвестности. Двигался медленно, часто останавливался, прислушиваясь.
Но лес молчал и с каждым часом мрачнел. Солнце клонилось к закату.
Впереди наметился просвет. Лукин прибавил шаг, думая, что там начнется поляна. И зажмурился от счастья. Речка! Спряталась в кустах ивняка, махонькая, ворчливая и извилистая. Но какая ни есть – вода! И он ринулся вперед: скорее к воде! Но услышал собачий лай. Лукин лег, облизал сухие губы и осмотрелся.
Лес кончился. Справа, сквозь мелкий березняк, виден серый угол не то дома, не то сарая с соломенной крышей. Собака тявкает там. Вон и мостик жердевой через речушку. Перильца тоже из неошкуренных березовых жердей. Поближе мостков, чуть прикрытая зарослями ивняка, полоскает белье женщина. Да нет, какая женщина – девушка. Выпрямилась, убрала со лба волосы и снова нагнулась к воде. Юбка подобрана, белые сильные икры обнажены. Лукин зажмурился. Стирает, ничего не опасается, значит, в деревне нет чужих мужиков. А свои? Но кто же они свои и сколько их?
От жажды можно умереть. Сил нет терпеть. Будь что будет. Семи смертям не бывать, одной не миновать. Не сгорать же от жажды, если до речки рукой подать. У девушки можно спросить о дороге, о немцах и партизанах.
Лукин решительно поднялся и, опираясь на палку, захромал к речке. Девушка почти рядом.
Юра неловко оступился. Девушка быстро, не разгибаясь, оглянулась на шум. Увидела солдата с автоматом за спиной и палкой в руке, вскрикнула. Выпрямилась и непроизвольно отступила назад, машинально защищая лицо правой рукой, в которой держала мокрую скрученную в жгут кофточку, с нее аппетитной струйкой сочилась вода и звонкой капелью падала в речку. Девушка смотрела на Лукина испуганными глазами. Он смутился и в нерешительности остановился.
– Не бойся, – хрипло сказал Лукин и не узнал собственного голоса, – не трону. Я пить хочу.
Шагнул к речке, упал на живот и, сбросив на берег пилотку, погрузил лицо в речку. Потом, окунув голову, мотал ею, стряхивая воду, и фыркал от удовольствия. Обтерся носовым платком и удовлетворенный сел на берег. Девушка собирала выполосканное белье в плетеную корзину. Роста небольшого, стройная. Русая коса шевелится за спиной. Глаза большие. Собирает белье в корзину и нет-нет да глянет на солдата то из-под руки, то сбоку и все будто невзначай. Напугалась сначала. И как не испугаешься – с луны он, что ли, свалился? А налился до отвала, сидит с мокрыми растрепанными волосами, скручивает цигарку и чему-то улыбается. Ничего в нем страшного нет. Обычный деревенский парень, только в солдатской форме и с автоматом. Нос курносый, и веснушки не сошли.
– Здорово ты испугалась, – сказал Лукин, прикуривая.
– Страшилище, – усмехнулась девушка. – Не таких видывала.
– Глаза-то расширились, с блюдечко стали.
– Они всегда такие.
– Сейчас-то вдвойне меньше стали.
– Скажешь. Откуда взялся-то такой?
Она собралась уходить. Повесила корзинку с бельем на полусогнутую руку.
– Из леса.
– Ой, что-то не похоже, – усомнилась, девушка и сделала шаг к деревне – не хотела ни на минуту задерживаться. Лукин надел пилотку, опираясь на палку, встал.
– Обожди малость, – попросил он. – Я не знаю, куда попал. Немцы здесь есть? А партизаны?
– Сам-то кто?
– Погляди хорошенько, – показал красную звездочку на пилотке, расстегнул на груди шинель, выпятил грудь, обращая ее внимание на гвардейский знак. – Видишь?
– Нацепить все можно. А погоны зачем?
– Как зачем?
– У немцев есть погоны, а у русских я не видела.
– Погоны и у нас ввели. Нынче зимой.
– Ну? – усмехнулась девушка. Тряхнула корзиной, прилаживая ее поудобнее, и решительно зашагала по тропинке к домам. Лишь теперь Лукин рассмотрел, что здесь небольшая деревушка, дворов на двадцать. Дома рубленые, большинство под тесовыми крышами. А тот серый угол строения, который был виден Лукину из леса, был сараем, крытым прелой соломой.
Девушка легко несла корзину на согнутой руке. Коса маятником качалась на спине. Сверкали босые пятки. Талия у нее гибкая, коса замечательная. Сюда бы Мишку Качанова, он бы сразу нашел общий разговор. Меня же она принимает черт знает за кого, погоны смутили. Откуда же ей знать, что наши ввели погоны?
– Но послушай! – сердито взмолился Лукин. – Не съем же я тебя, в конце концов! Неужели я такой страшный, что меня надо бояться?
– Я и не боюсь.
– Тогда погоди.
– А почему я должна стоять?
– Зарядила почему да почему, – кипятился Лукин. – Ну не стой, кто тебя держит. Только скажи по-честному – есть в деревне фрицы или нет?
– Нет, но полицаи приходят.
– Где я нахожусь?
– Поди-ко, не знаешь?
– Честное комсомольское не знаю. Я с самолета ночью прыгнул.
Девушка нахмурила брови. Оглянувшись, подошла к нему и шепотом сказала:
– Уходи в лес, приду за тобой. Стемнеет и приду. С ногой что?
– О пенек ударился.
– Уходи, не стой на виду. В деревне всякие люди есть. Тут сосна спиленная есть, жди возле нее.
Девушка заторопилась, оглянулась. Увидев, что Лукин еще стоит и смотрит вслед, махнула досадливо рукой: мол, уходи поскорее, не ровен час – увидят злые люди.
Лукин захромал к лесу. Разыскал спиленную сосну и присел на нее. До сумерек остались пустяки: час или полтора.






