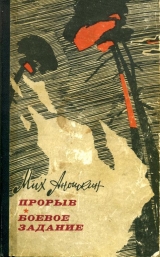
Текст книги "Прорыв. Боевое задание"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
На марше охранение задержало человека, одетого довольно странно: в новенькую командирскую гимнастерку, перетянутую широким ремнем со звездой на пряжке, в синие галифе и ботинки без обмоток, так что видны даже кончики белых тесемок, завязывающих кальсоны. На голове старое-престарое синее кепи с пуговицей на макушке. Раньше пуговицу обтягивала материя, а сейчас материя порвалась, и железная матово-черная пуговица обнажилась.
Анжеров, к которому провели задержанного, окинул его с ног до головы, потом по цепочке объявил привал. Капитан обратил внимание на одну особенность: гимнастерка под ремнем у незнакомца заправлена без единой складки, сразу угадывалась военная косточка. Волосы у задержанного были сивые, но коротко стрижены, ресницы белесые, на лице и даже на кистях рук, как это успел заметить Григорий, бывший рядом с капитаном, дружно выступали веснушки.
Отряд свернул с заросшего проселка в тень орешника и располагался на отдых. Капитан, Григорий, задержанный и красноармеец-конвоир остались у дороги, под тенью старой, с мощным шатром колючек кривоствольной сосны.
– Кто такой? – спросил Анжеров.
– Старшина-сверхсрочник Журавкин!
– Какой части?
Старшина замялся, затрудняясь ответить, и капитан проникся к нему еще большим недоверием.
– Из Слонимской тюрьмы, – наконец решился Журавкин и быстро взглянул на Анжерова, видимо, хотел проверить, какое впечатление произвело это сообщение. Григорий удивленно приподнял свои черные брови. А капитан недовольно нахмурился, как бы говоря этим: «Таких мне еще не хватало!» Спросил:
– Почему из тюрьмы?
– Был осужден ревтрибуналом в сороковом году за утерю личного оружия.
– Как вас угораздило?
– По пьянке.
– Бежал?
– Из тюрьмы?
– Да.
– Нет. Нас не успели увезти. Распустили на все четыре стороны.
– Куда идешь?
– К своим.
– А точнее?
– К своим. На дорогах полно немцев, вот я и шел лесом.
– Хорошо, разберемся.
– Не верите? – усмехнулся старшина.
Анжеров с прищуром поглядел на Журавкина и в свою очередь спросил:
– Почему я должен вам верить?
– Отпустите меня. Я пойду один.
– Сколько лет вы служили?
– Шесть. А что?
– Значит, кое-что понимать должны. Все! – капитан повернулся к конвоиру и приказал:
– Будете за ним наблюдать. Попытается бежать – стреляйте.
– Не побегу, – опять усмехнулся Журавкин. – Некуда мне бежать.
На этот раз Григорий не мог согласиться с капитаном. Сейчас тот снова показался ему прежним – придирой и службистом, тем, который мог выгнать Петьку на занятия с мозолью на ноге. Чужой, неприступный. Однако это было просто видимостью. Если раньше Григорий не знал, что за той неприступностью таится, то теперь знал. За нею пряталось умное человеческое сердце. Раньше Андрееву и в голову бы не пришло возражать. Как можно! Самому капитану Анжерову – возражать?!
Теперь же Григорий знал, что сможет возразить, даже обязан это сделать. Человек натерпелся в тюрьме и вообще в жизни. Обиженный, мог податься к фашистам, и те приняли бы его обязательно – такие им, говорят, нужны для службы. Но Журавкин подавил обиду, запрятал ее в себе: он до донца остался советским человеком. Нашел наш отряд. Не наш, так другой бы нашел.
Ему не поверили. Капитан Анжеров не поверил. Разве можно так черство относиться к человеку? Хотя Григорий волновался здорово, но набрался храбрости и обратился к Анжерову:
– Можно, Алексей Сергеевич?
Нарочно назвал по имени-отчеству, а не по званию, хотел, чтоб капитан понял: вопрос связан не со службой, а скорее, с человеческими отношениями.
Через руки капитана таких, как Андреев, прошло тысячи, в определенной мере понимать их научился. Как правило, такие парни не умеют скрывать своих чувств, их мысли можно без слов прочесть на лице. Капитан хотя и сбоку, но заметил, что при разговоре с Журавкиным Андреев порывался что-то вставить. Не решался, зато сейчас осмелился. Ясно, какой у него вопрос, и психологом не надо быть, чтоб угадать.
– Если о Журавкине, – сказал сухо капитан, – то вопрос решен.
– Но это же неправильно! – с жаром возразил Андреев.
– Что неправильно?
– Как вы не понимаете: Журавкин человек, а вы его обижаете недоверием.
– Обижаю?
– Да! – у Григория запальчивость не проходила.
– Чем же обижаю?
– Не принимаете в отряд, водите под конвоем. Он же сам пришел!
– Может, ему оружие выдать?
– Ну, оружие... Я не говорю про оружие...
– А если его подослали немцы?
– Да ведь видно же человека насквозь. Наш он!
– Откуда это видно? На лбу написано? Это хорошо, что ты так горячо заступаешься за человека, значит, хорошее у тебя сердце. Но и неопытное еще. Думаешь, немцы дурака бы послали? Нет, не послали бы. Умный лазутчик опаснее дивизии. Он такие сказки сочинит – заслушаешься. Война не любит простофиль, и я им не хочу быть. Журавкин от недоверия не умрет. А в бою посмотрим – проверим. Еще возражать будешь?
Григорий пожал плечами. Что возражать! Капитан, конечно, соли в жизни съел немало, не ему чета. В споре быстро положил на лопатки и возразить нечего. Только вот сердце несогласное, железная логика Анжерова не убедила его. Разум согласен, а сердце нет. Сердце крикнуть хочет: так ведь человек же перед нами. Че-ло-век! Горький говорил: «Человек – это звучит гордо!» Но лазутчики тоже считают себя людьми. И тот считал, который убил Тюрина. Значит, капитан прав? Надо брать сердце в руки, не давать ослабнуть от жалости? Это будет потеря, потеря чего-то дорогого, если вот так вдруг отказаться от привычных понятий. Но это будет, наверно, и приобретением. Хладнокровия? Недоверия? Нет! Капитан бы сказал – бдительности. Без нее на войне нельзя, потеря ее равносильна гибели.
Наверно, потеря «Дон-Кихота» под той молоденькой березкой : – это не просто потеря книги, пострадавшей от воды, а потеря нечто большего – старых представлений о борьбе, когда жестокая действительность бесцеремонно потеснила романтику, с которой неизбежно связывалась война.
Но ведь и без сердца на войне обойтись нельзя. Без сердца человек не поймет товарищества, не разглядит благородства, он просто озвереет. Неужели правда где-то в середине – между умом и сердцем?
Трудные раздумья терзали Григория. Кому о них поведать? Игонин не поймет, капитан прижмет к стенке своей неумолимой прозаической логикой. Лучше спорить с самим собой, поведав этот спор заветной тетради.
6Утро снова занималось теплое и безоблачное. Июнь в этом году выдался на редкость жарким. И июль начинался так же. В мае прошли обильные дожди, а потом такое тепло. Хлеба росли споро и дружно. Озимая пшеница наливала колос, овес выбросил метелку.
В лесу буйствовала зелень. На полянах трава вымахала по пояс. Если бы не война!
Игонин загрустил. На дневных привалах мало спал: ночами спать было некогда, они проходили в походах.
Ложился по своему обыкновению на спину, грустно вглядывался в немыслимую глубину голубого неба.
– Ты чего пригорюнился, Петро? – спросил обеспокоенно Андреев.
– Тебе-то зачем?
– Вот так здорово! Ты мне на нервы действуешь, да и другим тоже.
Игонин не отозвался. Григорий не стал навязываться. Позднее, вечером, когда отряд готовился к ночному маршу, Игонин заговорил сам:
– Что-то со мной сделалось, Гришуха.
– Смотри не заболей. Не время.
– Нет. Со мной другое, в душе что-то началось, когда Тюрина похоронили, только я поборол себя. А когда тот олух нацелился в меня из винтовки, глянул я в черную дырку... Не испугался. Нет. Мысли перевернулись, кувырком полетели. Бабахнул бы он – и поминай Петьку Игонина. Будто никогда и не было. И ведь от пустяка – от девяти несчастных граммов свинца. Девяти граммов! Фриц бросает на меня бомбы с доброго порося, а пуль сколько, высыпает. Дождь проливной! А надо-то мне всего лишь девять граммов. Но вот весь гвоздь где: так и так маракуй, а мне обязательно до конца войны надо уцелеть. Не трусом каким-нибудь, учти, а героем.
– А! – досадливо отмахнулся Григорий. – Я-то считал, что ты о чем путном загрустил.
– Вот и дурак. От чего же еще грустить? Что курева нет? Да я, если хочешь знать, в любое время могу бросить курить. Жратвы нет? Выдюжу. У меня желудок ко всему приученный. Фриц вот колошматит в хвост и в гриву, вот где заковыка. Тут мозги свихнешь думаючи. Мы ему, конечным образом, морду набьем, будь уверен, и за нашего воронежца счет предъявим, ого, это мы сделаем обязательно! Только вот вопрос: почему же не сделать это сейчас? Что, силенок маловато, кишка тонка? Или Гриша Андреев плохим солдатом оказался? Тут-то я ничего не понимаю, а понять страсть как хочется. Потому мне и грустно, и обидно, что я такой недогадливый. Ну, ты чего молчишь?
– Кричать, что ли?
– Кричи. Мне хочется кричать, И не береди меня больше своими вопросами. Имею я право думать или нет?
– Кто тебе запрещает думать? Думай сколько угодно. Но, думая, не раскисай, пожалуйста.
– Эх, Гришуха, Гришуха. Ты же чуткий, а меня не понимаешь.
– Отчего же? Хорошо понимаю. Но не забудь – ты теперь командир. Не просто Петька Игонин, а командир! Ты нос повесишь, остальные что должны делать? У нас и без того не сладко.
– Что не сладко, это да. Но чего ты мне нотацию читаешь?
– Опять уходишь от разговора?
– Ладно, ладно. Не успел заделаться начальником – и мораль уже читаешь. В болтуна не превратись. При твоем мягком характере и нынешней должности легко стать болтуном!
– Ну тебя к дьяволу! – рассердился Андреев. – С тобой толком и не поговоришь.
Всю ночь шли они во главе отряда, плечо к плечу, вполголоса, почти шепотом, вспоминали исчезнувших вдруг друзей – и Самуся, и Костю Тимофеева, и молчаливого Миколу, и разбитного Синицу.
Неловко идти ночью незнакомым лесом, каждый пенек – препятствие, каждый сучок – забияка, каждая колючка – зла. Григорию привычнее: все-таки рос в лесном уральском краю, Игонину хуже – степной житель. Чаще запинается, чаще колючки бьют его по лицу. Так иной раз смажут, даже искры из глаз сыплются. Плевался Петро, матюкался в сердцах.
Капитан шел где-то позади, в конце цепочки, не давая отставать и растягиваться.
Еле-еле забрезжил рассвет. В лесу его еще совсем незаметно, и вот макушки деревьев посветлели, и небо бледнее стало.
Игонин остановился, прислушиваясь, его толкнули идущие за ним. Шепотом:
– Привал!
И слово, передаваемое шепотом, покатилось по цепочке назад.
Петро напряженно вслушивался и вдруг хлопнул Григория по плечу – тот даже вздрогнул от неожиданности:
– Послушай, послушай, ну?
– Не пойму.
– Эх, ты! Петухи!
И верно: еле-еле доносился петушиный крик. Бойцы располагались на отдых, переговаривались. Спешил к Игонину капитан; слышно было, как он на ходу кого-то пробирал. Пискнула птаха, проснувшись: или оттого, что наступало утро, или ее разбудили бойцы. Где-то далеко-далеко, но внятно и напевно опять прокукарекал петух. Будто тысячу лет не слыхал Григорий петушиного пения, и чем-то родным и грустным повеяло на него.
Поют петухи. Не те петухи, возвещающие мирное светлое утро. Это другие петухи, необычные, военные, и неизвестно, что еще они напоют сегодня.
– Красиво выводит, подлец, – прошептал Игонин.
В это время подошел Анжеров, спросил недовольно:
– Почему привал?
– Петухи, товарищ капитан, – ответил Григорий.
– Поют-то как, заслушаешься! Музыка! – подхватил Игонин. – Деревня рядом, товарищ капитан. И жратва рядом. Поторопимся, а?
Анжеров не возражал Но после привала повел колонну сам, обошел деревню стороной, забрался на дневку в самую глушь. Все знали, что близко деревня, и все роптали на командира. Анжеров передал строжайший приказ – в деревню самовольно не отлучаться. Игонин про себя вполголоса ругался. Люди с голодухи еле ноги волочат, а он боится в деревню идти. Такая возможность раздобыть продукты! Это же первая деревня на всем пути. Все-таки подошел к капитану, спросил:
– Разве мы не пойдем в деревню?
– Обязательно пойдем. Но прежде пошлем разведку.
Петро подтрунивал сам над собой мысленно: «Большое дело голова на плечах, а не кочан капусты. Я б махнул в деревню с ходу. Фрицы бы мне отходный марш сыграли на пулеметах и автоматах. А капитан – голова! Утер мне нос».
В эту ночь сильно умаялись, однако спать никто не мог. Лежали молчаливые и ждали возвращения разведчиков.
Когда по цепочке передали приказ капитана самовольно в деревню не отлучаться, Куркин сказал:
– Видали? Хлопцы с ног валятся, жрать хотят, ему хоть бы что! Нога протянешь с таким командиром. Как хотите, но я в деревню. Кто со мной?
Шобик пошел потому, что не умел страдать молча и терпеливо. Лихой же не мог и шагу шагнуть без Куркина; это с тех пор, когда произошла стычка с Игониным. Куркин яростнее других за глаза ругал Петра и обещал в случае чего Лихому защиту. Но если бы его спросили чего так взъелся на Игонина, не ответил бы – они даже не были знакомы. Просто, видимо, натура такая – ненавидеть любого, кто стоит выше на голову.
Трое исчезли из отряда незаметно, когда бойцы располагались на дневку. Деревенька была маленькая. Но дома добротные, рубленые, с тесовыми и даже железными крышами. Жили, видимо, в достатке. Раскинулась деревенька на окраине леса вольготно, свободно, до шумного тракта рукой подать – километра два.
Трое шли по единственной улице открыто, словно победители, выбирая дом посолиднее, побогаче. В таком и накормят повкуснее, и в дорогу дадут.
Выбрали трехоконный дом с крутой железной крышей, смело постучали. Тихо. Если бы Куркин был наблюдательнее, то обратил бы внимание на тишину и безлюдье. Даже куры не купались в дорожной пыли. Но Куркина гнала вперед первобытная забота – как бы достать еды. Он постучал в подоконник. Стекла жалобно звенькнули. Занавеска, плотно закрывавшая окно, дрогнула, приоткрылся краешек, и в щель глянули на бойцов два настороженных глаза.
Через минуту звякнул запор, и девушка, по самые глаза повязанная коричневым платком, впустила незваных гостей во двор, а потом провела в избу.
– Живем, братцы! – потер руки Куркин. – Довольны, что со мной пошли? То-то! Со мной не пропадешь!
В душной полутемной избе, просторной и чистой, Лихой сказал:
– Угощай гостей, хозяюшка. Мы как волки – из лесу и голодные.
Молодая женщина без единого слова привета или недовольства поставила на стол кувшин простокваши, котел холодной картошки в мундире и горбатый каравай черного, пахнущего солодом хлеба.
Бойцы приставили винтовки к печи и жадно набросились на еду. Чавкали, давились, позабыли, где они находятся. Тем временем во двор ворвались два немецких автоматчика. Два других притаились на улице, у окон. Двое вбежали на крыльцо, пинками сапог распахнули дверь в избу и гортанно гаркнули, нацелив автоматы на обалдевших друзей:
– Хенде хох! Шнель, шнель!
Волей-неволей пришлось поднимать руки. Винтовки сиротливо жались у печки.
Когда разведчики, посланные капитаном, пробирались огородами к окраинному дому, Куркина, Шобика и Лихого конвоировали по улице четверо фашистских автоматчиков. Разведчики долго не размышляли: залегли и открыли по автоматчикам огонь. Свалили одного насмерть, а другого ранили в ногу. Пленные бросились врассыпную. Уцелевшие автоматчики открыли огонь и убили Куркина. Он не добежал до плетня шага три. Пули попали в спину. Куркин сразу остановился, резко крутнулся на месте, словно собираясь вернуться к стрелявшему в него немцу, и тяжело рухнул в крапиву, которой возле плетня были непроходимые заросли. Лихой оказался проворнее. Нырнул во двор первого подвернувшегося дома, перемахнул через плетень и пополз по меже к лесу. За буйной картофельной ботвой его не сыскал бы сам черт.
Шобик бросился вдоль улицы, размахивая руками. Пуля и укусила его в руку. Сгоряча боли не почувствовал. Но, очутившись в лесу, раскис, захныкал – рука болела. Тут его и догнали разведчики.
Анжеров, узнав о случившемся, яростно ударил кулаком о ствол сосны. У него побелели крылья носа, глаза налилась кровью. Андреев еще не видел его таким и вздохнул – будет буря. Ох, несдобровать ослушникам. Но капитан переломил ярость, только скрипнул зубами. Заложив руки за спину, наклонив упрямо голову, расхаживал по поляне – от сосны к сосне.
Разведчики привели к нему Шобика и Лихого. Шобик сгорбился и скулил, словно обиженный кутенок. Рука висела как плеть – ее успели перевязать. Лихой угрюмо смотрел себе под ноги, молчал. Пилотку потерял, когда полз по огороду. На макушке упрямо топорщился вихор – не стриглись давно, обросли. Ждали решения своей участи. Капитан даже не посмотрел на них, а вскинул гневные глаза на старшего разведчика, горбоносого бойца Грачева.
– Вы зачем их привели? – спросил капитан тоном, не допускающим ни ответа, ни тем более возражения.
– Разрешите, товарищ капитан... – хотел было сказать Грачев, и Григорий, наблюдавший эту сцену, отметил, что старший разведчик держится спокойно, не боится гнева командира.
– Не разрешаю, – не повысил голоса Анжеров. – Уведите их с глаз моих, или я обоих расстреляю собственноручно. Ясно?
– Так точно, товарищ капитан, – вытянулся в струнку Грачев.
– Выполняйте. Гоните их из отряда вон. Мне такие разгильдяи не нужны! Потом доложите о разведке.
Грачев отдал приказание двум своим ребятам, и те увели ослушников. Сам коротко доложил о результатах разведки. Немцев в деревне нет. Те, которые убили Куркина, приблудные – ехали мимо, вот и завернули. После стычки с разведчиками побросали убитых в кузов и умчались на полной скорости. Анжеров отпустил Грачева, и вот тогда к нему шагнул Андреев.
– Товарищ капитан!
– Что еще? А, политрук! – он с той памятной беседы звал Григория не иначе как политруком. Политрук так политрук, самолюбие это щекотало, а оно у Григория, конечно, было.
– Товарищ капитан, но ведь красноармеец Шобик ранен.
– И что?
– А вы его выгнали.
– Я его имею право расстрелять!
– Но он ранен.
– Мне нравится твоя настойчивость, Андреев, – зло сказал Анжеров, остановился перед ним, – но вот что смущает – идет она от жалости. Я боюсь, что завтра ты пожалеешь и врага.
– Не пожалею, Алексей Сергеевич, будьте спокойны.
– Не знаю, Андреев. Вчера ты пожалел Журавкина, сегодня Шобика, а завтра какого-нибудь Ганса.
– Это не одно и то же! – воскликнул Андреев, обиженный таким оборотом разговора.
– То же! – жестко возразил капитан. – Логика, ее не перешибешь ничем.
– И все-таки раненого выгонять из отряда – негуманно, неправильно, в конце концов. Нас не этому учили. Нас учили твердости, ненависти, но не жестокости.
– Ого! – удивился Анжеров. – Но знаешь ли ты, что жестокость в определенных обстоятельствах – необходимость! Хорошо, наш спор затянулся. Прикажите, чтоб Шобика оставили. Имейте в виду – на вашу ответственность.
– Есть, на мою ответственность! – обрадовался Андреев и поспешил разыскивать Грачева. Он не заметил, что капитан проводил его задумчивым взглядом, затаив во властных складках лица добрую, еле приметную улыбку.
Когда Петро узнал об этом опоре от самого же Андреева, то осуждающе покачал головой и сказал:
– Эх и дурачина же ты, простофиля! За кого заступился? За Шобика, за этого слюнтяя. Да их с Лихим одной веревочкой связать и на сосну сушить повесить. Зря капитан послушал тебя. Пойду посоветую, чтоб отменил приказ.
– Я тебе пойду!
– Вот, возьмите, – политрук. Нет, чтобы убедить человека, – сразу грозить! Эх, Гришуха, Гришуха!
На том их разговор и кончился.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СКИТАНИЙ
1Немцы в деревне не квартируют. Но это еще ни о чем не говорило. Они могли заскочить туда в любое время, тем более эти три разгильдяя испортили всю обедню.
Но в деревню зайти надо. Во-первых, бойцы сильно наголодались, те, что послабее, еле-еле ноги волочат. Так можно и отряд загубить. А во-вторых, неплохо будет, если бойцы увидят белый свет, поговорят с народом.
Всем уже ясно: колонну догнать нельзя и стремиться теперь к этому просто бессмысленно. Значит, вступает в силу другая задача – двигаться на соединение самостоятельно. Но и сейчас ведь двигались, не стояли, с ног валились – спешили догнать своих.
Тактику незамедлительно надо менять. Дни совместных скитаний по лесу дали свои результаты: бойцы лучше узнали друг друга, появились общие интересы, завязались новые отношения. В этом смысле они готовы к боевым делам. Стало быть, сегодня следует дать бойцам хорошо отдохнуть, запастись продуктами и завтра приступить к выполнению новой задачи. Ее смысл в том, чтобы начать активные действия против захватчиков. Двигаться к фронту, но на пути громить мелкие гарнизоны, взрывать дороги, устраивать диверсии. Чтоб гром стоял на всем пути!
Что ж, решение принято, пора действовать. Анжеров приказал Игонину построить людей. Пообтрепались в эти дни, позаросли щетиной.
Через несколько минут на лесной просеке выстроились две шеренги. Анжеров скомандовал:
– Первая шеренга, два шага вперед' ма-арш!
Когда первая шеренга не совсем дружно выполнила команду, последовала новая:
– Кру-у-гом!
Повернулись кругом, лицом ко второй шеренге. Феликс запнулся за сучок и чуть не упал, кто-то засмеялся.
– Вольно!
Анжеров в сопровождении Игонина прошелся вдоль первого строя, потом вдоль второго, внимательно осматривая, как одеты бойцы. И сердце заныло – до чего некоторые дошли. Правофланговый, здоровенный парень, не брился целую неделю, не меньше. Борода кучерявилась густая, не разберешь, какая по цвету, – то ли рыжая, то ли бурая, то ли еще какая. Гимнастерка под ремнем пузырилась. Лесной бродяга – и только! А у того, что стоит в середине шеренги, вообще нет ремня, из кармана брюк торчит рукоятка ручной гранаты. Во второй шеренге к Феликсу Сташевскому прижался плечам сухощавый рыжий боец с отчаянными зелеными глазами. Так у того вместо пилотки на голове покоилась кепка не кепка, а какой-то блин с пуговицей посредине.
Вроде бы Анжеров и спуску не давал за неряшливость, но за всеми не уследишь. Сквозь лес продирались вперед целыми днями, иногда захватывали и ночь, и посмотреть на себя было некогда.
В таком виде из лесу выходить, конечно, нельзя. Григорий критически оглядел самого себя, разогнал складки под ремнем, попробовал ладонью щетину на подбородке – чего греха таить, они с Игониным брились аккуратно. Нельзя было не бриться – постоянно на виду у капитана, а тот всегда аккуратен и подтянут. Уже дважды заставлял Петра брить ему голову, и Петр мастерски справлялся с обязанностью парикмахера. Даже, подворотнички капитан менял через два дня, стирал их в любом удобном месте.
Анжеров остановился у правого фланга между шеренгами, отчеканил:
– Даю час на приведение в подобающий воинский вид. Запомните: впредь за неряшливость буду строго взыскивать. Вопросы?
Поднял руку боец, у которого не было поясного ремня. Капитан разрешил задать вопрос.
– Где я достану ремень? – спросил боец.
– Еще вопросы?
Анжеров выждал, но вопросов не было, и ответил:
– Я не знаю, где вы достанете ремень. Но знаю другое: в строй в таком виде встать не разрешу. Все. – И повернулся к Игонину. Тот понял без слов и гаркнул во всю мощь легких:
– Р-разойдись!
Через час отряд был построен снова, и это уже был другой отряд. И ремень нашелся, и обмотки нашлись, у кого их не было, и бравая выправка появилась.
Анжеров повел бойцов в деревню.
На окраине притулилась старая, с почерневшей соломенной крышей клуня. В ней и разместился отряд. От каждого взвода выделили уполномоченных и послали по домам собирать продукты.
То был самый радостный день за время лесных скитаний. Ели до отвала, хотя было строжайше наказано воздерживаться от слишком обильной еды после стольких дней голодухи.
Мужчин в деревне почти не было – ушли на войну. К клуне потянулись женщины – скорбные и словоохотливые. Рассказывали про фашистов. Постреляли кур, порезали свиней в первый же налет. В деревне больше суток не задерживались, видно, боялись – вокруг дремучие леса. Наезжали не раз, все тайники повытряхивали. Шарили по сундукам. Мало-мальски годное белье, приличную одежонку – забрали. Ничем не погнушались. Что за люди?
Позже всех приплелся мужик, у которого вместо правой ноги заправлена на ремнях деревяшка. Сел на камень возле входа в клуню и развернул кисет. Вокруг сгрудились бойцы. Кисет с зеленым самосадом пошел гулять по рукам и скоро опустел. Самосад был ядреный, деручий, и у многих отселе первой же затяжки выдавились слезы. После листьев и мха это было курево. Да еще какое!
Курили. Расспрашивали мужика о том и о сем. В это время на востоке родился гул. Он приближался, нарастая и нарастая. Самолет. Анжеров ради предосторожности приказал спрятаться в клуне и возле нее, чтоб ни одна живая душа не маячила на открытом месте.
Андреев привалился плечом к дощатой стене клуни и, прикрыв глаза от солнца ладонью, искал в голубом небе самолет. Нашел. Тот летел на небольшой высоте и держал курс прямо на деревню. Его видели уже многие. Кто-то с опаской предположил:
– Сейчас даст прикурить!
– Да он и не видит нас, – возразил другой.
– Зачем ему видеть? Доложили немцы, которые были здесь утром.
А что? И так могло быть. Некоторые отодвинулись поглубже в клуню, как будто там можно было спастись от бомбы.
И вдруг звонкий крик:
– Братцы! Наш! Советский!
В самом деле, на крыльях уже ясно различались красные звезды. Подвластные радостному крику, красноармейцы повскакали, выбежали на открытую площадку и, задрав головы, махали кто чем: пилотками, фуражками, винтовками. Один умудрился схватить каравай хлеба и размахивал им.
Заметил летчик бойцов, приветствовавших его с земли, или нет, но, пролетая над деревней, что-то выбросил из кабины. Это «что-то» рассыпалось на белые листки, которые, трепыхаясь и отсвечивая на солнце, падали на землю.
Дул слабый ветерок – у березки, что росла за клуней, шевелились листья. Листовки стало относить за околицу. Туда кинулись и бойцы.
– Отставить! – пытался остановить их Анжеров. Некоторые нехотя замедлили бег, остановились в нерешительности, а передние и не слышали приказа командира. На помощь капитану пришел Игонин, и вдвоем вернули к клуне добрую половину бойцов: не могли допустить, чтоб все бойцы отряда сломя голову кинулись за листовками. Один пулеметчик мог запросто перестрелять всех. Может, на окраине, где-нибудь в леске, притаился в засаде враг и только ждет, чтоб уничтожить отряд?
Когда Григорий вернулся, взбудораженный, веселый, показал листовку, капитан отозвал его в сторонку, чтоб никто не слышал, и дал нагоняй да пристыдил за то, что он тоже бросился за листовками. Могло же всякое произойти! Андреев боялся от стыда поднять глаза и прямо взглянуть на командира. Анжеров, поняв, что проборка дошла до самого сердца, смягчился и взял из рук Григория листовку.
Развернул, держа обеими руками, быстро пробежал глазами полосы. И посветлело у капитана лицо, разгладились морщины. Видно, прочел то, что ждал прочесть, видно, получил ответ на мучивший вопрос.
Вернул листовку Григорию, сказал:
– Действуй, политрук. Здесь твоя работа.
Отряд устроился в клуне. На улице остались лишь часовые и наблюдатели. Григорий вслух начал читать листовку. Мужик тоже остался слушать и мешал, то и дело выкрикивая:
– Вот, ё мое, а? Понятное делю!
– Папаша, – не стерпел Григорий. – Прошу не перебивать.
– Читай, читай, ё мое. Я ничего!
Хотя он и после этого мешал, но Андреев уже не обращал внимания. Бойцы притихли. Только сейчас, слушая, что написано в листовке, они в полной мере поняли, какая огромная беда свалилась на Родину. Сначала не верилось, что фашисты могут так потеснить наших. Могли они, конечно, местами иметь успех, например, в Западной Белоруссии. А в других местах их бьют, не давая опомниться. На самом же деле положение куда серьезнее, чем представлялось. Но главное было не в этом. Листовка призывала подниматься на борьбу всех, она давала советы, какими методами вести борьбу в тылу врага. Как раз это и совпадало с тем решением, которое нынче принял капитан Анжеров, и это его обрадовало. Значит, он сориентировался правильно, значит, скитаясь но лесу не потерял чутья к тому, что делалось вокруг.
Листовка называла войну Отечественной. Бойцы слышали об этом впервые. Отечественная война. Война за Отечество, за социалистическое Отечество. Торжественно и грозно звучали эти слова, заставляя бойцов распрямлять плечи и строже хмурить брови.
Это к ним обращается Родина – подниматься на священную Отечественную войну, ко всем сразу и в отдельности к каждому.
Когда Андреев кончил читать, никто не шелохнулся. Чуть позднее мужик, глубоко вздохнув, проговорил тихо:
– Ох, ё мое!
Наконец поднялась рука:
– Можно вопрос?
Это Феликс. Григорий оглянулся на капитана, как бы ища поддержки: что делать? Тот пожал плечами, что означало: к тебе обращаются, ты и решай. Может, у меня к тебе тоже есть вопрос? Почему бы ему не быть?
– Говори, – разрешил Андреев.
– А мы как?
– Не понимаю...
– Что будет с нами?
– Как что? Будем продолжать двигаться к фронту, к своим.
– Неправильно! – крикнул боец с горбатым носом, тот, который ходил в деревню старшим разведчиком, – Грачев.
Бойцы зашумели.
– Тихо! – Андреев поднял правую руку, требуя успокоиться, и попросил, когда смолк гул: – Объясни, Грачев.
Грачев встал, оправил гимнастерку и степенно ответил:
– Я понимаю так: листовка призывает нас колотить врага в тылу. Это нас очень даже касается. А мы? Выбираем дорожку поглуше да поспокойней.
– Умный какой! У тебя что, лоб медный, пули его не берут? – крикнул незнакомый Григорию боец из самых задних рядов.
– О моем лбе разговора нет, – спокойно возразил Грачев. – Он такой же, как и у тебя. Пули от него не отскакивают. Но совесть надо иметь. Моя совесть не велит мне прятаться в берлоге, когда кругам идет бой.
Опять загалдели. Шобик, которого Григорий спас от изгнания, шипел на ухо Сташсвскому:
– Как куропаток, перещелкают. Группами надо расходиться, так незаметнее, и до своих целехонькими доберемся.
Игонин сидел недалеко и слышал этот шепот, про себя обозвал Шобика гадюкой и, вскочив на ноги, крикнул:
– Прекратить галдеж!
Облизал языком пересохшие вдруг губы и уже спокойнее продолжал:
– Слышу тут разные разговорчики. Одни свои лбы берегут, другие треплются, мол, группами надо расходиться. Между прочим, немцы этого от нас и хотят. Ясно? Чтоб мы носа не показывали, чтоб по одному разбрелись, как бараны. Это фашистам на руку, они спасибо скажут тем, кто зовет по одному расходиться. Неправду говорю?
– Правду, – откликнулся Грачев.
– То-то! – удовлетворенно произнес Петро. – Теперь надо так: бить фашистов в хвост и в гриву и все равно двигаться к своим на соединение.
– Ах, ё мое, – заерзал мужик. И тут Игонин обратил на него внимание. – А! – воскликнул он, поворачиваясь к мужику. – Мое почтение!
– Доброго здоровьечка!
– Папаша, а не тебя ли тетушка искала, здоровенная такая, в плечах сажень. Правда, ребята?




