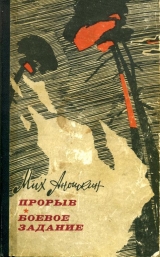
Текст книги "Прорыв. Боевое задание"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
– Верно!
– А в руках у нее дрючок.
– Не-е! Кнут!
– Ха-ха!
Мужик растерялся, но Игонин отдал должное его сообразительности: догадался, что вежливо выпроваживают, и попятился к выходу, неловко переставляя деревяшку. Когда был уже в дверях, Грачев громко крикнул:
– Спасибо, папаша, за табачок!
Разговор продолжался. Позднее к Анжерову и Игонину подошел горбоносый Грачев с товарищем и сказал капитану:
– Мы тут посоветовались, товарищ командир, и решили спросить: разрешите ночью пощупать шоссе?
– Кто «мы»? – спросил Анжеров.
– Коммунисты взвода автоматчиков.
Петро довольно улыбнулся: мол, мои, не чьи-нибудь!
– Хорошо, – согласился Анжеров и повернулся к Петру Игонину: – Всем взводом! Ясно?
– Так точно! Всем взводом! – воскликнул Игонин, немного обижаясь на то, что Анжеров не сказал Грачеву о его просьбе – Петро и в самом деле первым затеял разговор о налете на шоссе.
Перед сумерками разведчики ходили на шоссе, в то место, где его пересекала речушка. Полчаса пролежали у моста. Движение было интенсивным. Автомашины, танки, мотоциклы. Проскрипел даже обоз.
2Взвод выдвинулся к мосту и развернулся в цепь вдоль шоссе на запад. Отряд притаился в лесу, километрах в двух от места засады. Если взвод Игонина, ввязавшись в бой, окажется в трудном положении, то на помощь ему придет весь отряд. Если удастся справиться без подмоги, тем лучше.
Андреев пошел с Петром. Настроение у него было тревожно-приподнятое. Злое посвистывание пуль теперь хорошо знакомо. Ужалит – не поднимешься. Но во всех перестрелках, в которых довелось побывать, преимущество всегда складывалось в пользу противника. Фашисты хоронились в укрытиях, а Григорию приходилось выкуривать их оттуда, идти на сближение в открытую, не обращая внимания на пули. Это нелегко – быть мишенью, быть готовым в любую минуту распрощаться с жизнью.
А сегодня Григорий выберет укрытие понадежнее. Фашисты станут мишенью. Посмотрим, как они себя поведут, хватит ли у них духу?
Игонин внешне оставался спокойным. Вообще, за последние дни Петро изменился – из бесшабашного рубахи-парня, которому море по колено и все трын-трава, превращался в серьезного человека и стоящего командира. Стал Петро более сосредоточенным, меньше балагурил. Собираясь на задание, угрюмо сказал Григорию:
– Оставайся с отрядом. Без тебя обойдусь.
Андреев промолчал, но в молчании таилось упрямство. Петро это понял и не возразил.
За эти дни Григорий подружился со своей заветной тетрадью. Теперь частенько уединялся и записывал все, что волновало. Подробно записал историю с Журавкиным. Кстати, совсем недавно Григорий наблюдал такую картину. Конвоир Журавкина набрал полную пилотку ежевики и угощал своего подопечного. Винтовку приставил к стволу дерева, оба уплетали ягоды и о чем-то беседовали, причем беседовали весело, потому что конвоир улыбался. Наверно, Журавкин смешил его. А сегодня, пока бойцы приводили себя в порядок, Григорий, наспех побрившись, снова сел за тетрадку: хотелось записать случай с Лихим и Куркиным. Ему понравился Анжеров – гневный, готовый в любую минуту взъяриться. Но что здорово – сумел-таки победить свои нервы. Вот таким надо быть! Таким! Но занятию помешал Игонин. Встал перед Григорием, положил руки на автомат, висевший на груди, и насмешливо продекламировал:
– «Еще одно, последнее сказанье!»
Григорий и головы не поднял, продолжая писать. Тогда Петро присел на корточки и спросил:
– Пишешь?
– Ты мне мешаешь, Петро. Разве не видишь?
– Пиши, пиши. А что пишешь? Письмо или на память кое-что? Письмо не пиши – не дойдет.
– На память.
– На кой черт тебе такая память! Думаешь, всю эту муру хранить будем? Дудки!
– Обязательно будем. А как же иначе? Выберемся отсюда и забудем, да? Нет, запомним.
– Зачем?
– Для науки.
– Хо! Силен парень! Голова ты у нас – это известно. Имею просьбу, коли на то пошло.
– Тебя вон капитан ищет.
– Никто меня не ищет, брось на пушку брать. Просьба такая – напиши про меня. Жил, мол, на белом свете такой тип – Петро Игонин. Двадцать с хвостиком лет прожил на свете, а для чего? Нет, в самом деле, для чего? Это вопрос вопросов, так, Гришуха, и запиши в своем талмуде. Тоже для науки. Иной обормот, который после войны будет расти, прочтет про меня и скажет: неважно Петька Игонин до двадцати лет жил. Не буду повторять его ошибок. Не буду на него походить, а буду как Гришка Андреев. А?
– Капитан тебя, однако, ищет.
– Ладно, не буду мешать, – Петро поднялся. – Но ты все-таки напиши, ничего не приукрашивай, – и зашагал в глубь лагеря, немного ссутулившись.
Бойцы залегли в придорожном сосняке. Шоссе выделялось светлой лентой метрах в десяти. Игонин устроился возле моста, на левом фланге. Начать бой должен был он. Въедет головная машина вражеской колонны на мост, тогда Петро швырнет в нее связку гранат. Это и будет сигналом.
Место, где притаился взвод, возвышалось над дорогой. Речушка текла тихо и сонно. Лягушки квакали добродушно и негромко. В осоке стонала выпь. О сваю билась звонкая струйка и пела нежно и напевно. Григорий заслушался, хотел позвать Петра, чтоб и он послушал. Но того занимали иные мысли, и Григорий не стал тревожить друга.
За поворотом на высокой ноте заныл автомобильный мотор. Из узеньких щелочек фар брызнул свет, упал двумя бегущими вперед светлыми пятнышками. Серая громада машины катилась к мосту на большой скорости. Одна или колонна?
Машина прогремела мимо, обдав бойцов бензиновым чадом и сухой дорожной пылью.
Одна.
Григорий вытер рукавом со лба испарину. Под мостом опять нежно пела звонкая струйка, настраивала на мирный лад. Лягушки смолкли. Где-то высоко гудел самолет. Метеором промчался мотоциклист, мелькнул тенью и исчез. Лишь глухо простонали доски настила.
Тихо.
– Ждать да догонять – хуже всего, – шепнул Игонину Григорий. – Стоп, стоп... Слышишь?
Еле различимый, настойчивый, возрастающий гул приближался с запада.
– Колонна!
– Слышу, Гришуха!
Гул нарастал. Теперь каждому было ясно – приближается автоколонна. Вон и первая машина вынырнула из-за поворота, уронив на каменистое полотно узенькие столбики света.
Время словно остановилось: последние минуты всегда томительны. Скорее же!
Последние метры, вот сейчас...
В кузове головной машины сидят солдаты, пятеро или шестеро. На второй – никого, на третьей – тоже. Что же везут они?
Головная передними колесами закатилась на мост, брякнули плохо скрепленные доски.
– Пора!
Петро откинул назад руку изо всей силы кинул гранаты под колеса. На мосту взметнулось рваное красное пламя, подняв на своем жарком богатырском горбу черную машину, и легко сбросило ее в речку. От моста полетели щепки и доски. Идущая следом машина со скрипом затормозила. В тот же миг ее смахнула с полотна в кювет взрывная волна связки, брошенной Григорием.
Взрывы прогремели по всей ниточке шоссе до самого поворота. Крики раненых и насмерть перепуганных неожиданным налетом немцев потонули в шквале стрельбы, начавшейся после гранатной подготовки. Две средние машины загорелись, и пламя шустро метнулось ввысь, застилая черной копотью ясное звездное небо.
Оставшиеся в живых немцы, опомнившись, открыли ответный огонь. Но он был слабым, нервным, неприцельным. Несколько новых гранат, брошенных в места вспышек, завершили дело.
Все было кончено за какие-то десять минут. Пожар осветил место побоища дрожащим кровавым светом. Придорожный лес еще гуще налился чернотой.
Петро ждал всяких неожиданностей, только не такой легкой победы. Не верил, что все обошлось как нельзя лучше. И медлил отходить. Капитан прислал связного, требовал, чтоб Игонин торопился – надо скорее уходить, пока темно.
– Что же у них в машинах? – вслух размышлял Петро. – Может, патроны или продукты?
Андреев подхватил:
– Проверить?
– Сиди, не рыпайся, без тебя обойдется.
– Почему? Не веришь, что ли?
– Вот голова два уха! А если там бандюга притаился? Резанет из автомата – и прощай, мама.
– Другого может резануть: что я, что другой.
– То другой. А друзей у меня не так много.
– Да ты что? Зачем обижаешь? Теперь обязательно пойду. – Григорий легко закинул за плечо винтовку, на пятках скатился к кювету, перепрыгнул через него и очутился на шоссе.
И вдруг коротко и бешено бормотнул автомат. Григорий скорее удивился, чем испугался. Остановился.
– Ложись! – заорал Игонин. – Ложись, дубина ты этакая!
Но Андреев не лег, сам не понимая почему. Прыгнул к перевернутой машине, в тень. Осмотрелся. На земле, в кювете и в опрокинутом набок кузове валялись кубические черные тючки. Нагнулся, поднял один за бечевку, которая опоясала тючок крест-накрест. Понял: брюки связаны в тючок. Определил по запаху, что они новые: пахло свежим сукном. На дорогу выбежали и другие бойцы. В одной из машин обнаружили рожки с патронами для автоматов, гранаты. Запаслись – пригодится!
Когда возвращались, Игонин отругал Григория за безрассудство, а тот обиделся:
– Не кричи, пожалуйста!
– Как же на тебя не кричать! Он из тебя решето мог сделать, свободно мог сделать. Герой тоже выискался. К Тюрину захотел? Не торопись!
– Сварливый ты стал, Петро. Как с тобой жена будет жить?
– Не твоя забота. Подберу терпеливую.
Капитан поджидал взвод на опушке березовой рощицы: отряд строился к маршу. Игонин хотел доложить, но Анжеров не дал:
– Видел и слышал. Спасибо! – пожал Петро руку. – Сколько машин?
– Десять.
– Хорошо! Главное – настроение поднялось. Молодцы!
– Служим Советскому Союзу! После часа ходьбы Григорий ощутил в левом боку жгучую боль. Решил, что натер ремнем. Ослабил. Боль не исчезла, даже усилилась. На привале снял ремень, нащупал рукой больное место. Пальцы согрела липкая кровь. Позвал Игонина и попросил посмотреть.
– Ох, Гришка, Гришка, – с укором вздохнул Петро. – Бить тебя некому. Молись богу – пустяком отделался! Под счастливой звездой, видать, тебя мать родила.
Перевязал последним бинтом.
Ночь торопливо стлалась по земле, убегая на запад. Восток светлел. Кто-то из бойцов сопел рядом. Недалеко переговаривались шепотом. Под елью, закрывшись плащ-палаткой, курили. Хоть и прятались, а нет-нет да мигнет красный огонек самокрутки, упадет маленькое заревце на траву, выхватит из тьмы нос, подбородок и пальцы табакура.
Чуть позднее от ели к березе, от березы к липе, от липы к сосне, от сосны к орешнику пополз торопливый властный шепоток:
– Строиться! Строиться!
Когда бесшумно построились, еще:
– Марш, марш!
Занималось новое утро.
3Анжеров советовался с крестьянином, обросшим дремучей черной бородой, который Полесье знал как свои пять пальцев. Надоумил к нему обратиться хромоногий мужик, приходивший к ним в клуню. По-русски бородач говорил чисто, но с акцентом: «я» после «р» не выговаривал. Получалась «градка» вместо «грядка». Он посоветовал, где лучше идти отряду, часто вставлял фразу: «Вот тогда будет порадочек». «Пойдете строго на восток, встретите проселочную дорогу, но по ней – ни боже мой – не ходите. Пересечете ее и повернете на юго-восток. Вот тогда будет порадочек. На пути встанет озерко. Южным берегом ходить не надо, там болотисто, завязнете. Держитесь северного берега. Вот тогда будет порадочек».
Мало утешительного сказал крестьянин. Сплошные леса кончаются: поля потеснили их на юг. Можно взять южнее, но там болота. Без проводника в них лучше не соваться. До старой границы оставалось километров восемьдесят, если шагать «прамиком». «Будете петлять, все сто напетляете».
Капитан решился на риск – идти прямиком. Стремительный бросок по прямой может сэкономить время, ускорить встречу со своими. В отряде все, в том числе и Анжеров, безотчетно верили, что на старой границе укрепились наши. Если даже их нет, все равно на большой советской земле будет надежнее и уютнее. Конечно, и по эту сторону старой границы свои люди, только при Советской власти жили они маловато. Мужик, когда сидел в клуне, все чего-то боялся, озирался, будто за ним кто наблюдал тайно. Неодинаковые люди жили в деревне. Были и куркули, которые спелись с немцами.
Однако стоит переступить через невидимую, но магическую полосу, которая много лет делила один мир от другого и которая, ясное дело, в сознании за два года исчезнуть не могла, и кончатся неудачи. В родном доме и стены помогают.
За остаток ночи ушли недалеко: задержались на шоссе. Лес чаще и чаще перемежался с обширными полянами, а потом начались и поля. Пришлось круто свернуть на юг, чтоб рассвет не застал на открытом месте. Еле-еле успели. И то: последние два километра бежали. Втянулись в лес, вздохнули облегченно.
За последнее время с молчаливого согласия капитана Петро взял на себя ответственность за караульную службу. Анжеров мог спокойно спать, когда охраной отряда ведал надежный человек. У Петра появилась плохонькая, замызганная пилотка – в деревне раздобыл. Вот и сейчас Петро отправился расставлять посты. Окружит ими дневку – заяц не проскочит, не то что человек.
Анжеров принялся бриться. Осколочек зеркала поставил в кору сосны, направил на ремне бритву и принялся скоблить щеку насухо – воды поблизости не оказалось. Борода росла обильная, доползала до скул, закрывала острый кадык. Капитан драл ее бритвой с остервенением, только трескоток стоял вокруг. Не морщился – привык.
Выбрил левую щеку, приблизил лицо к зеркалу, провел ладонью по выбритому – не очень чисто, но ничего, сойдет. Вгляделся самому себе в глаза. Из зеркальной глубины они глянули на него усталые, но по-прежнему твердые, темные, со светлячками в зрачках. Потрогал над правой бровью лиловый шнурочек шрама. В сороковом осенью возвращался верхом на лошади из штаба дивизии, проезжал мимо хутора, и дома-то не видно – весь в кустах. Только поравнялся, ударило два выстрела. Одним сбило фуражку, другим царапнуло лоб. Анжеров дал коню шпоры. Вслед прогремело еще два выстрела, пули жикнули над головой. В военном городке поднял роту Синькова по тревоге – и на хутор. Синьков тогда умудрился с одним взводом уйти куда-то в сторону. Анжеров с двумя другими облазил весь хутор, но ни одной живой души не нашел. Подобрал фуражку да стреляные гильзы.
Да, батальон ушел без него, вот же глупейшая история! В ту ночь, когда форсировали реку, кинулся бы влево, не остался бы лежать, ожидая, что кто-нибудь утихомирит пулеметчика, все было бы нормально. Иногда до того больно было на сердце – места себе не находил. Конечно, на войне случается и не такое. В Белостоке встречал майора, командира полка, который остался живым почти один – весь полк лег на Нареве. Майора обуяло отчаяние, он готов был пустить себе пулю в лоб. Ладно, Волжанин отговорил. У Анжерова положение, ясное дело, значительно лучше. Он знал: батальон жив, с ним Волжанин. Они, наверное, считают его погибшим. Только от этого на сердце не легче. Потерять батальон! Терзался Анжеров, глубоко в себя загонял эту боль. Вот сейчас глянул самому себе в глаза, увидел ее, эту боль. Кто ж его осудит за то, что стряслось помимо его воли? Придет к своим не с пустыми руками, вон какие у него орлы. Сегодня расколошматили на дороге колонну – только клочья полетели! Не горюй, капитан! Ты еще свое возьмешь!
Пока Анжеров брился. Григорий снял гимнастерку, осмотрел пулевые дырки. Чуточку полевее взял бы фашист, и был бы Григорию капут. Бок зацепило так себе, царапнуло. Саднило, но не очень.
Вернулся Игонин, повесил автомат на сук и сказал капитану:
– Зря вы разрешили Андрееву оставить Шобика. Гнать его надо было вместе с Лихим к чертовой матери.
У Григория кровь прилила к лицу, обида на Игонина заныла в сердце; все-таки подковырнул. Но капитан молчал, видимо, ждал, что скажет Григорий.
– Бубнит всякую пакость. Границу, мол, отрядом не перейти. Надо разойтись группами, так легче.
Капитан молчал. Взяв себя за нос, начал добривать усы. Молчал и Андреев.
– Ты чего в рот воды набрал, Гришуха? Твоя забота!
Андреев надел гимнастерку, затянулся ремнем, ответил:
– Моя так моя, – и пошел разыскивать Шобика. Места отряд занял немного. Люди жались друг к другу. Многие спали, иные завтракали – сердобольные крестьянки хлебом и бульбой снабдили на дорогу обильно: у каждого по вещевому мешку. Кое-кто не торопился спать, разговаривал с соседом, курил деручий самосад.
Шобику боец с горбатым носом, Грачев, делал перевязку. Феликс наблюдал, как ловко орудует бинтом товарищ. Андреев спросил Грачева:
– Знаешь дело?
– Немудреное, – откликнулся Грачев. – И привычное. Санинструктор я.
Шобик кусал губу. На лбу блестела светлыми шариками испарина. Ойкнул, когда Грачев содрал тампон, присохший к ране. Ранка маленькая, а глубокая. Пуля пробила запястье, повредила кость. Края ранки гноились. Грачев протер ранку. Шобик плаксиво попросил:
– Осторожнее, коновал.
Феликс отвернулся – не переносил.
– Йода нет, а? – пожаловался Грачев. – Бинт последний, а?
– Скоро у своих будем, – успокоил Григорий.. – Его отправим в госпиталь. Тебя по специальности.
– А свои где? – встрепенулся Феликс.
– Не знаю. Но где-то близко.
– Осторожнее, в самом деле! Тебе не больно, а мне больно.
– Не верится, что недалеко, – сказал Феликс. – Хорошее проходит быстро, плохое долго тянется. В лесных бродяг превратились. А вдруг наших близко нет?
– Есть!
– Будто немцы похвалялись: Москву и Ленинград взяли. Тетки говорили.
– Наплели тетки.
– Бинтуй же, хватит мучить. Вы знаете, плетут тетки или не плетут? Кто проверял?
– Ты хочешь, чтоб эта была правда?
– Ничего я не хочу!
– Если не хочешь, чего ж веришь слухам? Верь, Москва стоит и стоять будет. И никакому фашисту в ней не бывать. Верь!
– Правда твоя! – загорелся Феликс. – Я верю: Москва наша! Хочу верить. Как же иначе? Правда, Грач?
– Наша! Чьей же ей быть? – спокойно отозвался Грачев.
Григорий отметил про себя: удивительно спокойный это человек, для него все ясно, нет никаких сомнений.
– Тебя, Шобик, я попрошу: брось дурить! Брось мутить воду.
– Я что?
– Знаешь. Зачем сбиваешь людей с толку? Почему зовешь бросить отряд и разойтись группами?
– Не зову, наговор это...
– Зовешь!
– Мнение высказать нельзя?
– Не забывайся! Ты один раз запятнал себя. Второй раз не простят. Война. Запомни!
– Ясно, товарищ командир.
– Пока мы в отряде – мы сила. Поодиночке нас, как рябчиков, перестреляют. Лучше не болтай лишнего.
– Это он мнение высказал, – заступился Феликс. – Разговор был у нас. Шобик и предложил разойтись группами. С ним никто не согласился, и он не настаивал.
– Теперь на меня всех собак вешать будете, – обиделся Шобик.
– Слушай и мотай на ус, – перебил его Грачев, заканчивая перевязку, – его подвижные ловкие пальцы ладили узлы. – Ныть ты мастак. Верно ведь, Феликс, а?
Феликс молчаливо согласился.
* * *
Во второй половине дня напали немцы. Диверсия на шоссе, видимо, встревожила фашистов, и они бросили вслед дерзкому отряду роту автоматчиков. Заметил их западный пост. Один из сторожевых прибежал в лагерь, разбудил прикорнувшего немного Анжерова. Отряд подняли по тревоге. Сразу мучительно-тревожный вопрос: что делать? Уходить? Принять бой? Если бы капитан представлял, какая местность впереди, если был бы уверен, что пойдут сплошные леса! Тогда, возможно, принял бы решение отходить...
Но что впереди? Вдруг фашисты настигнут отряд в открытом поле, вызовут подмогу с земли и воздуха? Гибель. Бой или отход? Бой!
– Игонин, – распорядился Анжеров, – бери взвод, ударь во фланг, сумеешь – в затылок. Оставь трех пулеметчиков. Спеши!
– Есть! – козырнул Игонин.
Убежал к своему взводу. Через минуту прибежало шестеро бойцов – три пулеметных расчета. Бойцы отряда заняли оборону, залегли, укрылись за стволами деревьев. Пулеметчиков Анжеров рассредоточил: двух с флангов, третьего в центре. Командный пункт расположил в центре обороны. Григория послал на правый фланг. Там лес гуще, подходы скрытые.
Справа от Андреева примостился расчет ручного пулемета. То были два молчаливых парня, из одной деревни, откуда-то из-под Вологды. Установили пулемет на сошники, приладили диск. В ожидании боя сели по-турецки и принялись неторопливо закусывать. Крошечными ломтиками нарезали хлеб, испеченный пополам с отрубями, положили ломти на траву. Ели сосредоточенно, углубясь в себя. Крошки собирали в ладони и тоже отправляли в рот. Ели деловито, словно готовились к трудной крестьянской работе.
Слева, привалившись спиной к дереву, сидел Грачев и курил – затягивался дымом глубоко, покряхтывал: самосад был крепким. Цигарка уже догорала. Держал ее указательным и большим пальцами, ногти которых побурели от никотина.
Рядом с Грачевым на животе лежал Феликс, всматривался вперед: ждал немцев. Вздрогнул, когда Грачев, кончив курить, взял карабин и клацнул затвором. Нервы у парня взвинчены до предела. На скулах полыхал румянец.
Андреев то и дело ловил на себе пытливые взгляды Феликса. Наверно, Сташевский проверял по Григорию: серьезное положение создалось или не такое уж серьезное. Не спрашивал ни о чем, а изредка поглядывал на него. Григория пробирала внутренняя дрожь, но заметив, что за ним наблюдает Феликс, подобрался и неожиданно успокоился.
Устроившись за сосной, осмотрелся: выбирал сектор обстрела. Мешала махонькая сосеночка, лет пяти от роду. Забавная сосенка, косматая и колючая. Пришлось срубить. Мешала прицеливаться. Вынул из мешка две обоймы – весь запас.
Фашисты появились вдруг. Не было, не было никого, и вот из-за куста вынырнул первый автоматчик. Метров за триста от Андреева. Ростом высок, с засученными по локоть рукавами. Белокурый. На уровне живота висит автомат. Китель серо-зеленый, шаровары тоже, заправлены в сапоги с широкими голенищами. Во многих переделках побывал Григорий, а немецкого солдата при дневном свете и во весь рост видел впервые. Тот шагал настороженно, оглядывался по сторонам, на своих товарищей. Боится! На засаду боится напороться. Взял верзилу, на мушку. Подумалось: идет и в мыслях, наверно, не держит, что топчет землю в последний раз. Любопытно, было у него предчувствие конца или нет? Жил где-нибудь в Мюнхене, а то и в Гамбурге, о чем-то мечтал, возможно, любил. А Гитлер его оболванил, послал воевать, посулив целый мир. Чего дома не сиделось? Отмеривает по земле последние метры. Грянет выстрел, и пуля, посланная Григорием Андреевым, остановит еще одно разбойничье сердце.
За верзилой показались другие. Скоро их набралось десятка четыре.
Хлопнул пистолетный выстрел: Анжеров дал сигнал открыть огонь. Лопнула тишина, распластанная на лоскуты, разлетелась на гулкие осколки. Застонал, загудел лес. Пули распороли лесной воздух, будто тысячи гибких кнутов хлестнули по безмолвию.
Григорий выстрелил и промазал. Верзила уже не шагал, а бежал и вопил что-то.
Григорий прицелился тщательнее, поборов дрожь, и снова выстрелил. Выстрела не слышал: кругом гремело и трещало. Только почувствовал, как приклад толкнул в плечо. Верзила споткнулся и упал вниз лицом. Сгоряча хотел подняться, но дернулся конвульсивно и затих навсегда. «Не ходи босиком», – прошептал Андреев и поймал на мушку другого фашиста, малорослого и плечистого.
Пули свистели над головой. Некоторые глухо вливались в ствол сосны, иные сбивали с веток хвою. Одна царапнула сосну, за которой лежал Андреев, сбоку, на вершок повыше головы. Кусок коры и коричневая пыльца упали на плечи и пилотку.
Атака в лоб захлебнулась. Фашисты начали обтекать правый фланг. Григорий подполз к вологодцам, приказал переместиться правее, где немцы сосредоточивались для нового броска. Пулемет повернули, и вовремя. Немцы бросились в новую атаку, но залегли из-за плотного огня. Андреев отцепил гранату, кинул. Она ударилась о сосну, отскочила вправо и брызнула в стороны огненными осколками.
Напор врага несколько ослаб. Фашисты попятились и залегли, прячась за сосны, за бугорки, за всякую малость, которая хоть немного хоронила их от метких пуль красноармейцев.
Лес гудел, наполнился неразберихой – гулким эхом выстрелов, протяжным посвистом пуль, беспорядочными выкриками людей, стонами раненых. Видно было, что немцы готовятся к новому броску.
Андреев приметил: за шершавым темно-бурым стволом сосны спрятался немец, оттуда глянула черная дьявольская дырка автомата, из которой вдруг мигнуло и замигало часто-часто еле видное белое пламя, – немец стрелял по Григорию. Андреев тщательно прицелился и выстрелил. Пуля царапнула кору выше. Черная дырка автомата на миг исчезла и появилась уже с другой стороны. Пули пропели над самой головой. Григорий инстинктивно пригнулся. Когда опять осторожно выглянул, то увидел старшину Журавкина, которого за сутолокой дел не видел со вчерашнего вечера. Старшина полз по-пластунски в сторону немцев. Плотно вжимался в землю, головой бороздил скудную траву. На ноге, возле правого ботинка, дергалась в такт движениям белая тесемка кальсонной завязки. «Очумел он, что ли?» – подумал Григорий. Кто-то слева закричал, перекрывая шум боя:
– Назад! Назад!
Но Журавкин полз и полз. Немцы его заметили и неожиданно ослабили стрельбу – тоже наблюдали. Уж не задумал ли этот русский перебежать к ним?
Григорий заволновался, ему тоже ударила в голову эта мысль: а не удрать ли собрался старшина? Не напрасно же Анжеров сразу проникся недоверием к нему. Григорий взял Журавкина на прицел и стал ждать.
А старшина между тем полз, не обращая внимания ни на что. Изредка делал короткие остановки и осматривался. Делал это, не поднимая головы, а повертывал ее набок, прижимая щеку к земле, чуть откидывал назад и смотрел вперед. Это была такая неловкая поза, что со стороны казалось странным, как же все-таки это удавалось старшине.
Журавкин наконец дополз до немца, которого Андреев уложил в начале боя, одним рывком хотел сорвать с него автомат, но сделать это сразу не удалось. Автомат крепко держал ремень. Теперь фашистам стало ясно, что они обманулись в ожиданиях. Обозлились и почти весь огонь сосредоточили на старшине. А тот, пряча голову за труп, достал из кармана перочинный ножичек, перерезал им ремень, вытянул автомат, снял с убитого коробку с патронами, не обращая внимания на плотный огонь. «Молодец!» – восхищенно подумал Григорий.
Старшина лежал между двух огней. Назад ползти нельзя, тогда немцы просто изрешетят его. Наши тоже вели плотный прицельный огонь по противнику.
В это время Григория кто-то тронул за плечо. Оглянулся. Связной от капитана, Саша Олин, курносый, веснушчатый.
– Чего?
– Капитан ранен. Просит вас к себе, – пухлые губы у Саши вздрагивали.
– Что? Анжеров ранен? Не может быть!
– Тяжело, – добавил Саша.
Григорий поспешил к Анжерову, все еще не веря. Где перебежками, где ползком – добрался невредимый до раненого капитана. Капитан лежал на спине, бледный, сразу осунувшийся до неузнаваемости. Синева прочно легла под глазами. Дышал тяжело, с хлюпаньем и присвистом: пуля попала в грудь.
Андреев опустился на колени. Слезы застлали глава. Капитан заметил слезы, поморщился.
– Не надо... – через силу выдавил он. Потом, почти шепотом, напрягаясь от боли: – Командуй боем... Отряд передаю Игонину. Иди.
Григорий медлил. Анжеров глазами сердито повторил приказ: иди! Бой идет, дорога каждая секунда.
Андреев вернулся в цепь, лег возле пулемета в центре. Связной Олин следовал за ним: теперь будет возле нового командира.
На правом фланге положение осложнилось. Фашисты обходили оборону, грозили очутиться в тылу. Григорий перебросил пулемет из центра на подмогу вологодцам, поспешил туда и сам. Спросил у Грачева:
– Жарко?
– Жар костей не ломит, товарищ политрук.
Феликс нервничал, искусал губы до крови. Глаза лихорадочно блестели. Спросил:
– Как же теперь?
– Что?
– Тяжело ранен командир. Немцы кругом.
– Получше целься, вернее будет!
Григорий глазами поискал Журавкина и увидел его. Тот лежал все так же, держа автомат в вытянутой руке, и Григорий не сразу сообразил, что Журавкин не движется, навечно застыв в этой неловкой позе. «Убили, гады!» – прошептал Григорий, и острый комок подступил к горлу. Представил враз изменившееся, какое-то чужое, незнакомое лицо Анжерова, и опять похолодело на сердце. Как же теперь без командира?
Слева неожиданно родилось дружное ура, и взвод Игонина смял правый фланг противника, врезался в центр. Немцы, не ожидавшие такого урагана, побежали. Григорий хлопнул Феликса по плечу:
– Видал?! – и, вскочив, заорал: – За мной! Бей гадов!
Отряд поднялся в едином порыве. Гнали немцев до самого поля. Остатки роты автоматчиков либо рассеялись по лесу, либо драпанули по тому же пути, по которому сюда пришли. На опушке преследование прекратилось. Несколько гитлеровцев удирали по полю без оглядки. Кто-то проводил их трехпалым лихим свистом.
Андреев бросил винтовку и взял трофейный автомат – оружие противника по праву принадлежит победителю. Разыскал Игонина, который стоял в кругу бойцов и слушал, как о чем-то рассказывал чернявый парень, бурно размахивая руками. Григорий тронул Игонина за плечо, отозвал в сторонку, тихо оказал:
– Беда, Петро, Анжеров ранен.
– Ты что? – сразу сник Игонин. – Может, ошибся, может, сплетня?
– Сам видел. Очень плох.
– Как же так? – устало опустил руки Игонин. – Не уберегли.
– Перебежку делал. Тут она его и поймала.
– Эх, – зажал Петро голову. – Какого человека не уберегли.
– Пуля, она не выбирает.
– Будешь ты мне сейчас умные речи говорить, – отмахнулся Игонин и заторопился к капитану. Григорий отдал приказ отходить, а по пути собрать трофейные автоматы.
Анжеров метался в бреду. Андреев послал за Грачевым. Горбоносый появился сразу же, разорвал гимнастерку, осмотрел крошечное отверстие, в которое вошла в грудь злая пуля.
Капитан хрипел. В уголках губ пузырилась кровавая пена. Саша снял с себя нательную рубаху, разорвал на ленточки, ленточки сшил. Другого бинта, чтобы перевязать командира, не нашлось. Грачеву помогали два бойца.
Григорий, когда они остались с Петром вдвоем, вздохнул:
– Осиротели мы...
– Черт знает что, – сокрушенно проговорил Игонин. – Разные Шобики живы, понимаешь, а тут такого человека потеряли!
Похоронили убитых – их было десять. Наспех перевязали раненых – их набралось более полутора десятка. Для троих смастерили носилки и еще засветло тронулись в путь. Оставаться здесь было опасно.
Игонин рассудил так. Сегодня фашисты просчитались: послали в погоню только роту. Надеялись, что русских немного – какая-нибудь горстка отчаявшихся. Таким достаточно погрозить автоматом, и они разбегутся в панике. А получили по зубам. Половина автоматов досталась победителям.
Теперь фашисты обозлятся и постараются поквитаться. Сил у них хватит. Поэтому Игонин не стал ожидать темноты. Пойдут лесом: где лес, туда повернет и отряд. Наступит ночь, можно опять взять курс на восток.
Может, ночью рвануть напрямик? Старик рассказывал – за старой границей снова раскинулись леса.





