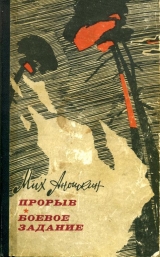
Текст книги "Прорыв. Боевое задание"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
– Ну, Алексей Васильевич, – сказал, улыбаясь, Андреев усачу Рягузову. – Вы у нас главный рулевой. Куда повернете, туда мы и пойдем.
– Можем, – тряхнул левым плечом партизан, поудобнее прилаживая за спиной карабин – на правом раненом плече не мог носить. – Тутошний лес мой родной дом. Каждая сосенка знакома, каждый уголок свой.
Лейтенант пожал Григорию руку, пожелал удачи, Григорий тоже. И первая тройка отправилась в путь – направляющим усач, за ним Андреев, замыкал Ишакин. Апатия у Ишакина не проходила. Делал все как полагалось, но машинально, не заинтересованно, не задумываясь. И много спал. Конечно, к голодному пайку нужно привыкнуть, это не каждому легко дается. Ишакину особенно тяжело. Однажды чистосердечно признался, что голодную слюнку в свое время поглотал вволю, страшился повторения. А повторение наступило.
Уже подходили к линии секретов, охранявших лагерь, когда группу догнал Мишка Качанов. Андреев, увидев его, сказал Рягузову, чтоб тот остановился. Зачем бежит Качанов? Неужели изменилась обстановка и их хотят вернуть в отряд, чтоб поручить другое задание?
Подбежав, Качанов улыбнулся усачу:
– Чего смотришь так? Чтоб порядок был в саперных частях, за сержанта головой отвечаешь.
– К делу, Качанов, – прервал Андреев, – Что у тебя?
– Разрешите обратиться, товарищ сержант, к Ишакину?
– Побыстрее.
– Извини, Вася, – сказал Мишка и, вытащив из кармана коричневый шершавый ломоть сухаря, сунул товарищу. – Забыл передать. Держи.
Ишакин взял сухарь без объяснений и спрятал в карман.
– Из-за этого и бежал? – спросил Андреев. – Никакого поручения нет?
– Так точно, товарищ сержант, никакого! Пища, как говорил Пушкин, – основная наша беда и радость!
– Не говорил этого Пушкин, – улыбнулся сержант. – Иди!
Качанов вернулся в лагерь, трое продолжали путь. Алексей Васильевич на ходу, через плечо, удивленно заметил:
– Другой бы на его месте умял сухарь, раз хозяин не спрашивает, и дело с концом. А этот – святая душа – простота.
Но Ишакин возразил:
– Сухарь не мой. Из своей пайки мне отдал.
– Как не твой? – удивился Рягузов.
– А вот так, – не стал вдаваться в подробности Ишакин и надолго замолчал.
Рягузов двигался свободно, по каким-то непонятным, одному ему ведомым признакам узнавая дорогу. Широкая спина с полупустым вещевым мешком, с карабином на левом плече, шапка-ушанка с тесемочками на макушке маячили в мглистых сумерках перед глазами Григория.
Про Мишку Качанова Григорий знал почти все. Жизнь его прозрачна и ясна, характер открытый и общительный.
Ишакин – натура загадочная. Если он и приоткрывал иногда какой-нибудь кусочек из своих похождений, то делал осторожно, с прикидкой. Если склеить эти кусочки в одно целое, то они образуют, примерно, следующее: по особым веским причинам Ишакин очутился на севере, где «съел мамины зубы». Пришло время – подался в Среднюю Азию, «отогреваться». Там и застала его война.
Прежде чем попасть в гвардейский батальон, Ишакин воевал в сорок втором под Мценском. Бои там кипели кровавые и затяжные, наши несли тяжелые потери. Ишакин вспоминал их часто и тогда становился злым и с отчаянным придыхом, хрипло, как это делают урки, пел:
Воевать задумали,
А всего не взвесили.
Лучше б Гитлера косого
До войны повесили.
Ишакин умел носить эту оболочку, за которую не пускал никого. Григорий долго гадал – каким образом Ишакин попал в гвардейский батальон. Отбирали сюда строго, не каждого брали, тем более с судимостью. Но Ишакин однажды признался, что судимость скрыл, хотел уйти из той части, потому что там на него взъелся отделенный, не давал житья.
Алексей Васильевич вывел их на поляну. Здесь было светлее чем в лесу. И небо обширнее. В центре поляны темнела громада тополя – разросся в одиночестве и вширь и ввысь. Внимательно всмотревшись, Григорий обнаружил длинную трубу русской печи. А вокруг буйствовала крапива и чертополох. Крапива источала душный жгучий запах.
Устроили перекур. Ишакин отломил кусочек сухаря и сосал его, как младенец соску. Андреев с Рягузовым закурили. Григорий прятал огонек в ладонях, а усач умудрялся в рукаве пиджака.
Небо темно-синее, звездное, без единого облачка.
– Я когда здесь прохожу, – сказал Рягузов, – всегда привал делаю. Привычка. До войны тут жил мой дружок, лесник Осип, одногодки мы с ним. Жена у него была – ду-у-ша баба. Бывалоча придешь в ночь, в полночь – завсегда желанный гость. И накормит, и напоит. Водилась у нее рябиновая настоечка. М-м-м! – от удовольствия замычал усач и, вздохнув, закончил: – Все быльем поросло. Осипа убили, на руках у меня и умер, еще зимой сорок второго.
– А хозяйка?
– Федосья? И не говори. С голодухи детишки пухли, трое было. Пошла в ближнюю деревню, там тоже ничего нет. Оставила детей у родственников и решила пойти по деревням собирать продукты. Просто так не пойдешь – пропуск надобно. Пропуска немец выдавал, она к нему. Объяснила что к чему через переводчика. Комендант вроде и не возражал, дал ей записку: мол, в другой деревне покажешь властям. А сам, кат, ухмыляется. Ну, пошла Федосья в другую деревню, там у нее аусвайс, пропуск, значит, потребовали. Она записку и показала. Схватили Федосью и повесили. Вот так «пошутил» герр комендант – написал, что она партизанка. Малых деток раскидало. И где они – ни ты, ни я, никто не скажет. Потому как родственников, у которых их Федосья оставила, угнали в Германию. Такая нынче жизнь пошла, – вздохнул Алексей Васильевич и замолчал. Разбередил себя воспоминанием. Андреев не стал его тревожить. Но Алексей Васильевич молчать уже не мог.
– Я охотник, – продолжал он задумчиво. – Всю жизнь промышлял в тутошних лесах, нонче тоже промышляю, на двуногого зверя. До войны, без похвальбы скажу, был я знаменитым охотником. В Москву ездил, на выставку сельскую, медаль имел, во как. За охотничество. Почитай почти на две тыщи пушнины сдал – не баран чихнул. Меня товарищ Давыдов поначалу в снайперы определил. Я метко стрелял, в аккурат белке в глаз попадал, во как.
– Почему сейчас не снайпер? – спросил Григорий.
– Разве не видишь? Плечо-то инвалидное, пуля сидит, проклятая. С левого примастачился, да меткость не та.
– И давно ранило?
– Тем летом. Мотались-мотались по лесу, в деревню заскочили. Тело зудилось – спасу нет, коростой пошло. Без бани прямо умирай. Истопили баню, мыться начали, а тут они и налетели.
– Кто?
– Каратели, знамо дело. Мы из пара да в огонь, в чем мать родила, порты натянуть не успели. Меня тогда и ударило. На, пощупай, – пригласил усач Андреева, взял его руку в свою и поднес к правому плечу. – Чуешь твердое?
– Дай-ка и мне, дядя, пощупать, – вдруг проявил интерес Ишакин, а пощупав, заключил: – Ее запросто выколупать. Чик ножиком – и вася!
– Фельшер не велел. Говорит, пусть сидит, не мешает ведь, после войны вытащишь. Она взаправду не мешает, к погоде только ноет – барометр. Что, пора двигаться? – поднялся Рягузов, заплевывая цигарку. – Ночи нонче короткие, а нам на месте надобно быть затемно.
Рягузова не на шутку одолели воспоминания. Хотелось непременно что-нибудь рассказать гвардейцам. Славный малый, сержант-то. Спокойный, рассудительный. Грамотей. Пайку отдал за обтрепанную книжку, цена-то ей грош в базарный день. Поначалу Алексей Васильевич погрешил – не чокнутый ли? Но стал Григорий читать ему книжку – другое дело. Алексей Васильевич затылок скреб от изумления. Лоботрясом, видать, этот барин, Обломов, был, лентяй из лентяев, каких свет не часто родит. Барин, одним словом!
А сержант толк в книжках понимает. Не довольствуется тем, что видит своими глазами. Ему давай больше, хочет разумом дойти, как жили люди в старину. По-чудному жил тот барин – на диване бока пролеживал, его б по лесу поводить, по глухомани да болотам. Знатно было бы! Но то старина седая, теперь другое.
Не дочитали, вернемся с задания – дочитаем. И тот, вологодский, тоже стал слушать, когда сержант читает. Послушает, послушает и зевать начнет – ему, видишь ли, неинтересно. Не слушай, коли неинтересно. Но тоже парень ничего, к Анюте бегает. И доброхот, свою пайку товарищу отдал, а у самого в брюхе волки от голода воют на разные голоса. Не видит Давыдов, как он липнет к Анюте, не то поддал бы жару – небо в овчину показалось бы. Много козликов пробовало увиваться возле радистки. Но Давыдов скорехонько им рога пообламывал, на этот счет человек он суровый, спуску никому не дает.
Рягузов-тоже побаивался комбрига. Сердитый бывает. А так – башковитый мужик. Хватит о нем. Может, про Лешку рассказать гвардейцам – как он медаль потерял? Остановились в деревне, когда еще немец села не жег и бывал в них редко. Лешка ходил грудь колесом – глядите, какой я геройский, медаль имею, и не какую-нибудь, а «За отвагу». Он ее недавно только получил и был охмелен радостью. Бабы народ жалостливый, голубили Лешку чем могли и то ведь – пацан пацаном, а уже солдат с боевой медалью. А мальчишки, так те увивались за ним хвостом, в глаза заглядывали, каждому Лешкиному слову верили. И случилась беда – потерялась медаль. Колечко, которое держало ее на колодке, а колодки были еще маленькие, разогнулось – и нет медали. Схватился Лешка за грудь, похолодел – колодка на месте, а медали нет. Столбом парнишка застыл, ни рукой, ни ногой пошевелить не может, язык отнялся. Минуту, наверно, и стоял. А пришел в себя – и навзрыд, чуть родимчик не хватил. Лешке сочувствовали, утешали. Бабы и мальчишки деревню облазили на коленях, заглянули под каждый камешек и кустик, осмотрели каждую щелочку, в избе, в которой Лешка жил. И нашли пропажу! Потом Давыдов примотал медаль к колодке так, что нарочно будешь рвать – не оторвешь. Может, это рассказать?
Нет, что-то молчит сержант, настроения нет слушать мои побывальщины. Ладно, другой раз как-нибудь расскажу. Должен же я отплатить ему добром. Книжки читает, а я ему побывальщины расскажу. Побывальщины есть позаковыристее, чем в книжках. Эка невидаль – лежит человек целыми днями на диване, Обломов-то, и жиром оплывает. Хоть это интересно и написано складно, душевно так, а ничего веселого в том нет. Вот бы того лежебоку сюда, поварился бы он в нашем горячем котле, ему бы мигом бока пообтесали, жирок бы, небось, быстренько стаял.
Рягузов, как и обещал, привел гвардейцев к месту перед самым рассветом. В лесу цеплялись ночные сумерки, но небо порозовело, на открытых местах развиднялось.
Место Алексей Васильевич выбрал удобное. Лес кондовый, и что особенно хорошо – с густым подлеском и подходил к обрыву на берегу речушки. Спуск к воде крутой, метров десять, не меньше. Речушка неширокая и неглубокая, вброд перейти свободно можно.
Противоположный берег пологий, переходил в ярко-зеленый пойменный луг. Затем местность чуть повышалась, но отлого. Там кучерявились кустики, а за ними, по горизонту, легла пыльная дорога, большак, как ее зовут здесь.
Большак оказался двусторонним, движение ничто не сдерживало, и оно было оживленным. На восток, утробно гудя, неуклюже двигались тупорылые автомобили, то под брезентом, то с солдатами в открытых кузовах. Иногда, покачиваясь на выбоинах, проезжали легковые машины, поблескивали черным лаком, либо ослепительно отражали смотровыми стеклами солнце. Однажды промчалась колонна автомашин с солдатами, в смешных, одинаковых касках. У некоторых автомобилей на буксире легкие пушки. Пятнадцать грузовиков.
На запад двигались, нарушив строй, пехотные части, малочисленные и потрепанные в боях. Солдаты брели, понуро опустив головы. Протарахтел обоз с беженцами. На телегах всевозможный скарб – самовары, табуретки, сундуки, на каждой – дети. За телегами, привязанные поводками, плетутся коровы, козы, овцы. Взрослые идут пешком, держась за грядки телег.
– Побежали, – усмехнулся Алексей Васильевич. – Старосты всякие да отпетые полицаи. Заметет ураганом, не уйдут.
На телегах сидят дети. Русские дети, несмышленыши, несчастные. Что их ждет, какую долю готовит жизнь, и без того к ним немилостивая? Отцы их попрали совесть и честь, изменили Родине, превратились в фашистских холуев, предали все святое и обагрили руки кровью соотечественников. Дети ничего этого не знают, но им придется расплачиваться за грехи отцов сполна потом, когда подрастут, ибо они вырастут на чужбине и не будут знать, что такое ласка и забота Родины.
Как-то, обгоняя всех, по обочине проскакали три всадника. У двух лошади карей масти, а у третьего серой, с крупными черными яблоками по крупу. Куда их несет? Что за кавалерия?
– Полицаи резвятся, – пояснил Рягузов, – из той деревни. На мушку бы их – как миленьких продырявил бы.
– На всем скаку? – спросил Ишакин.
– А что? Запросто, даже с левого плеча.
– Промажешь.
– А вот я их сейчас, – разохотился Рягузов, прилаживая удобнее карабин, но Андреев возразил:
– Не надо, Алексей Васильевич.
– Не надо, так не надо, в чем же дело.
– А ты, Ишакин, брось подзуживать. Нам нельзя выдавать себя, ночью минировать придется.
Ишакин приметил справа, ближе к деревне, на лугу женщину с козой. Женщина появилась утром. Привязала к колу на длинной веревке козу. Сама за кустик, и принялась не то вязать, не то шить. Когда солнышко поднялось в зенит, женщина легла ничком на землю и пролежала довольно долго. Коза ходила вокруг кола, щипала траву, изредка поднимала бородатую голову и смотрела на хозяйку, словно хотела убедиться – на месте она или нет. Не коза, а скорее рослый козленок, белой масти.
К вечеру прибежала босоногая девчушка, и женщина ушла с ней в деревню. Коза недоуменно глядела вслед, а потом опять принялась щипать траву. Скоро вернулась хозяйка и, увидев ее, коза, как показалось Ишакину, радостно мемекнула.
Партизаны наблюдали за большаком до сумерек. Андреев на клочке бумаги занес вкратце все, что увидел за день.
Когда смеркалось, из вещевых мешков извлекли взрывчатку, соорудили две связки по четыре килограмма, проверили взрыватели. На этот раз взяли взрыватели полевых фугасов. Они удобны и безотказны. Из-под земли торчит неприметная палочка, мало ли таких валяется на дороге. Но стоит запнуться за нее или наехать, она падает, освобождает боек от зацепа – и взрыв. Как говорят саперы, тогда отправишься прямым сообщением к богу в рай сушить сапоги.
Партизаны осторожно спустились с обрыва к реке, разулись и полезли в воду. Пожалели, что не сняли и брюки. До кустов добрались перебежками, потому что на большаке движение пока не прекращалось, хотя заметно утихло.
Пока бежали по лугу – ничего. Земля твердая, схваченная корнями трав. От кустиков начался песок, он налип на мокрые брюки и стало неприятно. Ладно, догадались спрятать спички и махру в нагрудные кармашки гимнастерок, а Рягузов – во внутренний карман пиджака.
За кустами отлежались и поползли к дороге. У обочины поднималась густая поросль дубняка. В дубняке притихли. Рягузов прошептал на ухо Андрееву:
– Сроду не думал, что буду по родимой земле ходить крадучись и по ночам.
Машины мигали узенькими полосками света. Полоски падали на землю, судорожно щупая ее. В сорок первом летели с открытыми фарами. Бывало, глянешь на дорогу – зарево колышется. Теперь боятся, забились в норки. Лучик падает на дорогу махонький, еле-еле видный. Машина движется осторожно, однако торопится поскорее добраться до ночлега. Опасно ездить по дорогам ночами, даже летними.
Лежат трое в дубняке, ждут своего часа, глотают пыль и противную горечь автомобильных выхлопов. Дубняк покрыт толстым слоем пыли. Ишакин то и дело отплевывается и про себя матерится.
Движение становилось слабее и слабее. В полночь оно прекратилось. Затихло до рассвета.
Рягузова оставили наблюдателем. Андреев побежал на дальнее полотно, Ишакин остался на ближнем. Поначалу Григорий волновался, но постепенно обрел уверенность. Орудовал финкой основательно и не торопясь – накатанный грунт плохо поддавался. Иногда отрывался от работы, стирал со лба рукавом гимнастерки пот и прислушивался. Тишина, даже самолетов не слышно. Наконец, ямка готова, в нее заложен фугас, установлен взрыватель. Григорий руками разровнял землю, боясь ненароком смахнуть палочку со взрывателя. Тщательно замел следы. Теперь только самый наблюдательный и понимающий человек мог обнаружить ловушку. На Большой земле учебных мин поставлено сотни, навык был. А сколько пришлось обезвредить своих и немецких на бывших передних краях!
Ишакин с работой справился раньше Григория, почва оказалась легче – песок.
Без происшествий вернулись на обрывистый берег, под тот же куст жимолости. Речку одолели в брюках – смыли, с них песок. На берегу основательно их выжали.
Остаток ночи решили переждать здесь, чтоб посмотреть, что подорвется на фугасах.
Медленно и лениво после сна поднималось солнце. Было прохладно. Андреева била дрожь. Шинель оставил в лагере, хотел сходить налегке. Сейчас она была бы кстати. У Ишакина зуб не попадал на зуб. Только Рягузов никак не реагировал на прохладу. Показалась первая машина: неуклюжий тупорылый автобус. Двигался на восток. Трое замерли. Сейчас накатится на роковую палочку и будет гром. Считанные метры остались... Автобус благополучно миновал заминированный участок и, таща за собой хвост пыли, приближался к деревне.
Ишакин обалдел. Тупо следил за удалявшимся автобусом и ничего не мог понять. Почему же не сработал фугас? Автобус скрылся за увалом. Ишакин увидел женщину, которая вела на веревке безрогую козу к тому же колышку.
– Взрыватель не забыл поставить? – спросил Андреев, который тоже был обескуражен неудачей.
– Я ж не без головы! – обиделся Ишакин.
– Странно! Не могли же его снять, мы ж глаз не спускали с дороги.
Со стороны деревни появилась легковушка, ехала быстро – горбатая, похожая на черного головастика. Фугас заложен вон у той одинокой березки, чуть левее ее. Легковушка, доехав до этого места, исправно взлетела на воздух. Даже забавно получилось. Вроде бы сначала поднялась на дыбы, потом бойко подпрыгнула, и тут красное пламя с огромной силой швырнуло ее вверх, попутно разламывая на части. Через минуту все улеглось, и только одинокая железка долго свистела в высоте и шлепнулась на пойменный луг. Женщина от страха присела на землю и глядела туда, где только что прогромыхал взрыв.
– Не богато, – подытожил сержант.
– Что говорить, – согласился Рягузов. – Мог бы, ясное дело, попасть и зверь покрупнее. Но и это ладно. Небось, генерал какой-нибудь богу душу отдал, а это поважнее автобуса, генерал-то.
– Генерал, – усмехнулся Ишакин. – Генерал с охраной ездит.
– Ну, хай там полковник, и то птица важная.
Из деревни к месту взрыва мчались два мотоцикла с коляской. Не доехав метров двести, остановились. Боялись приблизиться? Или советовались, что делать? Чего им еще делать – от машины остались рожки да ножки и впридачу круглая воронка.
Мотоцикл без коляски бешено летел с востока, колеса вроде бы и земли не касались, только пыль сбивали.
Андреев хотя и следил за ним краем глаза, но не надеялся, что сработает ишакинский фугас. А он как раз и сработал. Мотоцикл вместе с седоком, словно мячик, подбросило вверх и там развалило на части. Вот же как бывает! Неуклюжий громоздкий автобус миновал роковую палочку, не задел ее, а тут такая малость подорвалась! Обидно!
Те мотоциклы, что остановились у первой воронки и гадали, что делать, начали торопливо развертываться.
– Разреши, командир? – спросил Рягузов, глазами показывая на мотоциклы.
– Попробуй, так и быть.
Рягузов лег на живот поудобнее, приладил к левому плечу приклад карабина и затаил дыхание, прицеливаясь.
– Не попасть, – сказал Ишакин. – Далеко.
– Тихо! – предостерегающе поднял руку Андреев. Гулко хлопнул выстрел. Передний мотоцикл уже успел развернуться, устремляясь к деревне. Мотоциклист вдруг дернулся и повалился грудью на руль. Машину повело вправо, и она завалилась в кювет. Пока Рягузов щелкал затвором,второй мотоциклист, видя, что дело оборачивается скверно, что его тоже могут подстрелить, выжал максимальную скорость. Рягузов стрелял дважды, но промазал. Вздохнул огорченно:
– Мазила. С правой бы не промазал.
– Здорово стреляешь! – похвалил Андреев.
Ишакин смотрел на женщину с козой. Она сидела на земле, а коза пощипывала траву. Женщина, наверно, не могла решить – то ли ей возвращаться домой, то ли бежать куда глаза глядят.
Партизаны углубились в лес. Рягузов выбрал глухой темный ельник, и под разлапистой елью устроили дневку. Следовало отоспаться. Из папоротника и еловых ветвей устроили лежанки. Договорились так – двое спят, один дежурит.
Первым дежурит Андреев, за ним на вахту встает Ишакин.
Григорий Андреев свои два часа мучительно клевал носом. Когда пришел черед спать, даже не помнил, как очутился на лежанке, согретой ишакинским телом.
Спал долго. Открыв глаза, почувствовал, что выспался. Рягузов сидел на лежанке и сосредоточенно курил. Ишакина под еловым шатром не было. Андреев выбрался наружу и первым делом увидел белого козленка, который лежал у ног Ишакина. Козленок накрепко связан за ноги веревкой. Круглый глаз неотрывно смотрел на похитителя. Черная мордочка то и дело дергалась и была влажной.
Автомат у Ишакина перекинут через плечо, пилотка посажена на самые уши – как это всегда делал солдат в трудную минуту. Обе руки Ишакин держал на финке, которая болталась у него в футляре на поясном ремне. Глянул на сержанта выжидательно и нагловато.
– Это откуда еще? – удивился Григорий. – Где ты его взял?
– Тут, – неопределенно махнул рукой Ишакин. – От хазы отбился. Пошла коза за орехами, пошла коза за калеными, : – с той же нагловатой выжидательностью улыбнулся он. – И нашла коза партизана.
На четвереньках из-под ели выполз Рягузов, выпрямился и, отряхнувшись, как гусь, побывавший в воде, тяжело и осуждающе покачал головой, подергал за ус.
– Как это понимать, Алексей Васильевич? – спросил Григорий и вдруг рассердился: – Бросьте голову морочить! Один козленка приволок, сказочки рассказывает, другой дергает себя за ус и воды в рот набрал.
– А так понимай, товарищ сержант, – сузил зоркие глаза Рягузов, словно прицеливаясь, – что маленьких детей за вранье березовой кашей угощают, а такой орясине не знаю что и сделать надо.
– Не темни – каша, орясина, – сморщился Ишакин, и у глаз сразу сбежалась масса мелких морщинок. – Я, сержант, не скрываю – голодный я, шибко голодный. Дай волка – с потрохами съем, костей не оставлю. Не нашамкаюсь сегодня, завтра ноги протяну. И какой к хрену после этого из меня вояка, я на портках пуговицу не смогу расстегнуть, не то что немца прибить. Да меня немец живьем возьмет, у меня, знаешь ли, слабость по телу, а в глазах круги.
– Постой, Ишакин, – хотел остановить его Андреев.
– А чего ждать? – разошелся тот. – Революция пострадает? Нашему войску урон нанесем? Если мы этого козленка на жаркое пустим, пострадает, да?
– Молчи! – закипая гневом, сказал Андреев. – Думай, что говоришь! Чья коза, Алексей Васильевич?
– Той бабы.
– Какой бабы?
– Которая на лугу пасла.
– Та коза? – спросил Григорий Ишакина.
– Какая разница, сержант? Та или эта? Коза и все. Секим башка ей, костерок пожарче. И жить будет веселее.
Григорий на миг представил, как Ишакин отбирал у женщины козу, может, последнюю надежду, потому что фашисты ограбили ее дочиста. И пасла-то козу сама, стерегла пуще глаз, боялась, как бы не стащили. Если б отнимал фашист, она б подралась с ним, но не отдала, хотя это могло стоить ей жизни. А тут свой, с гвардейским значком, с красной звездочкой на пилотке. Сама отдала...
– Что ты ей сказал? – тихо спросил Григорий.
– Кому?
– Женщине.
– Мамаша, говорю, войдите в положение, от голода помираем, а нам надо фрицев бить.
– Она что?
– Сыночек, говорит, родненький, разве я не понимаю, разве я темная какая? Возьми мою Машку, ешь на здоровье.
– Плакала?
– Бабье дело, товарищ сержант. У них слезы близко. Чуть что – дави на слезы.
– А ты, когда с нею разговаривал, звездочку, вот эту, на пилотке, не прятал?
– Зачем, сержант?
– Чтоб Красная Армия из-за тебя, подлеца, не краснела, чтоб не подумали люди, будто в ней есть мародеры.
– Я мародер?
– Мародер!
– Эх, сержант, сержант, – сразу скис Ишакин, – а я-то думал: приду, накормлю сержанта свежей козлятиной, а то он тоже доходит, одни глаза блестят, а вместо щек ямы.
Андреев не мог без отвращения смотреть на Ишакина, ненавистным было нагловато-покорное лицо, тонкие длинные губы, глаза, которые не смотрят прямо, манера натягивать на уши пилотку. Как это до сих пор не замечал, что Ишакин несимпатичный и алчный. Нет, пожалуй, замечал, но только считал, что другое в нем главное. Но оно, хорошее, настоящее, дремлет внутри и в свое время выявится сполна. Вера в выдуманное мешала разглядеть суть – нагловатую покорность, озлобленность и животное стремление урвать для себя за счет других.
Да, в Андрееве это было неистребимо – верить в лучшее, что должно быть в человеке. Много раз ошибался, но ни при каких обстоятельствах не мог и не хотел истребить эту веру.
Андреев знал, что с этой минуты не будет верить Ишакину, напрочь вычеркнет из своих списков.
– Что ж будем делать, Алексей Васильевич?
– Ума не приложу, – развел руками Рягузов, – Всякое в тутошних лесах случалось, а такого... Чтоб у наших жинок последнее – извиняйте, не случалось... Они под германом стогнут, слезьми кровавыми плачут... Козленочек – это что, товарищ командир. Тая баба последнюю юбку свою отдала бы, только попроси – бери, родной, воюй, бей супостатов. Но чтоб у нее вот так... Извиняйте... В душу наплевать и то легче.
– Растрогался, дядька, того гляди носом захлюпаешь, – усмехнулся Ишакин. – Зачем усложнять и без того сложную жизнь? Трескучие слова все мастаки говорить, хватит, наслушался... – и вдруг Ишакин замолчал.
– Трескучи-и-е? – дрожащим голосом повторил Рягузов. – Трескучие слова? – У него отхлынула кровь от лица, бледность легла на скулы, непроизвольно дернулся левый ус. Алексей Васильевич медленно и неотвратимо наливался бешенством, и Ишакин испуганно попятился, поперхнувшись словом. Рягузов же стягивал с плеча карабин, не спуская с Ишакина беспощадных глаз:
– Может, ты фашист?
– Но, но! – завизжал Ишакин. – Не балуй! – и вдруг кинулся прочь, напролом сквозь колючие ветви, сквозь мелкий подлесок. Он знал – Рягузов умеет стрелять метко.
Андреев перехватил ствол карабина и, пригнув вниз, укоризненно произнес:
– Алексей Васильевич! Вы что?
Рягузов всегда тихий и покладистый вдруг выказал упрямство и непримиримость:
– Пусти!
– Алексей Васильевич!
– Так надругаться... М-м-м, – с болью промычал он и перестал сопротивляться. Спешно закинул за плечо карабин, провел ладонью по усам и вздохнул. Кровь постепенно возвращалась к лицу, порозовели скулы. Виновато сказал:
– Прости, сержант, малость погорячился.
Ишакин метрах в двадцати прятался за елью, с опаской выглядывал из-за нее – не целится ли в него Рягузов? Возвращаться не решался.
– Давай-ка, Алексей Васильевич, уведем козленка на луг и отдадим женщине.
Развязали козленку ноги, намотали веревку на шею и повели. На отдалении следовал Ишакин.
Женщины на лугу не оказалось. Что она должна там делать без козы? Как лучше – просто отпустить козленка или же привязать к колу? Договорились – отпустить. Андреев снял веревку, взял козленка на руки и спустился вниз, к реке. На большаке двигались машины, брели солдаты. Рягузов предостерег:
– Поаккуратнее будь.
Андреев, не разуваясь, одолел речку вброд, спустил на землю козленка. Тот смешно подскочил и остановился, уставившись на Андреева. Вроде бы хотел спросить: ну, а дальше что?
– Удирай, пока не поздно, – усмехнулся Григорий и вдруг, хлопнул себя по колену, выдохнул: – Марш! – и притопнул ногой.
Козленок отпрыгнул, мемекнул и направился к месту, где всегда пасся. Андреев вернулся к Рягузову.
– Слава богу, – обрадовался Алексей Васильевич. – Боялся за тебя. Эвон их сколько прет по большаку, а ты на виду. Долго ли до беды? Потерь нет, можно и домой.
Андреев вылил из сапога воду, выжал брюки, и они двинулись в путь.
Потерь нет, усач прав, но не совсем. Потери были. У Андреева. Пострашнее физических. Сержант потерял Ишакина. Рядом будет жить и воевать человек, которому не верил, на которого не надеялся.
Возвращались в лагерь вдвоем с Рягузовым и всю дорогу молчали. Но Андреев спиной чувствовал, что следом, поотстав, плетется Ишакин. Боится, что у Алексея Васильевича может повториться вспышка гнева. Про сержанта знал наверное – при всех грехах за оружие хвататься не станет. Усач бешеный, теперь видно, что лесной человек, хотя тихоней притворялся. Верно подмечено – в тихом омуте черти водятся. Но, возможно, Ишакин не побоялся никакой вспышки, а просто плевал на происшедшее? Едва ли. Вон как сиганул, когда Рягузов схватился за карабин, да еще заверещал зайцем.
Может быть, совесть заговорила? Кается, что украл козленка, что так разговаривал с Рягузовым. Столько бок о бок вместе прослужить, столько из одного котелка съесть каши – и никакого в душе следа?
Васенев еще не вернулся. О выполнении задания сержант доложил комбригу. Давыдов поблагодарил за хорошую службу. Вернувшись к себе, Андреев, нахмурившись, приказал Ишакину:
– Снять гвардейский значок!
Когда значок был откручен, взял его и спрятал в полевую сумку. Лег на спину, заложил руки за голову.
Вечер хмурился. Серые рыхлые тучи заволокли небо. По верху куролесил ветер. Вершины сосен качались и нудно, однотонно гудели, словно где-то недалеко падал маленький, но шумный водопад.
Допек Ишакин Алексея Васильевича. Застрелил бы Ишакина, если бы не помешать ему. Обиды много накопилось. Обида за поруганный край, за то, что матери и жены беззащитны, обида за тех, кто этого не понимает, у кого нет кровоточащих ран на сердце. Обида на таких своих, как Ишакин, которые вместе воюют, а вот боли на сердце не имеют и запросто могут отобрать последнюю козу, последний кусок хлеба у беззащитных и без того обездоленных.
Что делать ему, Андрееву, с Ишакиным? Ладно хоть дело далеко не зашло, украденное возвращено. Посадить под арест? Но какое это имеет значение здесь, в отряде? И где тут держать под арестом? Всыпать на всю катушку нарядов вне очереди? Обрадуется – не нужно ходить на задания, подвергать себя смертельной опасности.
– Что же делать?
Кто-то опустился рядом. Григорий повернул голову – Ишакин. Сидит, поджав колени к подбородку, уставился впереди себя. Нет нагловатого выражения на лице. На лбу в глубоком раздумье собраны морщины. На правой стороне груди заметный след от значка – овал и дырка.
– Сержант, а сержант, – позвал Ишакин.
Андреев рывком поднялся, тоже сел и принялся скручивать цигарку, не глядя на солдата.
– Не сердись, сержант.
Андреев сосредоточенно скручивал цигарку, ждал, что еще скажет Ишакин. Но тот молчал.





