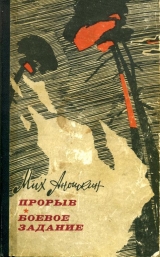
Текст книги "Прорыв. Боевое задание"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Сташевский славный парень, деликатный такой, с нею, по крайней мере. Кое-кто из ребят огрубел в лесу, материться научился. Другой раз махнут непечатное слово и при Анюте. Она их сердито осаживает, но они быстро забывают про свою оплошку. Федя нет, за ним такое не водится. Интеллигентская закваска в нем сидела крепко. Анюта к Старику приглядывалась дольше, чем к кому-либо. Он ей нравился и не нравился. Держался со всеми уверенно, но и не навязчиво, за словом в карман не лез. Но что-то в нем коренилось колючее или нагловатое, она не могла разобраться скоро. Анюту он вообще не замечал, будто ее не было на свете, и это оскорбляло самолюбие. Несколько позднее она, наконец, поняла, что не колючее и не нагловатое в нем было. Именно в этом жило презрение к опасности, к смерти. Поняла это после одной истории.
Через Надю, ту самую девушку, которой Анюта с Ниной, хотели продать соль, немецкий офицер хотел установить связь с партизанами. Будто бы в гитлеровской армии была группа словацких солдат, которая хотела перейти к партизанам. Надя об этом доложила Старику. Тот заинтересовался офицером и решил с ним встретиться. Через Надю договорились о месте и времени встречи. Давыдов неодобрительно отнесся к затее, но запрета накладывать не стал. Старик взял с собой четверых партизан, в том числе Щуко и Федю – без этих двух не делал ни шагу.
Партизаны замаскировались, а Старик пошел к офицеру, который ожидал его на полянке. Это был сухощавый и прыщеватый немец, одетый щегольски, со стеком в левой руке. На плохом русском языке он предложил Старику выпить водки. Получив отказ, взмахнул стеком. Пять или шесть гитлеровцев выскочило из засады и бросилось на разведчика. Видимо, надо было иметь самообладание Старика, чтоб не растеряться. Он выхватил пистолет и пристрелил сразу двоих. Когда на него навалились другие, умудрился достать финку и убил третьего. Партизаны не могли стрелять, боясь задеть командира. А немцы, видимо, хотели взять его живьем. Но когда партизаны подоспели на помощь, Старик успел управиться со всеми гитлеровцами сам. И не получил ни царапинки. Анюта, когда узнала об этом, ахнула от удивления. Такое бывает не часто даже в партизанской практике.
Давыдов сделал Старику выволочку. Анюта слышала, как комбриг его пробирал, нажимая на то, что не дело заместителя командира отряда лезть в каждую дыру самому и что не нужно отряду лихачество, а нужна четкая служба всей разведки – и войсковой, и агентурной. Старик отмалчивался. Лишь под конец сказал:
– Учту, товарищ, командир. Нет, как они хотели меня провести, цуцики! Не на того напали! Я в драке кое-что смыслю.
Анюта неожиданно для себя зашлась радостью, что слышала этот разговор, что есть в отряде такой вот храбрый человек, который ничего на свете не боится. Она представила, как на него налетели фашисты, и даже мурашки поползли по спине. Анюта знала какие это подлецы – фашисты. Они смелые, когда налетают оравой на одного.
...Размеренно шагает лошадь, у нее глухо екает селезенка. Пахнет конским потом. Сырой туман стелется но ложбине, в небе невидимый гудит самолет. Слева за лесом то и дело вспыхивают и гаснут огни ракет – там оккупанты.
Анюта идет следом за лошадью и мысли ее далеко отсюда. Думает про Федю-разведчика, про Старика, про свою подругу Нинку.
Порой Анюту клонит ко сну, и она подремывает на ходу – чему только не научишься при кочевой жизни.
В ОДИНОЧЕСТВЕ
1Лукин без страха и подумать не мог, чтобы с ним было, если бы невзначай не набрел на Ольгу. Девушка она, по всему видно, решительная. И коль взялась помогать, то на полпути не бросит.
Оля пропарила Лукину ушибленную ногу в густом отваре трилистника. Из сенок принесла бутылку с мутной, дурно пахнущей жидкостью и, намочив его тряпку, приложила к пятке. В нос шибануло резким запахом, похожим на запах нашатыря.
Лукин зажал нос. Оля улыбнулась:
– Это настой из муравьев. Помогает, – и поспешила заверить:
– Правда, правда.
Затем укутала ногу в шаль.
Отец следил, как дочь нянчится с солдатом, которого неизвестно где подобрала. Когда она закончила перевязку и, убрав в сенки бутылку с настоем, вернулась в избу, отец сказал так, будто Лукина не было:
– Чего с ним нянькаешься? Откуда такой выискался, знаешь? Кого пригрела, знаешь?
Оля промолчала. Открыв крышку подполья, опустилась вниз и чиркнула спичкой.
Лукина замечание хозяина обидело:
– Меня пригревать не надо.
– Оно и видно, – ехидно возразил хозяин. – Недаром на Ольке верхом приехал.
Оля вылезла из подполья и обратилась к Лукину:
– Я постелю там, хорошо? В избе опасно, к нам чужие заходят.
Ее решительная независимость от отца и то, что она обращается к Юре запросто, будто они знакомы давно, согревала Лукина, и девушка делалась еще ближе. Ему в Ольге нравилось положительно все – и толстая коса за спиной, и темные полукружья бровей, и эта милая озабоченность, и румянец на лице. Близкая и понятная. Лукин удивлялся, как это он не робеет в ее присутствии.
– Жоржик узнает, он тебе устроит, – не унимался хозяин. – Не было печали, сама привела, накачала заботушку. От Жоржика теперича прячь его. Жоржика не знаешь?
– Моя забота, – отмахнулась Оля от отцовского брюзжания, и брови нахмурила. Она и брови по-особому хмурит – сердито и мило.
– На осину-то и меня заодно с тобой вздернут. Неохота на осине-то болтаться, знаешь?
– Могу уйти, – сказал Лукин.
– Куда же? – улыбнулась Оля и сразу обезоружила. – Не обращай на него внимания. Ворчит, страшные слова говорит, а сам добрый.
– Много у хорька доброты, – пробурчал хозяин, захлопнул у печи отдушину, и вместе с табуретом подвинулся к столу. Оля сняла с вешалки старенький тулуп, бросила в подпол, с кровати взяла подушку и спустилась вниз, чтобы сделать постель.
– Боишься, хозяин? – усмехнулся Лукин.
– Нешто ты храбрее меня? На словах-то храбрые. Помню, в сорок первом драпали без портков, а кулаками махали: мы ему покажем. Два года показываете. Тоже, поди, драпал?
– Не успел.
– Мне моя жизня не надоела, хотя она и жестянка, будь проклята. Картопь да самосад – вся-то радость. Ведь она какая, жизня-то? Сам по себе, ни нашим, ни вашим. Немец лютует, орет – красным помогал? Не помогал. Поорут, поорут не тронут. Красные спросят – немцам помогал. Боже упаси. Стало быть, и красные не тронут. А тут тебя Ольга подобрала. Кумекаешь?
– Я и не то кумекаю, – зло возразил Лукин: не нравился ему Ольгин отец, такого за глотку возьмут – выдаст, свою дочь родную выдаст, не то что чужого. – Плохие слова говоришь. И не пойму откуда только берутся такие, как ты?
– Тут и понимать нечего, – не обиделся мужик. – Жизня рожает. Не мать родна и не тетка – калачики есть живо заставит.
– Немцы за такие рассуждения медаль могут дать, за то, что не мешаешь им жить.
– Я ведь, милок, красным тоже не мешаю, знаешь?
– Красным, – передразнил Лукин. Он не переносил, когда русские своих же называют «красными», вроде бы открещивались от них: есть красные, есть фашисты, а я сам по себе.
Из подпола вылезла Оля:
– Можешь отдыхать. Наспорились? Тятя задирать любит.
– Не по правилам задирает.
Не столько отдохнешь, сколько терзаться будешь. Залезешь в подвал, как в западню, – и живым не выберешься. Оля, положим, своя, наверно, комсомолкой была, на нее можно положиться. Ко мне относится хорошо. Зарделась, когда поймала мой взгляд. Не хватало еще, чтоб я влюбился в нее. А что? И влюблюсь...
Батька у нее ненадежный и хитрый. Себе на уме. Спускаться в подвал или уползти в лес подобру-поздорову? Пока не поздно, а? Там, в случае чего, дорого продать можно свою жизнь, а здесь, как кутенка, прихлопнут и пикнуть не дадут. Как бы, интересно, сержант поступил на моем месте? Полез бы в западню? Возможно, это не западня, а настоящее убежище, западня же там, в лесу? Ходить-то я все равно не могу. Нет, пожалуй, сержант остался бы здесь, укрылся бы в подполье, пока нога не подживет. И Оля будет рядом.
– Что же ты? – поторопила девушка и ласково улыбнулась: – С неба прыгать не боялся, а тут задумался?
– Так то с неба.
– В подпол страшнее? Ничего, не бойся. Все обойдется.
Лукин развязал рюкзак и положил на стол банку тушенки и два больших сухаря:
– Держи, это квартирные.
– Можно, – согласился хозяин, хотя Оля воспротивилась. Она не желала брать ничего. Лукин не хотел отступать. Пока препирались, отец спрятал сухари, а банку тушенки поставил на окно, даже спасибо не сказал. Лукин улыбнулся, и Оля рассмеялась. В самом деле, они спорили, а старик плату прибрал к рукам. Зачем же они спорили?
Лукин, опираясь на автомат, допрыгал до дыры и спустился вниз. Оля подала ему вещевой мешок, сапог с портянкой, шинель.
Хотя в подвале пахло сыростью и было темно, однако жить можно. Лукин обрадовался, что сейчас, наконец, спокойно отдохнет. Оля, стоя на коленях возле лаза, улыбнулась:
– Спокойной ночи, Юра!
– Спасибо! Тебе тоже, – и так ему радостно сделалось от ее слов, от ее ласкового голоса, от того, что она есть такая добрая и понятная, что Лукин готов был запеть.
Через несколько минут он будто провалился в сладкую бездну и очнулся от того, что услышал над головой уверенные мужские шаги – при каждом шаге сапоги похрустывали, а половицы прогибались и стонали. Лукин на всякий случай схватился за автомат: черт знает, кто этот человек и зачем появился в избе? Возможно, вчера, когда они сюда добирались, их кто выследил?
– Здорово, Емельян, – пробасил гость в скрипучих сапогах. Под ним затрещала табуретка. «Здоровый бык» – отметил про себя Лукин. Олиного голоса неслышно, значит, ее нет дома. Сколько же времени? Ночь, утро, день? Ага, в щелку пробивает свет – уже светло. И гость пришел. Значит, не рано.
– Здорово, коли не врешь, – отозвался хозяин.
– Я врать не люблю, я человек прямой и честный. Ого! Консервы. Да еще советские. Погодь, погодь, откуда у тебя консервы?
«Ах, ты, безногий черт! – обругал Лукин хозяина. – Не мог спрятать. Убрал бы куда-нибудь. А теперь влип!»
– Завидки, небось, берут? У меня есть, а у тебя нет?
– Не скули, Емельян! Откуда у тебя советские консервы?
– Я ж не глухой и не пугливый, чего рот-то разинул? Ох-хо-хо, – вздохнул хозяин. – Все нынче кричат. Староста кричит, немцы кричат, ты вот, Жоржик, вроде бы свой, деревенский, – и ты кричишь! Чего вы все кричите? Напугать не напугаете – дальше и пугать-то нечего!
– Зубы не заговаривай, думаешь я не понимаю, почему ты зубы заговариваешь? Откуда у тебя советские консервы?
– У тебя они уже заговоренные.
– Поговори у меня! Не твое дело перечить мне!
– Не мое, так не мое. Последнюю бутылку самогонки за эту банку отдал, позавчера кореши твои тут проходили, знаешь?
– Знаю.
– Один заскочил и пристал – дай самогонки и все тебе тут. Вот и поменялись. Я ему самогонки, он мне консерву.
– Это как так последнюю? – вроде, обиженно спросил Жоржик, и показалось Лукину, будто тот сглотнул голодную слюну. «Пронесло, – облегченно вздохнул Лукин. – Ловок Емельян. И хитер – ишь какую басню придумал про банку. Вывернулся».
Жалобно пискнула дверь, и Жоржик обрадованно воскликнул:
– Вот и Ольга! Здорово, Ольга!
– Здравствуй, – тихо отозвалась девушка. – За самогонкой приперся?
– Как в воду смотрела! – хлопнул себя по колену Жоржик.
– И смотреть не надо. Глаза-то с похмелья опухли.
– Нету самогону. Я ж тебе толкую – последнюю бутылку за консерву отдал, не сообразил?
Про консервы Емельян повторил, видимо, для Оли, чтоб знала.
– Емельян Иванович, сделай одолжение, душа горит, голову мутит. Кружечку – опохмелиться?
– Нетути.
– Нетути? – вдруг взъерошился Жоржик. – Кому есть, а кому нетути? Да я, безногий гад, весь дом переверну, найду – вздерну на осине.
– Нетути горилки, – твердил свое Емельян, его не испугала угроза, привык, наверно. – Прыткий какой – сразу и про осину. Ты бы вот чем стращать-то, взял да помог.
– Я те помогу! – пригрозил Жоржик, но уже не так строго.
– У кума в Рясном жито есть, а я без коняки, знаешь? Дай коняку. Я б жито привез, самогону бы наварил. Кумекаешь?
Жоржик промолчал, видимо, соображая. Под ним опять заскрипела табуретка.
– Так и быть! – снова хлопнул себя по колену. – Дам тебе, гаду безногому, подводу. Сколько самогону наваришь – любая половина моя. По рукам?
– Прыткий однако же! – возразил Емельян. – Любую половину. Жирно не будет?
– Не хочешь – не надо. А самогону я на хуторе достану.
– Оль, посоветуешь? – спросил Емельян. – Любую половину просит.
– Не на себе же везти, – сказала Оля. – А Жоржику грабить не привыкать. Соглашайся.
– Умница! – обрадованно воскликнул Жоржик. – Давай за меня замуж, а? Мне такая жена позарез нужна! За мной, как за каменной стеной. На руках носить буду, в обиду не дам. Вези, Емельян, жито! Вези и вари самогону, свадьбу сыграем – Германия ахнет! Тряхне-е-ем!
– За тебя и рябая Аксинья-то не пойдет!
– Не трави сердце, Ольга!
– Разве оно у тебя есть? Ты ж старик, у тебя и зубы-то наполовину чужие.
– Старый конь борозды не испортит!
– Истина, чего уж, – согласился хозяин. – Только беда другая – много не напашет.
– Ничего, на ее век хватит. Ничего, Ольга, за мной не пропадешь! Бери, Емельян, подводу хоть сегодня, хоть завтра. Бери, пока я добрый. Бегу-спешу! Покедова!
Табуретка скрипнула, освобождаясь от седока, половицы, прогибаясь, заскрипели.
– Я трепаться не люблю, – заявил на прощание Жоржик, – сказал женюсь на тебе – женюсь! Присушила ты меня, Ольга.
– Ничего, отсохнешь!
– А любить могу горячо... Побольше вари самогону, Емельян. Еще раз покедова!
Пискнула дверь и наступила тишина.
– Жени-их, – зло произнесла Ольга. – А глаза с перепою мутные, бр-р!
– Жених не жених, – заметил Емельян. – А на сегодня сила его.
– Я ему горло перегрызу. Пусть только сунется.
– Не хорохорься, девка. Ах, как славно с конякой-то получилось. Теперь ты и солдатика к своим увезешь.
Оля подняла крышку подпола и спросила:
– Небось, слышал?
– Слышал. Подлец ваш Жоржик. О нем веревка давно плачет.
– Завтра увезу тебя к своим.
– Знаешь, где они? – усомнился Лукин.
Она загадочно улыбнулась и тихо ответила:
– Грамотная.
2Ольга сходила к Жоржику, обо всем окончательно договорилась. Был он уже выпивши, видимо, сходил за самогоном на хутор. Старался облапать, звал замуж, но лошадь обещал твердо, повторяя с пьяным упрямством:
– Сказано – сделано. Жора трепаться не будет. Покедова!
Лукин вволю отсыпался в своей темнице. А когда спать стало невмоготу, стал думать о своих товарищах, о сержанте, и снова сделалось ему неловко и стыдно. Они свободно могут посчитать его трусом. Откуда им знать, что он попал в такой переплет?
К вечеру в подпол спустилась Ольга. От нее пахло ромашками и мятой. В темном подполе сразу стало светлее и уютнее.
– Как нога? – спросила Оля. – Болит?
– Нет. Лежу не болит, а встать боюсь.
– Завтра утром поедем. Уйдем ночью. Уведу тебя в лес, там подождешь, пока я не приеду на подводе.
Лукин на ощупь разыскал ее мягкую теплую руку и сжал признательно. Девушка ответила на его рукопожатие слабо, не стараясь освободиться. Тепло ее руки передалось ему, и сердце вдруг бешено заколотилось.
– Оля! – прошептал он.
Она мягко, но настойчиво освободила руку, отодвинулась от него. Она почувствовала его волнение, и заволновалась сама. Тихо спросила:
– Договорились, Юра?
– Договорились, – ответил он. Хотелось остановить девушку – не уходи, куда же ты? Мне хорошо с тобой. Не уходи, Оля!
Но Лукин молчал. Оля вылезла из подпола и, пожелав спокойного сна, надвинула на квадратное отверстие крышку. Юра снова остался в своей темнице один.
Она разбудила его глубокой ночью, помогла выбраться наверх. Осторожно развязала на ноге шаль, сняла компресс. Лукин попробовал встать на ушибленную ногу и обрадовался – хотя пятка болела, но терпеть можно. Выходит, кость цела. Быстро обулся, надел шинель, закинул за спину вещевой мешок, а на грудь пристроил автомат – опять солдат солдатом. Козырнул на прощанье Емельяну, который пускал сизый самосадный дым в отдушину – словно бы не прекращал этого занятия целые сутки.
– Благодарю за убежище!
– Шагай, солдат, шагай, милай, – отозвался хозяин. – Много еще вам, горемыкам, шагать да не все дошагают до дому. Знаешь?
– Нашел о чем говорить, тятя, – упрекнула отца Ольга.
– Это жизня, Олюшка, – вздохнул Емельян. – Она штука трудная, ничего не попишешь.
Оля принесла Лукину трость. Опираясь на нее, он шагал самостоятельно, хотя на больную ногу припадал сильно.
В лес выбрались без приключений. Было тепло и тихо. В деревне жалобно тявкала собака, спросонья прогорланил какой-то шальной петух и замолк – не вовремя поднялся.
Оля завела Юрия в густой кустарник, далеконько от деревни – километра за три, не меньше. Оставила одного и наказала терпеливо ждать. С рассветом приедет за ним. Он удобно расположился в мелком густом березняке. Хорошо проглядывалась извилистая проселочная дорога.
Сон начисто согнало. Лукин лежал и прислушивался. В лесу притаилась сторожкая тишина. Лишь очень острый слух мог уловить слабый шорох. И нелегко было догадаться откуда он идет. Это листья осины трепетали без ветра. Их невесомый шорох и слышал Лукин. Проснулась первая пичуга, звонко пискнула, приветствуя новое утро. За ней другая, и через несколько минут начался разноголосый птичий перезвон. Лукин никогда не слышал такого веселого концерта. Житель он степной. В лесу приходилось бывать редко. Никогда и не предполагал, что это такое увлекательное занятие – слушать утреннее пение птиц.
На макушках дальних сосен зажегся розовый солнечный свет. Солнце словно бы растворялось в воздухе, пронизывало своим светом каждую пылинку и листок.
Но ни с того ни с сего на Лукина накатились тревоги и сомнения. А что, если Жоржик обманет и не даст лошади? Или хуже того – кто-нибудь выследил их ночью, когда добирались сюда? Если с Олей что случится, кто предупредит его? Что ему тогда делать?
Вздохнул с облегчением, когда услышал дробный стукоток колес – едет! Из-за лесного поворота показалась сначала лошадиная морда, которая покачивалась в такт бегу, и затем подвода. Оля, как заправский кучер, сидела на облучке, помахивала хворостиной и посвистывала на лошадь. То была военная обозная двуколка с высокими дощатыми бортами. Спереди укреплена доска для сиденья. На ней и восседала Оля.
Лукин поднялся навстречу, радуясь тому, что враз исчезли тревоги и что снова видит Олю, приветливую и деловитую.
На дне двуколки постелен брезент, сверху наложена солома. Оля приподняла край брезента и сказала:
– Полезай. Я тебя укрою. Здесь опасно, полицаи могут встретиться.
На дне двуколки пыльно и неудобно. И хотя солома не тяжела, а все-таки неприятно чувствовать на себе ее и брезент. В бортах на стыках досок щели, через них поступал свежий воздух. Мелкая и въедливая пыль лезла в ноздри, и Лукин чихнул. Оля улыбнулась:
– Будь здоров! Но лучше не чихать.
– Постараюсь, – угрюмо пообещал Юра: ничего себе прогулочка предстоит. Лошадь тронулась. Вдоль щели поплыла зеленая каемочка земли. Смотреть на нее было неудобно: в глазах рябило. Лукин зажмурился. В таком контрабандном положении ездить ему не приходилось и, прямо говоря, – незавидное это положение. Трясло. Ребрами чувствовал доски, хотя на нем была шинель. Онемела рука, затем нога. И повернуться невозможно. Почувствовал – в спину уперся какой-то твердый ребристый предмет. Черт-те что! Сколько можно выдержать такой езды? Час, два? Лукин крякнул – сколько потребуется, столько и вытерпит. В спину давит и давит, мочи нет. Особенно, когда двуколку на выбоинах подбрасывает. Наконец, Лукин умудрился вполоборота повернуться, освободил руку и нащупал винтовочный приклад. «Эге! – подумал Юрий и повеселел. – У нее тоже оружие. Хорошо!»
Клячонка не быстро, но и не очень медленно катила повозку вперед, без происшествий миновала опасные, по Олиному расчету, места, вкатилась в сосновые дебри. Оля, остановив лошадь, спрыгнула на землю и сказала:
– Вылезай. Теперь можно в открытую, а то, небось, пыли нахлебался на два года вперед.
Оля стянула брезент. Лукин поднялся, отряхнул с себя труху. Оля поколотила его по спине, выбивая остатки пыли. Он подзадоривал ее:
– Сильней колоти! Не бойся!
И она, смеясь, колотила изо всей силы. Это было хорошей разрядкой после такого напряжения. Оба уместились на сиденье. Оля передала ему вожжи, Юра густо покраснел. Она недоуменно вскинула брови – почему не хочет брать вожжи? И догадалась. Он не умеет править лошадью. Хотя наука немудреная, но без сноровки не поедешь.
– Где ты рос? – тихо и необидно, а скорее с ласковым укором спросила Оля. Лукин готов был рассказать ей о своей жизни, пусть знает, но сказал одно:
– Токарь я, а к лошади и подойти не умею. Не приходилось.
Сконфуженно посмотрел на девушку сбоку, боялся ее презрительной усмешки. Оля взглянула на него исподлобья, внимательно и серьезно, и который раз за эти два дня у него бешено застучало сердце, да гулко так, наверно, за версту слышно.
– Останемся у партизан? – горячо заговорил Лукин. – Вместе, а?
Это «а» произнес просительно. Оля отрицательно покачала головой: нельзя и не спрашивай почему. Хочешь, можешь догадаться сам. Чего тут догадываться? Как обнаружил винтовку на дне двуколки, так и догадался.
Лошадь ровно держала неторопкую рысь. На узловатых корневищах сосен и на камнях подводу подбрасывало. Слева и справа хмурыми стенами тянулись медноствольные сосны, и казалось, дорога бежала по ущелью.
Оля считала, что самые опасные места остались позади. Начались леса, в которых хозяйничали партизаны. Лукин и девушка ослабили напряжение, болтали о всяких пустяках.
Опасность возникла нежданно.
В тишину ворвался рокот моторов. Лукин без труда догадался, что это мотоциклы. Только они производят гулкий и дробный звук. Оба растерялись. Поворачивать обратно – не успеют удрать. Ехать вперед – у Лукина красноармейская форма. Прятаться опять на дно двуколки поздно, да и какой смысл?
Лукин зачем-то спрыгнул на землю и боли не почувствовал. Но в ту же минуту снова забрался в двуколку. Лег на живот и приготовился стрелять. Достал винтовку и сунул Оле. Попросил:
– Вывернутся – сворачивай с дороги, боком ставь, чтоб мне стрелять лучше.
Оля сунула винтовку под сиденье, взялась покрепче за вожжи.
Два мотоцикла с колясками вывернулись из-за поворота и помчались на сближение. Или немцы не ожидали встретить здесь кого-либо, или посчитали появление подводы в порядке вещей и не обеспокоились. К тому же, лошадью правила девушка. Лукина они не приметили. Юра лихорадочно гадал: стрелять или нет? Может, пронесет, не заметят? Лежать – пусть куда кривая выведет! А если они обнаружат его и первыми откроют огонь? Тогда он проиграет время и внезапность. Кто начнет первым, тот выиграет. Пропадать, так с музыкой. Начнет сам. Сначала бросит гранаты, потом прошьет из автомата. А если за этими едут еще? Но другого выхода нет – только бой.
Отчетливо разглядел водителя – очкастого, с крестом на груди. В коляске трясется второй, в каске, подремывает лениво. Перед ним пулемет.
– Сворачивай, сворачивай, – шепотом торопит Лукин Олю.
Та резко натянула правую вожжу, лошадь круто свернула вправо, и Лукин выдвинулся на передний план. Между первым мотоциклом и им было чистое место. Приподнявшись, Юра кинул гранату. Вторую бросил чуть подальше, целясь в следующий мотоцикл. И когда грохнули один за другим взрывы, он ударил из автомата. Раздались крики. Оля кубарем слетела с сиденья в кювет, Держа винтовку. Лукин бросил для верности еще одну гранату, последнюю, и сполз с двуколки. Уцелевший немец резанул по двуколке из своего пулемета. Лошадь рванулась вбок и, ломая оглобли, упала, прошитая очередью. Она хрипела и билась в предсмертной судороге. Хлопнул взрыв, и все смолкло. Там, где разорвалась последняя граната Лукина, стонал немец, Лукин, прихрамывая, сполз в кювет и позвал:
– Оля!
Она лежала ничком, держа в правой руке винтовку. Рука неестественно откинута вперед.
– Оля!
Лукин, холодея от предчувствия непоправимой беды, кинулся к девушке, потряс за плечо. Она не отозвалась. Он перевернул ее на спину и увидел побледневшее лицо, закрытые глаза. С ужасом подумал, что девушка убита. Сердце подступило к горлу и застряло колючим комком. Оля застонала. Лукин обрадовался, что она жива, и зашептал:
– Жива, жива!
Принялся расстегивать телогрейку, снял с одной руки и увидел кровь на правом плече. Белая в горошек блузка в этом месте стала красной.
Лукин забыл про ушибленную ногу. У Оли дрожали ресницы и слабо пульсировала на виске голубая жилка. Он понимал – надо поскорее уходить. Закинул за спину автомат и ее винтовку, поднял Олю на руки и, сильно хромая, заторопился в лес. До него рукой подать, успеть бы добраться! Вот и спасительная чаща. Передохнул и побрел дальше, не замечая ударов сосновых веток по лицу. Забраться бы в самую глушь, а потом думать, что делать дальше. И перевязать Олю. Ранение не смертельное, однако перевязать рану надо как можно скорее. Индивидуальный перевязочный пакет у него был. Бывало, Раиса ругалась с теми, у кого не находила в запасе пакета, жаловалась командиру. А они посмеивались – подумаешь, пакет, обойдемся и без него. Патронов давай побольше. Спасибо, что ругалась, – как пригодился теперь пакет! Раиса много раз показывала, как правильно перевязывать раненого, как за ним ухаживать. Они считали ее занятия отдыхом.
Теперь вот Лукин с досадой вспоминал, что на занятиях санинструктора дремал, пожалуй, добросовестнее всех. Как бы ему пригодилось сейчас то, чему учила Раиса!
Юра выбился из сил. Идти не мог. Осторожно опустил Олю на землю. Снял шинель, расстелил и поудобнее переложил на нее девушку. Место глухое, немцы сюда не сунутся. Обследовал вокруг каждую ямку, но воды не обнаружил ни капли. Оля открыла глаза и застонала.
– Ничего, ничего, лежи, – прошептал он. Предстояло самое трудное – перевязать. Надо было рвать кофточку, обнажить грудь и Юра не решался это сделать. Оля, видимо, поняла его затруднение, поморгала глазами, приглашая не стесняться.
Лукин осторожно освободил ее руку, стянул телогрейку. Оля закусила губу, наморщила лоб. И невольно застонала. Он дрожащими руками расстегнул пуговицы, но освободить раненое плечо не смог – пришлось рвать кофточку.
Пуля угодила ниже плечевого сустава и застряла там.
– Крепись, Оля, не бойся. Все будет в порядке, – шептал Юра, перевязывая ее. Кончив перевязку, прикрыл Олю телогрейкой. Сам сел рядом, охватил колени и задумался. Что же делать? Сколько же еще будет испытывать-его судьба?





