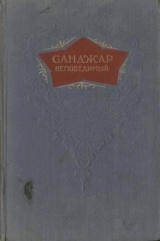
Текст книги "Санджар Непобедимый"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
V
Почтовая станция Тенги–Харам расположена на старинном Термезском тракте, соединяющим Самарканд через Гузар – Байсун – Ширабад с Термезом и через Дербенд – Байсун – Миршаде – Денау с Дюшамбе.
В котловине, напоминающей гигантский амфитеатр, на небольшом плоском плато, окруженном глубокими оврагами, высится здание станции, похожее на укрепленный форт. Высокие толстые стены с многочисленными узкими бойницами, четыре мощных зубчатых башни по углам, массивные ворота, которые может пробить только пушка. Царская администрация, организуя в конце прошлого столетия перевоз почты на перекладных от Самарканда до пограничного Термеза, приняла основательные меры против всяких случайностей. Колонизаторы справедливо опасались местного населения и не доверяли бухарским чиновникам.
Такие укрепленные почтовые станции железной и несокрушимой линией внедрялись в Бухарский эмират. В случае малейших волнений каждый блокгауз превращался в опорный пункт для военных операций.
Сейчас, после революции, блокгаузы пригодились для охраны «оказий» от налетов басмачей.
Помещение самой станции было слишком тесным, и большинство участников экспедиции расположилось под открытым звездным небом, но каждый даже в темноте ощущал громаду мощного форта. Все спали спокойно, так как знали, что, в случае необходимости, ворота блокгауза гостеприимно распахнутся перед ними. Арбы составлены были довольно тесно, и каждый выбрал место по своему вкусу, стараясь устроиться подальше от копыт лошадей. Спали все как убитые. А утром, когда готовились к выступлению, произошел случай, показавший, что за каждым движением каравана, за каждым шагом экспедиции из–за камней, из зарослей, с перевалов вершин, оврагов следят без устали внимательные злые глаза…
Исчезли Медведь, Саодат и Николай Николаевич. Когда весь лагерь уже гудел, как встревоженный улей, когда во все стороны двинулись на поиски пропавших разведчики, с западной стороны из–за утеса показался Медведь. Он шел, сгибаясь под тяжелым фотоаппаратом с огромной, покрытой медными блестящими пластинками, треногой. За ним вытянулась небольшая, но очень странная процессия. Два горца в красных с позументами халатах, понурившись, шагали по тропинке. Руки они держали за спиной. Вслед им двигались Саодат и Николай Николаевич. У обоих был сконфуженный вид. Саодат растерянно теребила большой букет тюльпанов. Мирный, добродушный доктор Николай Николаевич тащил на плече две винтовки.
– Ничего, ничего, – пробормотал Николай Николаевич, когда странная группа оказалась в кольце любопытных. – Ничего. Это он…
И Николай Николаевич усталым жестом дал понять, что нужно спрашивать обо всем Медведя…
– А ну–ка, позвольте, – загудел голос Кошубы. Раздвигая довольно нелюбезно столпившихся, он протолкался вперед. – Так, так… Как ваше достопочтенное здоровье, ваша милость Мунши, а? – обратился он к одному из горцев. – Давненько не встречались. А это что за фигура? Не знаю.
Пленники переминались с ноги на ногу.
– А как здоровье и благоденствие моего друга Кудрат–бия?
– Товарищ Кошуба, – прервал командира Николай Николаевич, – надо их развязать. Они – обманутые крестьяне.
– Это они–то крестьяне? Да это ведь помощник Кудрат–бия, Мунши. В прошлом известный конокрад.
Мунши внимательно прислушивался к разговору. Черные борода и усы его зашевелились. Глухо, надтреснутым голосом, он произнес:
– Я не пастух, я не дехкан… Я воин правоверного эмира. Я не из черной кости.
Говорил он презрительно и злобно мерил любопытных глазами.
Случай с поимкой двух басмачей был настолько поразителен, что все с неослабным вниманием прослушали рассказ Медведя.
– Пошел я с аппаратом поутру в горы поснимать… – начал он. – Аппарат в руку, треногу на плечо, кассеты – и через мостик. Вижу, за речкой спит кто–то в траве. Смотрю – наш Николай Николаевич. Я еще подошел и говорю: «Нехорошо, кругом неспокойно, а вы тут один ночью…» А он: «Чего вы меня пугаете», – и смеется. Я пошел на холмы. Ходил, все место выбирал для съемки. Там на горе такая лощинка есть, вот я и взялся снимать. Крестьянин пахал еще на волах допотопным омачом. Поднялся я на холм, ах, черт, думаю, вот история. Наши–то ходят по склону, тюльпаны рвут – Саодат да Николай Николаевич. Только вот беда… Они справа от меня за камнями, а слева, пониже, двое с винтовками ползут в траве. Мне сверху видно, а Николай Николаевич и Саодат не видят. Те ползут быстро. Проползут немного и опять залягут. Что делать? Крикнуть – застрелят девушку или Николая Николаевича. А они ходят, болтают, ничего не видят, не слышат. Решил поставить аппарат и бежать вниз. Ставлю я треногу, а аппарат был к ней привинчен. Тишина. Вдали снеговые горы. Арча смолой пахнет. На небе облака. Майская картина, а немного сбоку – два разбойника d чалмах, халатах. Кадрик… Тут бы и щелкнуть. И вдруг басмачи поднимаются и идут прямо на меня во весь рост. Ног под собой я не чуял, стоял и смотрел, как смерть подходит. Только произошло непонятное. Винтовки они бросили, руки кверху подняли и кричат «аман». Не сразу я понял, что случилось, а когда понял, не поверил себе… Сдались они оба басмача. С минуту так мы и стояли: я у аппарата, а они пониже в овражке, по которому ползли. Как быть думаю? Потом крикнул: «Эй, ты, бородатый, иди сюда… один только, один». Он подошел, глаза испуганы, борода дрожит, косится на фотоаппарат, бормочет: «Пулемет! пулемет!» Его же поясом я ему руки назад затянул. А потом позвал другого… И они позволили себя связать, как бараны.
…Басмачей увели под конвоем в блокгауз.
Вечером Кошуба на все расспросы ответил:
– Разведчики Кудрат–бия. Охотились за одиночками… растяпами. – Раскурив трубку, он добавил: – Вот письмецо Ниязбек привез. Не хотел я его разглашать, боялся взволновать нашу милую Саодат. А теперь придется…
Письмо было небольшое. По мере его чтения сквозь смуглую покрытую тончайшим пушком кожу Саодат начала проступать бледность, а на глазах заблестели слезы.
В письме говорилось:
«Его высокопоставленности господину полковнику большевиков урусов.
Бисмилля! Пусть бог вразумит неверных, в безумной беспечности своей нагло осмелившихся совершить, без соизволения на то, путь по владениям света очей моих, любимого сына моего дербентского бия Ассадуллы, да еще везущих в арбе позора беспутную блудницу, торгующую своим женским естеством и богохульно открывающую перед мужчинами бесстыдное лицо свое и таскающую подол свой по улицам и дорогам. Повелеваю сорвать с поганого тела одежды: свяжите по рукам и ногам проститутку и бросьте ее на пути вашем. Ее нагую привяжут к хвосту паршивой клячи, которая будет волочить ее по камням> пока она не издохнет.
Командующий силами мусульман Кудрат–бий.»
VI
Зеленого шелка шуршащий халат облегал атлетическую фигуру парня. Приложив руку к сердцу, он проговорил:
– Пожалуйте, глубокоуважаемые, усаживайтесь, вы почетные наши гости.
Широким жестом он пригласил гостей усаживаться на огромный красно–желтый палас, постеленный на траву.
Сегодня участники экспедиции во главе с Кошубой и Санджаром приглашены местным землевладельцем, известным другом советской власти и проводником экспедиции Фатхулла Ниязбеком присутствовать на спортивном празднике – улаке.
На обширной Тенги–Харамской долине ездили взад и вперед сотни джигитов в ярких праздничных халатах. Джигиты перекрикивались, обменивались шутками и язвительными замечаниями. Над толпой всадников облаком поднималась пыль. В воздухе стоял терпкий запах конского пота.
Провели жеребца. На нем был подлинно праздничный убор. Чепрак из прочного шелка расшит золотом. Подседельник сделан из шкуры волка. Седло имело золоченую луку, на нем лежала атласная подушка с изумрудными кистями. Стремена, многочисленные бляхи на подхвостнике и нагруднике были тоже золоченые. Все это сияло на солнце и звенело на каждом шагу.
– Конь Ниязбека, хозяина праздника, – сказал кто–то во всеуслышание.
Внезапно, словно по сигналу, шум стих, движение прекратилось. На великолепном коне ахалтекинской породы, от которой, как гласит предание, некогда произошли арабские скакуны, вырвался вперед юноша в зеленом халате. В поднятой его руке блеснула украшенная серебром рукоятка камчи. Он требовал внимания.
– Слушайте! Слушайте! – провозгласил он. – Сегодня тенгихарамцы увидят незабываемое зрелище. Джигиты покажут свое удальство, ловкость, силу, отвагу! Четыре козла разыгрываются. О юноши! О зрелые мужи! Четыре козла от щедрот почтеннейших и уважаемых. Сюда! Сюда! Пусть каждый дерзнет! Двадцать призов! Халаты! Сапоги! Шелк! Седла! Шелковый платок для возлюбленной! О! Скачите, хватайте!
Улак, организованный по случаю обрезания полуторагодовалого сына жителя орлиного гнезда Фатхулла Ниязбека, начался.
Всадники выстроились огромным полукругом. Лошади нетерпеливо рвались вперед, едва сдерживаемые всадниками.
Глашатай подскакал к огромному валуну, на котором восседали судьи – вся знать окрестных кишлаков, и крикнул:
– О уважаемые, народ требует козла. Один из судей спросил:
– Зачем, юноша, тебе козел? Джигит снова закричал:
– Сварить бешбармак!
– Получай же.
Два парня перекинули через седельную луку двухпудовую козлиную тушу. Всадник с гиком ринулся вперед. Его появление было встречено приветственными возгласами. Весь полукруг всадников заколыхался и напрягся, словно лук с натянутой до предела тетивой. Юноша в зеленом халате два раза проскакал по площади вперед и назад. Глаза всадников горели, раздавались гортанные возгласы: «Скорее! Ну же!» Наконец юноша выехал на середину площади, осадил коня на всем скаку и бросил козла на землю…
И тут началось что–то невообразимое. Всадники ринулись к центру площади, где на блеклозеленой траве чернела мохнатая туша. Единодушный вопль вырвался из тысячи грудей, когда в стремительном напоре столкнулись кони, люди. Что там происходило? Все повскакали с мест, стараясь разобраться в этом месиве лошадиных и человеческих тел, взметнувшихся столбах пыли… По правилам игры нужно, не слезая с лошади, поднять козла, втащить его на седло и, вырвавшись из толпы, проскакать три круга. Минуты шли, борьба за тушу становилась все ожесточеннее. Всадники напирали друг на друга, нахлестывая коней камчами, пытаясь протиснуться к центру. Слышались вопли «Хватай!», заглушаемые неистовым ржанием лошадей.
Вдруг все закричали: «Санджар! Молодец Санджар!» По степи мчался во весь опор, пригнувшись к шее коня, всадник. Козел мотался под брюхом лошади. Камчу всадник держал в зубах. Он успел подтянуть козла к седлу и прижать его одной ногой.
Санджар сделал круг. За ним, на большом расстоянии, с гиком, свистом мчались остальные участники улака. Второй круг! Конь Санджара летит вперед. Зашли на третий круг. Победа близка! Приближение всадника вызвало в рядах дробь аплодисментов. И вдруг рев голосов потряс горячий воздух. Санджара настигал всадник в белой чалме. Полы его халата развевались, рыжеватая борода смешалась с гривой коня.
– Да это сам Фатхулла Ниязбек! – закричал кто–то.
– Отец! Хозяин праздника!
– Ого, Санджар будет драться с царем всех джигитов!
Зрители замерли. И вот, когда до конца оставалось не больше четверти круга, между Санджаром и Ниязбеком на полном карьере завязалась схватка. Борьба шла не на шутку. С минуту исход был неясен. И вдруг лошадь Санджара шарахнулась в сторону. Всадник, вцепившись в рукав халата противника, чудом удержался на коне. Еще секунда – и шелк расползся по швам. Стремясь сохранить равновесие, Санджар выпустил козла. На одну секунду перед его глазами мелькнула обнажившаяся рука Ниязбека с вытатуированными арабскими письменами. Только блестящее искусство езды спасло Санджара от позора падения на землю и от верной гибели, ибо сзади надвигалась, как лавина, толпа разгоряченных всадников, которые, конечно, не сумели бы остановить коней и затоптали бы лежащего…
Ни на секунду не сдерживая коня, Ниязбек ухватился за тушу и вырвался вперед.
– Молодец, Фатхулла–бай, богатырь Фатхулла! Покажи старинное искусство улака, – кричали в толпе.
Конь был хорош, всадник держался в седле безукоризненно. Казалось, никто не догонит Ниязбека. Но сегодняшние соревнования были полны неожиданностей. Снова из толпы преследователей выскочил всадник. Он был мал ростом, скакал на невзрачной, но крепкой лошаденке.
Появление соперника в тот момент, когда победа была близка и Ниязбек мчался в предпоследнем круге, оставив далеко позади себя всех участников состязания, казалось всем излишним и оскорбительным.
– Кто это, кто это? – спрашивали друг друга бородатые толстяки в роскошных ярких халатах и белых чалмах. Их беспокоила судьба сотен рублей, поставленных в заклад.
Со страшной быстротой преследующий настигал ничего не подозревавшего, упоенного победой Ниязбека. Всадники сшиблись в облаке пыли.
– Кто? Кто это? – шумели гости. – Откуда он взялся?
Но кто бы он ни был, когда после ожесточенной борьбы, тянувшейся на протяжении трех кругов, джигит швырнул козла перед камнем, на котором сидели судьи, толпа единодушным воплем приветствовала победителя.
– Тише! Порядок! – закричал громовым голосом глашатай.
И когда порядок водворился, он объявил:
– К вам обращаюсь, участники копкари! Первого козла взял наш гость Джалалов. За первого козла достойно боролись Санджар, хозяин праздника Ниязбек и молодой гость из Ташкента – Джалалов. Молодость победила!
Соревнования продолжались. Джалалов важно сидел среди почетных стариков в пожалованном ему в виде приза новом халате. Его чествовали как победителя.
Вечером, когда у костров участники игры насыщались бешбармаком из затасканного и истерзанного козлиного мяса, Николай Николаевич спросил Джалалова, что побудило его оспаривать победу у Санджара и Ниязбека. Покраснев, как девушка, юноша ответил:
– Санджар и Ниязбек посмеялись надо мной, когда я просился на улак. Они говорили мне: «Куда? Твой удел сосать грудь матери. Да и силенок не хватит…» Теперь они знают, что мой удел быть воином.
В это время подошел Санджар. Лицо его было спокойно, только маленькая жилка дрожала на щеке. Он остановился около Кошубы и, быстро оглянувшись по сторонам протянул ему подпруги, которые держал в руках.
– Посмотри, товарищ начальник!
– Черт! – вырвалось у командира.
– Вот, только я и хотел сказать… Обе подпруги были подрезаны.
Но поговорить толком не удалось. Кто–то осторожно Тронул Кошубу за рукав гимнастерки, и он, резко повернувшись, очутился лицом к лицу с невысокой старушкой. Как и большинство степнячек, она не носила паранджи и чачвана и только слегка прикрывала лицо полой халата, накинутого на голову. Лицо старушки было заплакано, губы жалобно вздрагивали.
– Что тебе, бабушка? – спросил Кошуба.
– Господин! Ой, господин, заступись за нас, позволь мне сказать.
– Да говори же!
– Ой, большой господин, скажи, кто мне отдаст деньги за козла? Ой, помоги мне! Вы, большевики, справедливы к народу, вы помогаете вдовам и сиротам!
– Какого козла? – недоумевал командир.
– Ой, моего козла, моего козлика… Утром пришли, забрали моего козлика, зарезали и отвезли на улак… И сейчас играли с ним.
– Купили?
– Нет, говорят, ты старая, и тебе деньги все равно не понадобятся, а я говорю, что у меня дети… а они… Помоги, заступись!
– Ладно, понятно… А других козлов у кого взяли?
– Одного козла, что с белыми отметинами, отняли у такой же несчастной вдовы, как и я, а другого взяли у Тахтасына. Ой, господин, кто мне отдаст деньги за козла? Заставьте их заплатить, вы большевики, все можете.
– Сейчас, сейчас. Вот идет сам хозяин. Его спросим. Старушка испуганно зашептала:
– Ему только не говорите… Не говорите, что я жаловалась. Плохо мне будет…
Она сделала порывистое движение, чтобы уйти.
– Постой–ка, бабушка… И скажем ему сейчас, и плохо не будет.
Лицо подошедшего Ниязбека сияло самодовольством. Он снисходительно взглянул на старуху и, потрепав ее по плечу, проговорил:
– Что, старая, любопытно посмотреть на командира Красной Армии, а? Смотри, смотри. Большой командир! Очень большой.
Почувствовав прикосновение хозяйской руки на плече, старушка сжалась в комок. Лицо ее подергивалось, суковатая палка запрыгала в слабых руках.
– Ну что ж, насмотрелась? Иди, иди старая, у нас тут дела с другом нашим, командиром… Не мешай…
И он улыбнулся, показав ряд белых и крепких зубов. Ласковость Ниязбека, очевидно, перепугала вдову больше, чем резкий окрик, и она метнулась в сторону.
– Стой, бабушка, – сказал Кошуба, – не спеши. – Обернувшись к Ниязбеку, он продолжал: – Дорогой друг, у вас есть с собой немного денег?
– Как же, как же, – с полной готовностью Ниязбек быстро размотал поясной платок и извлек из него увесистый кошелек, – всегда готовы служить другу нашему…
– Вот что, сколько стоит у вас в Тенги–Харамеодин обыкновенный козел?
– Старый или молодой? – недоумевающе спросил Ниязбек.
– Ну, так… Среднего возраста.
– Да, ну сколько бы он мог стоить? – вслух начал соображать помещик.
Когда он назвал цифру, Кошуба спокойно заметил:
– Пожалуйста, отсчитайте.
Тот повиновался.
– А теперь вручите эту сумму старушке.
Только на секунду задержалась рука с деньгами в воздухе, и лицо Ниязбека как–то покривилось. Но тотчас он снова заулыбался. Сделав два шага к старушке, он взял ее руку, вложил деньги. Затем подтолкнул ее и сказал:
– Иди, иди, матушка. Пусть твой козлик тебе приснится…
Старушка было засеменила прочь, но Кошуба остановил ее:
– Матушка! В наше время, советское время, никто не смеет обижать вдов и сирот. Никто. Эпоха притеснения ушла навсегда. А вас, уважаемый, – повернулся он к Ниязбеку, – прошу: проследите и прикажите, чтобы и другой вдове и Тахтасыну заплатили. И потом прошу вас, очень прошу, чтобы я больше не слышал таких жалоб…
Ниязбек иронически улыбнулся.
– За что им платить? Они и так мне должны столько, что и на том свете не рассчитаются.
– Я не кончил… Я прошу вас учесть, что если с этими людьми случится хоть малейшая неприятность, малейшая обида… Словом, вы примете, дорогой мой, меры, чтобы они жили совершенно спокойно… без малейших огорчений… Договорились?
Голос Кошубы звучал жестко и требовательно. Ниязбек подобострастно прижал руку к сердцу и улыбка стала у него совсем сладенькая. Он сказал:
– Да будет так… – и ушел величественным шагом вниз по тропинке, спеша догнать группу чернобородых чалмоносцев.
– Хорошо бы разобраться теперь с подпругами, – сказал Джалалов, – расследовать эту странную историю.
– Тут нечего расследовать, – сухо сказал Николай Николаевич, – и так все ясно.
Все удивленно посмотрели на него. Он полулежал на зеленом склоне холма и лениво, со скучающим выражением лица жевал травинку. Не торопясь, доктор заговорил снова:
– Это сделал Ниязбек… Да, да, – продолжал он, когда раздались недоверчивые возгласы, – он, и больше никто. Кто задумал пригласить нас в гости в свою вотчину? Ниязбек. Кто упрашивал, уговаривал, уламывал? Ниязбек. Кто затеял этот самый улак? Кто знал, что наш друг Санджар полезет, извините меня, в самую свалку? Ниязбек. Где стояли лошади перед состязанием и кто их седлал? В конюшне Ниязбека и конюхи Ниязбека. Только вот что для меня неясно – зачем Ниязбеку нужно вредить Санджару?
Тут вмешался Санджар. Резко и возмущенно он заявил:
– Не верю. Закон гостеприимства сильнее смерти у нас, у узбеков. Даже заклятому врагу не угрожает ничего, решительно ничего, если он в гостях. Обидеть гостя – святотатство. Нет, Ниязбек тут не при чем…
Заложив руки за пояс, Кошуба посвистал.
– Загадочная история… А впрочем, поехали…


Часть 3

I
Майское солнце жгло совсем не по–весеннему. Снеговой хребет сиял нестерпимо ярко. В глубине далеких ущелий дымился туман.
На белой пыльной ленте дороги, спускающейся прямо к разбросанному в лощине лагерю экспедиции, показался всадник верхом на верблюде. Голова путника была повязана красной чалмой и издали казалась ритмично покачивающимся тюльпаном.
Человек в чалме пел звучным гортанным голосом не сложную мелодию. Столь же просто было и содержание песни:
Путь идет по горам,
Путь усыпают тюльпаны.
Путь ведет к небесам.
О пери, исцели мои раны…
Продолжения не было. Песню, вернее единственное четверостишие песни, сочинил, видимо, сам певец.
Все с интересом разглядывали живописную фигуру одинокого путешественника. Прежде всего бросилось в глаза, что он молод и красив, а в то же время беден, как может быть беден бухарский бедняк. Одет он был в пестрые лохмотья. Нельзя было даже определить, что служило основой для синих, красных, желтых заплат его халата – ситцевых, сатиновых и даже грубой мешковины. На ногах были заплатанные мукки – сапоги на мягких подошвах.
Не менее живописен был верблюд. Более потрепанное и в то же время высокомерное животное трудно было представить. Верблюд выступал по дороге величественно, высоко держа на тонкой шее покрытую комьями свалявшейся шерсти голову. Он нес на горбу большой багаж: была тут кошма, какие–то палки, узелки; глиняная тарелка высовывалась из шерстяного дырявого мешка, сбоку виднелся кетмень; еще можно было разглядеть топор, небольшое ведро, еще ведерко с прохудившимся дном, фонарь «летучая мышь», пару изорванных сапог, небольшой медный кувшин с проткнутым боком. Видимо, все имущество хозяина двигалось вместе с ним на спине верблюда.
Путник заговорил по–русски.
– Здравствуйте. Меня зовут Курбан. Курбан из селения Чиндере. Где здесь военный начальник? У меня к нему письмо.
Курбана и его верблюда отвели к Кошубе. Командир долго всматривался в послание, мелко написанное замысловатой арабской вязью, изящной, но трудно поддающейся разбору.
Уже первые строки показывали, что письмо было зовом о помощи, и в то же время оно было величайшим по своей значимости документом, говорившем о том, что трудящийся сельский люд Бухары отшатнулся уже в те полные смятения и крови дни от эмира, беков, баев. В сердце поднималась радость от сознания, что надежды этих людей были всецело оправданы благородными поступками одетых в красноармейские шинели русских рабочих и крестьян уже три года проливавших кровь на полях, в долинах, на скалистых перевалах бывшего эмирата, чтобы вырвать из–под грязных сапог богатеев и эмирских чиновников жизнь и счастье узбеков и таджиков.
Письмо это, написанное на клочке бумаги, начиналось так:
«Начальнику красных воинов–большевиков мирахуру Желтобородому.
Мы, старшины рода кунград, проживающие в кишлаке Сары–Кунда, зная вашу мудрость и уповая на вашу справедливость, будучи сами неграмотны, поручили написать и продиктовали это письмо Сарымсаку, писцу тенгихарамского мингбаши.
Бисмилля!
Пребывайте дни и ночи в здоровьи и благополучии, нанося смертельные раны врагам!
Хотим вам сказать в письме нижеследующее.
Никогда мы раньше, грубые горцы, не слышали о советских людях. Кто вы, что вы – мы не знали. Нам приказал эмир и наш сарыкундинский ишан:
«Сражайтесь с неверными, ибо вера Мухаммеда и обычаи отцов и дедов в опасности».
Мы были в руках пятидесятников и курбашей, как труп в руках мурдашуев – обмывателей трупов. Нас обманули эмир и сарыкундинский ишан. Два года идет война. Детям и женам нашим нечего есть, потому что пшеница и ячмень посохли, потому что арык, дававший воду нашим полям, пришел в запустение. Дети и старики наши умирают, у нас нет даже материи на саваны, чтобы заворачивать тела умерших. Амлякдары эмира взыскали с нас налоги и налоги с налогов за пять лет вперед. Войска ислама съели наших рабочих волов, нам не на чем пахать. Курбаши, мингбаши, пансады, проклятье им, позорят наших дочерей.
До нас дошли вести: большевики дают землю беднякам, делают бедняков людьми, загоняют под землю ростовщиков и господ. Мы хотим, чтобы большевики пришли к нам в кишлак Сары–Кунда и сказали нам правду и защитили нас от курбаши Кудрата, чинящего нам притеснение.
Господин мирахур, наши сердца открыты, наши руки у наших сердец, пожалуйте.
Старейшины приложили свои печати и подписи к этому посланию. А писал его писец Сарымсак Алим–оглы со слов мусульман».
Нижняя часть листа и все поля были покрыты оттисками маленьких – круглых, овальных, квадратных печаток с витиеватыми арабскими письменами.
Такие печати были широко распространены в то время в неграмотной, темной Бухаре. На каждом, даже самом маленьком базарчике в городах Бухары мухрсоз – печатных дел мастер – с удивительной быстротой вырезал имя и фамилию заказчика тут же, в его присутствии, на заранее изготовленной медной форме с маленькой рукояткой.
Печать и вырезка на ней надписи стоили гроши, но полученное Кошубой письмо из Сары–Кунда свидетельствовало о том, что и такой расход был не под силу многим дехканам. Гораздо больше, чем оттисков печатей, под письмом было оттисков пальцев. Ни одной подписи, кроме самого писца, на письме не было.
Отправить ответ сарыкундинцам не успели. Вечером, когда лагерь стал засыпать, в стороне большой дороги послышались голоса. Разнесся слух, что пришел крестьянин–горец из кишлака, на который напали басмачи.
Слух подтвердился. Басмачи напали на кишлак Сары–Кунда. Дехкане взывали о помощи.
Горец – высокий, атлетически сложенный бородач, всхлипывал и временами тихо стонал. Он сидел на скамейке в комнате командира тенгихарамской почтовой станции, опираясь черными, загрубевшими руками на суковатую дубинку, и раскачивался из стороны в сторону. Свыше сорока километров прошел он за пять часов по горным каменистым тропам, по щебенчатым осыпям, через перевалы. Дважды переходил, по пояс в ледяной воде, через вздувшиеся потоки.
И вот он сидит – большой, беспомощный, как ребенок, и бессвязно повторяет одно и то же:
– Басмач Кудрат пришел. Всех убьет, всех зарежет. Все сгорит… Пшеницу требует. Деньги требует…
Кошуба отдал приказ красноармейцам седлать коней.
– Экспедиция останется в Тенги–Хараме, – распорядился комбриг. – Здесь сильный гарнизон… Вы отдохнете за два дня. – Голос командира доносился уже со двора. – Курбана и этого крестьянина ко мне!
А еще через минуту прозвучала команда:
– По коням!..
В отряд, шедший на выручку к дехканам, были включены добровольцы из состава экспедиции.
Отряд шел всю ночь. Тихо пофыркивали кони, звякала приглушенно сбруя, цокали по камням подковы.
В полночь на порозовевшем на севере небе начала вырисовываться зубчатая стена черных гор.
Кто–то негромко спросил:
– Луна всходит?
– Нет, зарево.
Горел кишлак Сары–Кунда.



