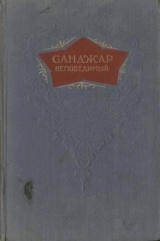
Текст книги "Санджар Непобедимый"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
– Вы горец, Санджар–бек, и никогда, по всей вероятности, не испытывали, что значит ветер теббад – ветер лихорадки, а?
– Нет, я не слышал о ветре теббад, – уклончиво заметил Курбан, не понимая еще толком, к чему клонится разговор.
– Страшный ветер теббад, дующий в пустыне Кызыл–Кум. Очень страшный.
Думая, что Кудрат–бий начинает рассказывать какую–то историю, Курбан изобразил на лице напряженное внимание и приготовился слушать. Но Курбаши, после паузы, заметил:
– Этот ваш помощник, ну, который уехал сейчас, он из Бухары?
– Он, кажется, из Шахрисябза, – соврал Курбан, напряженно соображая, к чему ведут все эти странные вопросы.
– Из Шахрисябза? Нет… у этого человека кызылкумский разговор.
…Санджар, не меняя аллюра, спускался к долине реки Туполанг. В спине он ощущал некоторое неудобство, какое испытывают люди, чувствующие на себе вражеские взгляды. Санджару казалось, что из–за каждого куста, из–за каждого полуразрушенного дувала выдвигается винтовка и черный кружочек дула медленно двигается за его затылком. Он успокоился, увидев у реки группу своих всадников.
На самом берегу Санджар позволил себе впервые обернуться. Убедившись, что кругом, на многие сотни шагов, нет ни души, он с облегчением вздохнул и громко сказал:
– Так вот, наконец, где мы встретились, Али–Мардан… Ну, не поиграет кошка с мышкой.
Слова потонули в ворчливом шуме реки.
VII
Было время – шумели базары Дех–и–нау, ревом оглашали бесчисленные ослы улицы и проулки города, пестрели площади красными, синими, белыми чалмами, сотни азанчей возглашали три раза в день с минаретов всемогущество бога. Гордые локайцы проезжали, смотря поверх голов, сквозь почтительно расступавшуюся толпу; скакали, вздымая белесую пыль, бекские глашатаи; русобородые горцы, облеченные в живописные лохмотья, важно шествовали мимо лавок торговцев шелком; голодные, полунагие ребятишки глазели на горы пельменей, румяных пирожков и белых сдобных лепешек, выставленных на чеканных подносах и глиняных расписных блюдах. А под вечер, когда, солнце, цепляясь за верхушку Байсунской горы, бросало последний взгляд на Гиссарскую долину, тысячи голубоватых дымков, как по сигналу, подымались к темнеющим небесам, и ноздри начинал щекотать запах плова, столь густой, что, по выражению Мулла Агзама бек–бобо, достопочтенного историографа хакима Гиссарского, только от вдыхания можно было насытиться на целый день и даже еще больше. Было время…
Война, голод, болезни пришли в Денау рука об руку. Истребительные бекские междоусобицы, малярия, эпидемии неведомых повальных болезней и, наконец, неслыханное поветрие проказы привели к тому, что в конце прошлого столетия город обезлюдел. Эпидемия проказы совпала со вспышкой чумы в кишлаке Анзоб к северу от Гиссара. Вымерли и окрестные кишлаки. Слово «Денау» стало проклятием. Все, даже здоровые жители города стали называться «махау» – прокаженными. Их гнали отовсюду, и они жили подаянием.
Высохли каналы и арыки, зеленая стена болотных камышей вплотную подобралась к воротам города, подпочвенная вода поднялась, и соль начала подтачивать дома, разъедать основания минаретов. Тугайные заросли завоевывали улицу за улицей, площади, дворы. По ночам на уцелевших крышах тонко выли шакалы, зловеще хохотали гиены.
Вслед за приходом в 1921 году военного гарнизона в Денау был создан Ревком. Начали создаваться первые советские учреждения. Правда, их действие еще распространялось только на город и ближайшие кишлаки, но народ все еще трепетавший перед басмачами, потянулся всем сердцем, всей душой к советской власти, видя в ней свою избавительницу от векового гнета деспотов и феодалов. Из далеких горных кишлаков шла в Денау беднота за помощью, за правдой. Многие, спасаясь от кровавой мести курбашей селились в Денау. Население города быстро росло.
Но в это же время прокладка через Денау торгового тракта в сторону центра Восточной Бухары – Дюшамбе привлекла сюда и всякий сброд. Возникали базары, появились торговцы, темные дельцы, лошадиные барышники, опиумокурилыцики, анашисты, монахи дервишеских мусульманских орденов. Весь этот люд оседал в чайханах, бродил по базарам, щупал товары, при удобном случае прихватывая их с собой, вел азартные игры, толкался, пел, торговался, выпивал несметное количество чайников чая, совершал сделки…
Сырая, мрачная мазанка стоит позади развалин кирпичного медресе. По сбитым, вырытым в кочковатой глине ступеням Кошуба, Джалалов и Медведь в полной темноте спускаются вниз. Резкий запах ударяет в нос. Пахнет кунжутным маслом. Из глубины не то погреба, не то пещеры вырываются скрипучие звуки, покашливание и тонкий детский голосок: «Пошт, пошт!» Большое животное, тяжело сопя, гулко топает ногами.
Трепетный огонек светильника, стоящего в нише, не может рассеять мрак, а только выхватывает из него громоздкие, непрерывно двигающиеся со стоном и скрипом балки и жерди…
Морда лошади на секунду появляется в полосе света, испуганно жмурятся большие слезящиеся глаза, нервно шевелятся мохнатые уши. Потом выныривает юноша, почти мальчик, в почерневшей засаленной тюбетейке, в лохмотьях. Нежное, миловидное лицо лоснится, как смазанное маслом. В глазах – выражение бесконечной печали. Губы шевелятся. Под нависающим черным потолком глухо отдается: «Пошт, пошт!»
Из черной дыры вылезает человек. Это глубокий старик. Он бросается к Кошубе и, шамкая беззубым ртом приветствия, пытается поцеловать ему руку. Командир мягко берет в обе ладони руку старика и вполголоса что–то спрашивает. Старик показывает на дыру, и Кошуба исчезает в ней, бросив тоном, не допускающим возражений: «Будьте добры, подождите здесь… Поговорите с ним».
Старик ведет гостей вглубь помещения. Здесь чисто и даже уютно. Расстелен старенький палас, одеяла. На скатерти расставлено скромное угощение. Видно, гостей ждали.
Хозяин суетится, он гостеприимен и непрерывно говорит. Он рассказывает о себе, о своей жизни – жизни полураба.
Усто–Фаттах – маслобойщик, он всю жизнь не выходит из этой ямы, всю жизнь слушает скрип примитивной маслодавилки – майджуваза.
Все оборудование маслобойки состоит из большой выдолбленной колоды. В углубление, наполняемое семенами масличных растений – кунжута, хлопка, сафлора – упирается огромный пест – бревно, приводимое во вращательное движение лошадью, без конца ходящей изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год по кругу под монотонные крики: «Пошт, пошт!» Бревно растирает семена, выдавливает из них масло, которое стекает через отверстие в тыквенную бутыль…
Усто–Фаттах никогда не получал больших доходов.
– Амлякдар говорил мне, – рассказывает он. – «Ты, Усто–Фаттах, богатый человек, и я надбавлю на тебя налог». Но разве можно говорить о богатстве… Если крутился майджуваз от часа, когда чуть забрезжит свет над горами, и до полуночного намаза, то от продажи масла и жмыха можно было выручить в день сорок копеек. Но разве я мог истратить эти деньги на хлеб и рис для семьи? Ведь надо покупать семена, чтобы давить из них масло, надо покупать три снопа клевера для лошади, ячмень…
Он тяжело вздыхает.
– Да, Усто–Фаттах был «богатым» человеком… Если он получал сорок копеек, то двадцать забирал амлякдар, но Усто–Фаттах сводил концы с концами, когда все шло хорошо и джуваз скрипел целый день и даже дольше. А если Усто–Фаттах хоть на один день заболевал… или он вздумал посидеть в базарный день в чайхане, или отпраздновать рождение сына… Да, каждый такой день приносил слезы, ибо тогда в доме не было ни кусочка лепешки, ни фунта риса. Усто–Фаттах, «богатый» человек, шел тогда к лихоимцу ростовщику и умолял дать ему пятьдесят копеек с тем, чтобы через месяц отдать вдвое. Ха, «богатый» человек Усто–Фаттах. О, он был богат слезами и вздохами. Нет справедливости…
Скрипит майджуваз, трепетно прыгает пламя, шевелит ушами уже давно не видевшая дневного света, отупевшая лошадь.
– Пошт, пошт! – глухо отдается в подземелье.
– Мой сын, – говорит старик, показывая покрытым ревматическими шишками пальцем на юношу. – Вы, юноши, счастливы… Вы молоды. Ваша жизнь будет другой. А я родился слишком рано. Очень давно жил поэт, и он в старости сказал: «Погибла юность, владычица чудес. О, если бы ее догнал бег летящих молнией коней!» Где моя юность?
Внезапно появляется Кошуба.
– Что вы приуныли? Не верьте старику, что он так уж дряхл, что он за сорок лет такой работенки стал рабом бессловесным. Чепуха. – Он положил на плечо Усто-Фаттаху руку. – Знаете, кто он? Наш старик – лучший из стариков в мире. Это он – участник восстания славного крестьянского революционера Восе. Это он воевал с беками и эмирскими сарбазами, это он вместе с тысячами таких же ремесленников разрушал цитадель феодалов – Денауский арк. Это тот самый Усто–Фаттах, у которого здесь, в этой мрачной дыре собирались впоследствии члены тайного дехканского общества «Длинные пики», при упоминании одного имени которых трепетали могущественные гиссарские беки. Да знаете ли вы, что были годы, когда наш старик говорил: «Да не будет с бедняка Ахмеда взято ни одного чоха налогов», – ни один амляк–дар, если он имел в башке хоть крупинку здравого смысла, не решался заглянуть в дом Ахмеда. Это тот самый Усто, который первый раскусил басмаческих курбашей и разъяснял народу, кто враги и кто друзья. Вот он кто такой, Усто–Фаттах… Да что и говорить – он и сейчас неоценимый наш помощник. Настоящий агитатор. Послушали бы, как он рассказывает дехканам о Ленине! Ну, пошли.
В ту ночь в Денау мало кто спал: в чайханах, в харчевнях, караван–сараях шли приготовления к встрече грозных гостей. Стучали ножи; опытные повара искусно резали морковь, и груды тонкой лапши вырастали на подносах. Жалобно блеяли бараны, которых вели на убой. В красном отблеске костров белели жирные освежеванные туши. Шутка ли сказать, – предстояло накормить сотни людей. Торгаши ожидали богатых барышей.
Звенели дутары, тянулась гортанная монотонная песня.
Тревожные слова неслись из заброшенных садов, из чайхан, с берега реки.
Невидимые певцы пели:
Час наш еще не пробил,
Но час наш пробьет,
Час наш пробьет сейчас.
О, утро мщения!
В комнате Кошубы горел свет.
На донесение о певцах и подозрительных песнях командир не обратил внимания.
– Едем на охоту… – вдруг заговорил он. – На рассвете, стрелять гусей.
– А церемония сдачи? А Кудрат–бий?
– А мы к параду вернемся.
И Кошуба уехал на охоту. Уехал в такой момент, когда, казалось, все свои силы, всю энергию он должен был отдать подготовке к завтрашнему дню.
С топотом, бряцанием оружия проскакала группа всадников по неровным, вымощенным огромными камнями, улочкам города, мимо ярко освещенных чайхан, где степенно пили чай спустившиеся с гор дехкане.
Было поздно, уже караульщики объявили вторую стражу ночи, но никто не помышлял о сне. Над заброшенными садами неслись песни, и звукам их аккомпанировал звонкий плеск струй, мчавшихся по каменистому ложу.
Подскакав к большой чайхане в центре города, Кошуба громко, так, чтобы заглушить и песни, и звон сотен пиал, и шелест листвы чинаров, позвал:
– Гулям!
– Есть! – из особенно оживленной группы чалмоносных, почтенных денаусцев поднялся Гулям. Под матерчатым козырьком краснозвездной буденовки, сидевшей задорно на самом темени круглого бритого черепа, поблескивали лукавыми огоньками карие глаза.
Ловко лавируя между тесно сидевшими на паласах и коврах посетителями, толстяк подбежал к краю помоста.
– Гулям! – опять очень громко сказал Кошуба. – Уезжаю на охоту.
Гулям сделал движение, выражавшее крайнюю степень изумления. Кошуба многозначительно протянул:
– Понятно? На охо–ту. Будьте готовы к одиннадцати.
Он отдал честь с блеском и четкостью, присущими только старым кавалеристам, и, тронув поводья, отъехал, от чайханы.
Так отряд останавливался еще в двух–трех местах, и всюду Кошуба отдавал распоряжения своим бойцам. И всюду бойцы оказывались в самой гуще народа.
Выехав из города, отряд поскакал по щебнистой равнине к пойме реки.
Поднималась луна, космы тумана ползли к горам, цепляясь за верхушки камыша. Впереди тускло мерцал свинцовая гладь воды. По бокам узкой тропинки высились гигантские кусты.
Командир уверенно вел отряд вглубь чангала, насвистывая веселый вальс. Внезапно он резко осадил коня перед высокой изгородью из связок камыша и хвороста.
– Эй, эй! – крикнул Кошуба.
Но только ветер шуршал камышом.
– Эй, эй! – еще громче прокричал командир.
В предрассветной мгле возникла фигура человека.
Между Кошубой и человеком произошел быстрый обмен приветствиями. Говорили они на каком–то путанном жаргоне из узбекских, локайских и таджикских слов, но это не мешало им отлично понимать друг друга.
Кошуба повернулся к всадникам.
– Тут поблизости озеро. Там с прошлого года эдакий гусище плавает. Живая цель для стрельбы. Только гусь заколдованный. В него все приезжие командиры стреляют, и все мимо. Попробуйте, вот он проводит. А я задержусь.
И крикнул вдогонку:
– Стреляйте в гуся, стреляйте в уток, стреляйте во что хотите, но, чтобы было много шуму, чтобы, в Денау было слышно.
Пожимаясь от холода, всадники продирались сквозь камыши к озеру.
Охота была явно неудачная. Да и что можно было подстрелить при лунном неверном свете! Злые, промокшие от росы, охотники возвращались через час в Денау.
У небольшой хижины, прятавшейся среди камышей, виднелись силуэты двух оседланных коней. Из хижины доносился голос Кошубы и еще чей–то, очень знакомый. Каждый невольно подумал о Санджаре, но вслух никто не произнес этого имени.
Нехотя, медленно всходит солнце над болотами Денау. Серые, тяжелые испарения, пропитанные гнилью, густой волной катятся из камышовых дебрей и зеленовато–желтым одеялом окутывают заброшенные сады, полуразвалившиеся щербатые дувалы. Долго борется солнце с болотной мглой, редкие лучи пробивают толщу тумана и, наконец, вырывают из него стены древних кирпичных медресе – памятников утраченного величия города.
… Светает… Группа всадников, в полном молчании движется под аркой сплетающихся древесных крон. Дрожащий свет приближающегося утра с трудом проникает сквозь густую листву.
Нельзя разглядеть, кто едет по дороге.
Не удивительно, что сторож, сидевший на ветхом дощатом помосте перед сонным хаузом и в зябкой дремоте кутавшийся в пастушеский халат, обознался. Спешившиеся всадники окружили помост. После минутного замешательства двое–трое из приехавших поднялись по скрипучим доскам к широкому, ярко освещенному окну чайханы, заклеенному толстой бумагой.
К чайхане подъезжали все новые всадники и, так же неслышно спешившись, проходили вправо и влево. Позади здания в конюшне некоторое время шла возня, потом все стихло… Из чайханы слышались приглушенные голоса.
– Тихо! Сидеть смирно…
Дверь чайханы распахнулась, и в комнату вошли бойцы Кошубы. Вокруг потухшего очага в живописных позах лежали и сидели люди, похожие на мирных дехкан. Только белые войлочные казахские шапки да добротные сапоги с загнутыми носками отличали собравшихся здесь людей от полунищих, раздетых и разутых гиссарцев.
Здесь, в чайхане, как сообщил комбригу Кошубе через своих связных Санджар, была выставлена, по распоряжению Кудрат–бия, застава, прикрывающая путь к отступлению из Денау на всякий непредвиденный случай. Таких застав было выставлено в окрестностях города несколько. Кудрат–бий разбросал группы хорошо вооруженных нукеров и на дорогах, и в пригородных садах, и на склонах холмов.
Басмачи были захвачены врасплох. Некоторые из них повскакивали, ничего не соображая. Молодой черноусый щеголевато одетый басмач, прислонившись спиной к столбу, подпиравшему потолок, смотрел на вошедших в бессильной злобе.
– Ни звука! – вполголоса предупредил Джалалов.
Взгляд черноусого блудливо забегал, и остановился на темной нише, где поблескивали самовары. Казалось, он измеряет расстояние.
Тогда Джалалов спокойно заметил:
– Не трудитесь напрасно… – И крикнул: – Входите!
Из–за самоваров, через широкое окно в чайхану вошли бойцы. Они настолько были уверены в успехе операции, что даже не сняли с плеч карабины.
– Оружие сложите вот здесь, – приказал отделенный командир. – Только побыстрее, нам некогда… Нет, нет, все… Ножи тоже сюда положите.
Очень скоро шум внутри чайханы стих. Желтый свет, пробиваясь через бумагу, по–прежнему падал на поверхность хауза, и вода поблескивала сквозь туманную пелену.
На помост снова уселся страж в белевшей в темноте казахской шапке и положил на колени винтовку.
Небо на востоке светлело. Между деревьями кое–где чуть розовели снежные вершины. Запели петухи.
На дороге появилась большая группа конников. Один из всадников, скакавший впереди, не останавливаясь, крикнул поднявшемуся во весь рост на помосте стражу:
– Не уставай, самоварчи!
– Путь вам добрый.
– Как дорога?
– Дорога счастливая…
– Смотрите во все глаза!
Свыше сотни всадников, звеня богатой сбруей, не задерживаясь, проехали быстрым ходом мимо чайханы, пересекли вброд большой арык, напоили лошадей и по извилистой улице двинулись к главной площади Денау.
Когда последний всадник скрылся за поворотом, из дверей чайханы вышел Джалалов.
– Дверка захлопнулась, – сказал он, обращаясь к кому–то, находившемуся внутри помещения.
… Така–така, так, тум! Така–така, так, тум! Так, тум так, тум! – донесся с площади ритмичный бой барабанов. Взревели карнаи, радостно приветствуя медно–красные лучи солнца, брызнувшие на мокрую от росы листву деревьев, на пыльную дорогу, на зеленую воду хаузов.
– Началось, – проговорил Джалалов.
Он вскочил на лошадь и поскакал к площади.
Начинался день – день позора басмачей, день торжества народа. Какие бы ни были расчеты у Кудрат–бия, когда он предложил сдаться на милость Красной Армии, как бы ни повернулись события, всем было ясно, что этот день был началом конца басмачей. Они могли еще драться, могли убивать из–за угла, запугивать, разбойничать, метаться в звериной ярости по долинам и горам, оставляя за собой кровавый след, но организованной борьбе пришел конец…
Курбаши Кудрат–бий сдавался на милость победителей.
Он вывел на денаускую площадь своих всадников, и перед небольшим помостом, покрытым красным паласом, вытянулось что–то вроде строя. Лошади, не приученные к порядку, рвались вперед, пятились назад, грызлись, кружились на месте. Ряды сбивались, и посреди площади непрерывно колыхался клубок чалм, бород, халатов. Бряцало оружие, цеплялись стремена, путались удила…
Стоял непрерывный гомон. Ржали и ревели кони, гудели карнаи, били барабаны, пронзительно стонали сурнаи. В толпе любопытных горожан, сбившихся у входа на площадь, в улочках и переулках, отчаянно завывали моддохи, дервиши, каляндары, распевавшие суфийские песнопения о любви к богу или просто дико выкликавшие: «Нет божества, кроме аллаха, хвала ему! Бог велик».
В толпе людей и в рядах конников ловко шныряли с большими медными подносами в руках торговцы сладостями, водоносы, лепешечники. Они вносили свою долю в этот базарный гомон истошными криками:
– Ледяная вода! Ледяная вода!
– Лепешки! Сдобные лепешки!
– Сладости!
– Вода! Холодная вода!
Мальчишки кружились под ногами, глазели на коней, рассматривали серебряные украшения сбруи, филигранную отделку ножен, бархатные нарядные пояса и во всеуслышание бесстрашно обсуждали кровавые деяния того или иного известного своими зверствами курбаши.
– Фазиль! Вон Фазиль с черными усами! Сжег Ак–Тепе.
– А этот, в золотом чапане… Вон, вон! Сардарбек, вырезал семью хупарского пастуха.
– Это он в Сарыпуле повесил женщин. Три дня выклевывали вороны им глаза…
– Вот убийца детей, Палван беззубый! Бежим!
– Зачем! Ему сейчас бороду подстригут. Сдается.
– Сдаются!
Басмачи старались не замечать мальчишек. Гордо восседая на своих конях–зверях, они совсем не походили на битых сдающихся в плен бандитов. Они держались надменно, как торжествующие победители, захватившие город и собирающиеся вот–вот предать его разграблению.
Они поглядывали по сторонам, смотрели на плоские крыши, густо усеянные народом, перешептывались, ухмылялись в бороды.
Старые, седые дехкане, стоявшие поближе, покачивали головами и вздыхали. За последние годы они впервые видели такую массу вооруженных с головы до пят басмачей и себя, среди родных домов Денау, и тревога закрадывалась в их сердца. Тревожные слухи перебегали в толпе, и нет–нет кто–нибудь нырял под локтями соседей и, проскользнув между тесно стоявшими людьми, спешил выбраться с площади.
Только комбриг Кошуба, по–видимому, ничего не замечал. В сопровождении своих командиров он шел по образовавшемуся в толпе проходу и спокойно смотрел в напряженные, взволнованные лица. Увидев знакомого, он приветливо здоровался с ним. Много было у Кошубы в Гиссарской долине добрых друзей.
Командир поднялся на помост и очутился лицом к лицу с Кудрат–бием, сидевшим на великолепном буланом текинском скакуне. Толстое одутловатое лицо курбаши было равнодушно и безразлично, глаза прикрыты синеватыми морщинистыми веками, грудь судорожно вздымалась под бархатным кафтаном, украшенным серебряными бухарскими и афганскими звездами. Только ноздри Кудрат–бия раздувались, и Кошуба сразу понял, что басмач злится.
Кошуба молча смотрел на Кудрат–бия, ожидая, когда он, наконец, соблаговолит открыть глаза. Командир не отрывался от его лица и не обернулся даже, когда позади послышался взволнованный шепот Джалалова:
– В городе тревожно, женщины с детьми бегут в сады…
Чуть заметным нетерпеливым движением руки Кошуба заставил Джалалова замолчать и громко произнес:
– Приступим.
И, хотя слово это слышали только близ стоящие, площадь почти мгновенно стихла. Наступила полная тишина, нарушаемая негромким пофыркиванием лошадей.
Подняв лениво веки, Кудрат–бий тревожно обвел взглядом стоявших на помосте командиров и представителей Советской власти. Стараясь не встречаться глазами со взглядом Кошубы, он посмотрел на высокую крышу медресе, пестревшую яркими халатами, и чуть заметно улыбнулся.
Потом, молитвенно подняв руки, он громко и внятно, как и подобало, прочитал фатиху. Его заключительное «Омин!» подхватили все курбаши и нукеры. Так приступают басмачи к битве. Знал это Кошуба, знали об этом и его командиры.
Кошуба ждал, не спуская глаз с Кудрат–бия.
– Здравствуй, – резко сказал по–русски Кудрат–бий, и губы его искривила презрительная усмешка. – Здравствуй, начальник!
В голосе его звучало нескрываемое торжество. Он выпрямился в седле, откинулся и картинно уперся в бедро рукояткой камчи.
– Плохой признак: не сказал даже «Салом алейкум», – проговорил чуть слышно кто–то из командиров.
– Здравствуйте, таксыр парваначи! – сказал Кошуба.
Бросив направо и налево взор, исполненный величия и надменности, курбаши сделал знак своему хранителю печати и тот медленно, с расстановкой произнес:
– Вот мы, посоветовавшись с мудрыми, решили и соблаговолили оказать милость городу Денау и посетить место, где недавно восседали могучие беки денауские, верные слуги бога, пророка и эмиров.
Так как Кошуба молчал, хранитель печати продолжал:
– И с нами прибыли сюда наши токсаба, ясаулы и прочие чины и наши доблестные воины, дабы мы могли в полном спокойствии и не опасаясь никаких утеснений, вступить в переговоры с начальниками войска, не признающими пророка и именующими себя «большевиками».
Не поворачивая головы, Кошуба уголками глаз примечал, как басмачи нетерпеливо поправляют на плечах ремни винтовок. Он перевел глаза на ручные часы. Стрелки показывали без пяти минут десять. Почти не обращая внимания на монотонный голос хранителя печати, Кошуба напряженно ждал. И вот, когда большая стрелка засекла цифру двенадцать, издалека, уверенно и четко, с правильными интервалами, прозвучали пять выстрелов. Они донеслись с термезской дороги.
Едва заметная тень тревоги, омрачавшая лицо командира, растаяла. Он откровенно улыбнулся Курбану, сидевшему на коне среди приближенных Кудрат–бия, в двух шагах от самого курбаши, и, чуть повернув голову, посмотрел на медресе.
Трудно сказать, слышал ли выстрелы Кудрат–бий, но он встрепенулся и тоже посмотрел на медресе. Над зданием, медленно и величественно, полыхая красным полотнищем, поднимался советский флаг.
– Смирно!
Команда прозвучала так повелительно, что все басмачи вытянулись в седлах. Советские командиры взяли под козырек.
Зазвучали торжественные звуки «Интернационала». Они неслись из портала медресе.
Досадливо поджимая губы, курбаши морщился. Подозвав рыжебородого ясаула, он спросил его о чем–то. Тот посмотрел на угол медресе, где был въезд на площадь, и недоумевающе пожал плечами.
Смолкла музыка. Громко, на всю площадь, зазвучал голос Кошубы. Говорил он на таджикском языке, наиболее понятном в этих местах.
– Таксыр, от имени Советской власти спрашиваю: прибыли вы с миром или войной?
После длительной паузы, во время которой басмачи поспешно перекидывались взглядами и чуть слышными замечаниями, Кудрат–бий громогласно ответил:
– Наши мнения, да будет на них одобрение бога и пророка его, изложены в бумаге и скреплены печатью нашей и печатями наших военачальников. Эй, хранитель печати, вручи наше послание начальнику урусов.
– Нет, – сказал Кошуба, – читайте вслух!
Обращаясь к соседу, он усмехнулся и заметил вполголоса: «Вот где сказывается, что он был чиновником эмира. Вечно перепиской занимается. Конца краю не видно».
Тем временем хранитель печати тяжело спустился с лошади, взошел на помост и начал читать,
«Бисмилля, да будет снисхождение и милость аллаха и его пророка к нам. Вот уже много лет, не покладая рук, мы, воины ислама, ведем священную войну. Многие из нас стали мучениками за веру и снискали себе блаженство в раю, много великих побед одержано нашим воинством. Но тяжело бремя войны, и тяготы походов разорительны для мусульман, а потому, да будет над нами покров аллаха, решили мы, совместно с могучими и прославленными военачальниками нашей армии, после долгих и мудрых совещаний, внять просьбам и приглашениям Советской власти, начать здесь, в хакимской резиденции Денау, переговоры, полные разумных мыслей и благожелательства, о прекращении военных действий и о заключении между исламской армией и Красной Армией перемирия. Да будет благословение аллаха над теми, кто смиряет свои страсти и вожделения и полон угодного аллаху смирения и благоразумия. Да будет проявлена мудрость, умеренность и терпимость в условиях, которые предложите вы нам, представители Советов. Бог велик!»
Отвесив глубокий поклон, хранитель печати вручил послание Кошубе и медленно сошел с помоста.
– Вы слышали, товарищ, начальник? – в голосе Кудрат–бия зазвучали иронические нотки.
Хранитель печати взобрался на коня и, подъехав к Кудрат–бию, негромко сказал:
– Посмотрите влево.
Раздвинув передние ряды, из толпы вышел дервиш в высокой шапке. Поймав взгляд курбаши, он что–то прогнусавил по–арабски.
Кудрат–бий победоносно оглянулся.
– Таксыр, – сказал невозмутимо комбриг. Он как будто ничего не замечал. – Таксыр, сейчас я прочитаю ответ от имени Советской власти и командования Красной Армии.
– Хорошо, мы слушаем, – важно ответил Кудрат–бий.
Он поудобнее расположился в седле. Он был склонен растянуть церемонию. Пусть говорят об этом знаменательном дне и в Гиссаре, и в Кухистане, и в Бухаре. Пусть разнесется слава о нем, о Кудрат–бие, по всему Туркестану, пусть вести проникнут и за Пяндж, в столичный город, где мирно отдыхает, надеясь на своих верных слуг, повелитель благородной Бухары. Пусть о его, Кудрат–бия, уме, могуществе, хитрости войдет слава в века. Пусть падут пред ним ниц в восторге мусульмане, пусть затрепещут враги. Еще несколько минут он может потерпеть надменный тон этих «мужиков», столь глупых и доверчивых. Еще немного – и народ, собравшийся на площади, увидит невиданное, услышит неслыханное.
– Мы слушаем твои слова, – повторил Кудрат–бий.
Командир развернул большой лист бумаги, на котором было написано всего несколько строк.
– Прошу сойти с коня, – сухо сказал Кошуба.
В рядах басмачей возникло легкое замешательство. Слегка приоткрыв рот, пораженный Кудрат–бий смотрел на командира. Курбаши показалось, что он ослышался.
– Это важный документ. Его надо выслушать стоя, – пояснил Кошуба.
Поколебавшись немного, Кудрат–бий наклонился и начал грузно сползать с коня. К нему подскочил хранитель печати и двое ясаулов. Путаясь в длинных полах халата и цепляясь за драгоценные ножны сабли, парваначи поднялся по ступенькам на помост. Встав на краю помоста, он скрестил руки на животе, откинул голову и небрежно бросил:
– Я слушаю.
– Простите, таксыр, еще не все. Дайте команду спешиться вашим джигитам.
– Зачем? – В голосе Кудрат–бия звучало раздражение.
– Неудобно, вы стоите, а они… Кудрат–бий наклонился к ясаулу: – Прикажите.
Неуверенно прозвучала команда.
Гремя оружием, нукеры спешились и, толкаясь и стукаясь винтовками, выступили вперед, поближе к помосту. Лица у многих были багровые, напряженные. Слышался тихий, сдержанный ропот.
Тогда Джалалов подошел к Кудрату и, почтительно приветствовав его, сказал ему что–то очень тихо.
Лицо басмача потемнело и как–то сразу поблекло. Почти не поворачивая головы, он быстро пробежал глазами по фасаду медресе. И то, что он увидел, заставило его пробормотать не то суру из корана, не то проклятие.
Весь фасад медресе состоял из стрельчатых ниш с небольшими балкончиками, на которые выходили резные дверцы. И вот только сейчас Кудрат–бий заметил, что ни на одном балкончике нет уже любопытных и что каждая из шестнадцати дверей на фасаде медресе открыта и черным провалом зловеще смотрит на него, на площадь и на его воинов.
– Я читаю, – послышался голос Кошубы. – Командующему гиссарскими и байсунскими воинами. Советское командование согласно принять сдачу курбаши Кудрат–бия, курбаши Садык–бека, курбаши Палвана–беззубого, курбаши Лютфуллы с их джигитами.
Условия:
1. Означенные курбаши и нукеры немедленно сдают все оружие и все боеприпасы.
2. Нукеры дают торжественное обещание не подымать оружия против Красной Армии и Советской власти.
3. Нукеры расходятся по домам и приступают к мирному труду.
4. Курбаши, по своему желанию, или поселяются в своих родных кишлаках или уезжают в избранные ими места.
5. Виновные в грабежах и насилиях над дехканами подлежат суду народа».
Толпа басмачей зашумела, послышались протестующие выкрики. Кошуба выступил вперед и громко спросил:
– Я спрашиваю, Кудрат–бий, согласны ли вы?
Опустив голову, нахмурившись, стоял могущественный курбаши. Рука лихорадочно вертела камчу. Лисьи глазки его пробежали снова по фасаду медресе. Теперь он явственно различал в каждом темном четырехугольнике двери остроконечные звездастые буденовки и поблескивание оружия.



