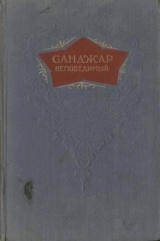
Текст книги "Санджар Непобедимый"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
VIII
Дряхлый верблюд, с трудом передвигая ноги, шагал по твердой утоптанной дорожке. Временами из его глотки вырывались грустные булькающие звуки. Пронзительно скрипел блок.
Пройдя до конца тропинки, верблюд издавал крик и тряской рысцой возвращался обратно к неуклюжему глиняному сооружению, стоявшему посреди плоской лощины. Здесь он с минуту нерешительно топтался на месте, затем вновь пускался в путь.
Верблюд был виден издалека, и странная его прогулка взад и вперед вызвала недоумение кавалеристов, спускавшихся по длинному, очень пологому склону холма, поросшему чахлыми кустиками побуревшей травы.
– Что с ним? – спросил один из всадников. Молодой узбек, ехавший впереди, обернулся.
– Колодец Отшельника, – проговорил он. – У отшельника, хранителя колодца, умный верблюд. Сам воду достает из колодца для овец. Овцы придут к закату солнца, а бассейн будет полон. Отшельник спит, наверно. Жарко…
И тут все почувствовали, как на самом деле жарко, как хочется пить и как бесконечно долго тянется спуск с холма.
Подъехали ближе. Глиняное сооружение оказалось степным колодцем, с лотком и небольшим бассейном для водопоя. Через скрипучий блок была переброшена веревка, привязанная к седлу верблюда. Шагая по дорожке, верблюд вытаскивал кожаное ведро. Достигнув верхнего обложенного камнем края колодца, ведро цеплялось за деревянный стержень и опрокидывалось само собой. Вода выливалась в лоток. Верблюд возвращался, ведро спускалось вниз, и дальше повторялось то же.
Видно уже много лет верблюд выполнял свою монотонную работу, ибо хранитель колодца даже не находил нужным понукать его.
Красноармейцы с любопытством разглядывали верблюда, который, не обращая ни малейшего внимания на подъехавших людей, продолжал свое дело.
Кругом – ни единого признака жизни. В стене небольшой, слепленной кое–как из глины, хижины зияла темным провалом открытая настежь ветхая дверь. Налетевший внезапно ветер закрутил в горячем воздухе пыль и сухие соломинки.
Один из кавалеристов, видимо, командир, слез с коня и прошел к хижине:
– А ну–ка, посмотрим, кто есть тут в хате?
Но он не успел дойти. В дверях показался человек. Возраст его определить было трудно. Ему можно было дать и пятьдесят, и больше лет. Опустив глаза и перебирая грубые четки, человек проковылял на изуродованных ногах мимо командира, остановился у бассейна и гортанно крикнул. Верблюд взревел и быстрее обычного вернулся к колодцу. Надоедливый скрип блока прекратился. Человек отвязал веревку, и животное не спеша двинулось в сторону к зарослям верблюжьей колючки.
Только тогда хранитель колодца удостоил своим вниманием приезжих и, не взглянув ни на кого, мрачно буркнул:
– Хлеб привезли?
Командир смущенно начал рыться в сумке.
– Вчера здесь был господин, – продолжал старик, – он сказал: «пришлю муки». Вы люди господина?
Красноармейцы переглянулись. Молодой узбек подошел, отвесил поклон и сказал:
– Твоего господина зовут Али–Мардан?
– Да.
– Он был здесь? Когда?
Хранитель колодца только теперь поднял веки, во взгляде его мелькнула растерянность, но он ничем не проявил своего удивления.
– Он был здесь, когда было угодно богу, и покинул колодец в момент, предугаданный предопределением.
Один из красноармейцев сделал нетерпеливое движение. Командир предостерегающе протянул:
– Осипчук! – Затем, обращаясь к проводнику, он сказал: – Товарищ Санджар, отдых! Делаем дневку. Кони притомились, еле дышат. – И вполголоса добавил: – Ты, Осипчук, уж больно горяч. А знаешь, здесь, в Бухаре, правильно говорят: «У горячего повара похлебка или пересолена или совсем без соли». Так–то…
Хранитель колодца молчал.
Молчал он и тогда, когда проводник рассказал ему о переменах, происшедших в стране: о том, что нет больше ханов и эмиров, что дехкане, пастухи и рабочие сожгли дворец угнетения в Бухаре…
Старик посмотрел на необычных своих гостей, сидевших на рваной, пыльной кошме, и только спросил:
– Бухара – святая гробница.
– Нет, Бухара большой город, – ответил Санджар.
– Что такое город?
– Ну, это большой, большой кишлак.
Отшельник помолчал.
– Слышал, в десяти днях пути отсюда есть кишлак. Оттуда приходят пастухи. Кишлака я давно не видел, забыл.
Поздно вечером, когда синий купол неба покрылся мигающими искрами звезд, хранитель колодца, собрав все свои мысли и, припоминая забытые слова родного языка, рассказал о себе. Только в пустыне, в стране злых песков можно услышать такой рассказ:
– Я Кудукчи – хранитель колодца. Проходящие пастухи зовут меня отшельником. Мне говорят: «Когда ты умрешь, тебе господин построит гробницу, и ты станешь хазретом – святым».
Он молитвенно приподнял руки и замолчал.
Санджар почтительно кашлянул. Он был пастухом, а пастухи с величайшим уважением относятся к хранителям колодцев.
Отшельник вздрогнул.
– Я очень горевал, когда у меня издох последний верблюд, который был перед этим, а этого зовут Цветок. Очень был умный и веселый верблюд, он даже умел разговаривать. Только не все пастухи могли понять его разговор. А я понимал.
Он снова помолчал и недоверчиво поглядел на собеседников, боясь увидеть на их лицах улыбки.
– Неясно помню, я жил в другом месте, много было там людей, шумно было… не помню. Пришел человек очень богатый, очень сердитый, в красивой одежде – зеленой, желтой, как весенние цветы. Он сказал: «Будешь хранителем колодца, будешь жить у колодца и никуда оттуда не пойдешь». Я кричал, не соглашался, хотел уйти. Меня били, очень сильно били… Потом привезли на верблюде в это место. А чтобы я не ушел, мне надрезали пятки. И верблюду испортили ноги…
– И ты никуда не уходил? – спросил командир.
– Уходил. Мне снова портили ноги и один, и два, и три раза. Но я все–таки ушел. Изловили, жгли меня огнем. В другой день я ушел, меня снова нашли. Связали, держали без воды шесть дней. – Лицо старика исказилось. – Я проклял тогда имя аллаха, я поднял руку на господина.
– На Али–Мардана?
– Нет, нет, Али–Мардана не было, тогда был его отец.
– Сын волка все равно становится волком… Сколько же лет ты здесь?
– Не знаю.
– Сколько тебе лет?
– Не знаю.
– Как же так?
– Каждый год снег сменяется травой. Потом дуют горячие ветры, затем снова идет снег… Один год подобен другому.
Старик замолчал. За весь вечер он больше не произнес ни слова.
Утром его спросили, хочет ли он переехать жить в кишлак, обещали ему прислать смену. Отшельник долго думал. И только когда был выпит чай, заседланы отдохнувшие и повеселевшие кони, хранитель колодца сказал:
– Нет.
– Почему?
– Я умру здесь, и на могиле моей построят гробницу, и я стану святым, покровителем пастухов.
Он привязал веревку к седлу верблюда, и снова визгливо заскрипел блок, как скрипел он многие годы.
– Ну что же, – сказал командир, – вольному воля! Пошли обратно на Сипки… Дело, товарищ Санджар, сорвалось, не найти нам вашего дружка… Видно, сбежал он.
Молодой парень с обидой в голосе произнес:
– Ушел Али–Мардан от народного гнева.
Он еще раз, для очистки совести, попытался расспросить отшельника, но тот медлительно перебирал четки и равнодушно молчал.
– По коням! – скомандовал командир, и маленькая группа всадников двинулась прямо, без дороги, в степь. Скрип колодезного блока становился все тише и тише, временами ветер совсем относил звук в сторону. Внезапно командир оглянулся, ему послышался крик.
– Стой! – скомандовал он.
От колодца поспешно ковылял, прихрамывая, отшельник. Добежав до всадников, он ухватился за узду коня командира и, тяжело дыша, сказал:
– Ты воин эмира?
– Нет.
– Почему вы не пытали меня огнем, не били меня камчой, не резали мне тело?
– Потому что мы солдаты народа, а не эмира.
– Господин был вчера на колодце. Я оказал ему гостеприимство.
Хранитель колодца колебался. В его глазах виден был страх.
– Закон гостеприимства не соблюдается, когда гость проклят народом. Ты должен отомстить, – закричал Санджар. – Отомсти за свою жизнь, за искалеченное тело, за ожоги, за удары…
– Я боюсь, он вернется, узнает. Меня опять будут жечь. Нет, я не скажу… Я боюсь.
Отшельник повернулся и, втянув голову в плечи, заковылял прочь.
Чувствовалось, что он и сейчас ждет угроз, побоев. Вот он трусливо обернулся. И когда не увидел ни поднятой руки, ни занесенного клинка, жалобно закричал:
– Бейте, бейте, тогда я все скажу…
Командир тронул коня, подъехал к отшельнику и хрипло проговорил:
– Красные воины не бьют.
Хранитель колодца сжался в комок. Только глаза его горели. Он помолчал еще с минуту выжидая, и вдруг крикнул:
– Я думаю, вы слабые люди, жалкие люди. Сильный господин бьет, топчет раба в пыль. Я вижу, вы другие люди… Я не понимаю, какие… – Он заплакал. – Пусть меня изжарят в пламени костра, пусть нарушу я закон степи о госте. – Он протянул руку к чуть синевшей вдали одинокой вершине: – Господин ушел к колодцу Джидели, вон под той горой, имя ее Шур. Идите за ним, и горе мне…
На колодце Джидели стоял разъезд красноармейцев. Никто туда не приходил и не приезжал за последние два–три дня. То ли обманул отшельник, то ли Али–Мардан изменил свой путь, опасаясь преследования.
След посланца эмира Али–Мардана был окончательно потерян…
IX
В беспредельных просторах Карнапчульской степи, где ровная поверхность земли не нарушается до круга горизонта ни единым бугорком, ни единым камнем Али–Мардан встретил дехканина, мирно ехавшего на жалкой лошаденке по своим делам.
Дехканин был удивлен встречей. Одинокий путник пеший, хоть звание его, видно, не простое: из–под распахнувшегося халата поблескивают пряжки дорогого пояса, да и халат бархатный.
Всадник придержал коня.
– Салом!
Али–Мардан пытливо смотрел на дехканина.
– Куда едешь?
– Слушай, – сказал дехканин, – хоть по обличью ты и большой господин… был большой господин, но ты забыл, видимо, правила вежливости. Ступай своей дорогой.
Али–Мардан закричал:
– Ты не видишь, я человек великого эмира… Я путешествую с высоким поручением.
– Эмир прыгает по степям и долинам, как тушканчик, и за ним гонятся красные воины. А ты что делаешь в нашей степи?
– Слезай с лошади и прекрати болтовню! – Али–Мардан протянул руку к рукоятке револьвера.
– А, вот ты кто, – и дехканин медленно слез с лошади.
По невозмутимому лицу его можно было подумать, что ему все равно, что ему не жалко отдать вот этому незнакомому человеку самое ценное для крестьянина – лошадь.
– Подержи стремя, – приказал Али–Мардан.
Тайному советнику эмира следовало быть наблюдательнее. Тогда бы он заметил, что в глазах крестьянина пляшут огоньки ненависти, а в сжатых губах чувствуется жесткая решимость.
Но Али–Мардан ничего не видел. Слишком велика была его уверенность в том, что рабы всегда останутся рабами и что воля господина непреложна. И он снова повторил:
– Держи стремя.
Тогда крестьянин молниеносным ударом рукоятки тяжелой камчи свалил Али–Мардана на землю и долго бил его. Потом неторопливо взобрался на коня и тронулся в путь.
Посланец эмира очнулся только поздно ночью. Он быстро обшарил себя. Все было цело. Крестьянин не тронул драгоценного пояса, где была зашита добыча рудника Сияния за целый год. Хотя все тело ныло, голова раскалывалась, а в груди временами чувствовались приступы резкой боли, Али–Мардан мог двигаться. Он поплелся на юг, ориентируясь по звездам. И когда заря залила половину небосклона, он добрался до крошечного кишлака, приютившегося на вершине одинокого холма.
Здесь, в силу старого закона гостеприимства, Али–Мардан нашел отдых и пищу. Пожилой крестьянин, одетый в жалкое рубище, рассыпаясь в любезностях, проводил неожиданного гостя к себе во двор. В крошечной комнатке, прокопченной зимними кострами, Али–Мардан со стоном опустился на вонючую баранью шкуру и заснул.
Хозяин несколько минут постоял, изучая облики одежду пришельца. Потом быстро наклонился, раздвинул полы бархатного халата гостя, вытащил из кобуры револьвер и вышел.
…Стук двери разбудил Али–Мардана. Неприятно резнул глаза свет. Посреди комнаты потрескивали в огне ветки, у костра сидел хозяин дома и поглядывал на гостя. Когда взгляды их встретились, ощущение страха подползло к сердцу Али–Мардана. Он резко поднялся, рука его потянулась к поясу.
– Не спеши сражаться, господин, – усмехнулся хозяин.
– Не спеши, бек, – насмешливо прозвучал еще чей–то голос из угла.
Тут только Али–Мардан разглядел сквозь дым костра, что комната полна народа. Суровые лица крестьян были спокойны, равнодушны. В открытую дверь доносился заунывный вой собак.
– Чуют волка, – сказал хозяин. Опять все помолчали.
– Эй, бек, зачем ты пришел в нашу степь? – спросил длиннобородый широкоплечий старик.
– Я странник, я иду в Тармит поклониться праху хазрета, священной могиле.
– Мы хозяева, ты гость, зачем же ты, помня обычай гостеприимства, поспешно ищешь оружие, находясь в мирной михманхане в присутствии старейшин рода Кенегес? Зачем ты в степи останавливаешь почтенного Ата–Исмаила и, как разбойник, пытаешься отнять у него коня? Зачем ты спешишь скрыться от народа и ищешь спасения в краях, куда ускакал, как жалкий вор, сам эмир.
– Вы не смеете становиться на моем пути. Одного моего слова достаточно, чтобы от этого грязного кишлака остались кучи пепла и камней!..
– Было достаточно.
– А вашего Ата–Исмаила я прикажу продержать в клоповнике неделю, а потом ему вырвут глаза, отрежут нос и уши и всыпят двести палок.
– Постой, не грози, господин: нет больше клоповника, нет больше палок, нет больше господ беков, нет больше рабов, – говоривший вскочил, плюнул Али–Мардану в лицо и вышел.
Один за другим вставали старейшины рода Кенегес и каждый плевал на Али–Мардана. Никто не ударил его, никто даже не замахнулся.
Всесильный чиновник эмира, блестящий вельможа, попиравший многие годы человеческое достоинство сотен тысяч верноподданных эмира, забился в темный угол и, съежившись рукавом закрывал лицо. Он не пытался сопротивляться. Он был потрясен. Мир рушился, ум мутился. С новой силой вспыхнула боль во всем теле.
Последним ушел хозяин. Он даже не плюнул. Он сказал только одно слово:
– Шакал!
И вышел.
Али–Мардан выждал, когда затихли шаги и звуки голосов, и ползком подобрался к двери. Она не была заперта.
Ночью Али–Мардан исчез. Утром хозяин обнаружил у очага бархатный в серебряных украшениях пояс. Из пояса высыпалось несколько невзрачных камешков неправильной формы, покрытых желтовато–бурой коркой. Хозяин метлой смел камешки в кучу, долго вертел один из них в руках с явным удивлением.
На дворе он лепил из глины небольшой очаг. Камешки вмазал в его стенки.


Часть 2

I
На улице хлопают резкие выстрелы, будто ломаются сухие доски.
Игроки переглядываются. Николай Николаевич медленно кладет на палас карты, предусмотрительно крапом кверху, и поворачивает свое безбровое, лишенное всякой растительности, розовое лицо к распахнутой двери.
Пылкий Джалалов вскакивает, темные глаза его загораются лихорадочным огнем. Он поправляет многочисленные ремни, на которых висит желтая кобура. Впрочем, злые языки единодушно поговаривают, что в кобуре воинственный юноша носит перочинный нож, спички, табак.
Выстрелы щелкают где–то уже совсем близко.
– Стреляют? – вопросительно гудит из темного угла голос Медведя, тягучий и басовитый.
– Нет на барабане нам «с добрым утром» выстукивают, – раздраженно скрипит Джалалов. – Как только попадешь в Карши, вечно в какую–нибудь историю влипнешь. Надо пойти посмотреть, как и что.
– Но ведь там стреляют, – волнуется Николай Николаевич.
Джалалов останавливается и глубокомысленно рассматривает дверь. Совершенно очевидно, что весь запас его отваги исчерпан, и ему совсем не хочется идти на улицу, выяснять причину стрельбы.
Все молчат.
Тяжелые, шаркающие шаги нарушают тишину. Лицо Николая Николаевича принимает землистый оттенок, а впадины под скулами лиловеют. Медведь сует папиросу в рот не тем концом. Джалалов теребит застежку кобуры и шопотом спрашивает:
– Будем стрелять, а?
Ему не успели ответить. В низкую дверь просунулась большая синяя в полоску чалма, из–под нее блеснули проницательные, холодные глаза. Проводник экспедиции гузарец Ниязбек остановился на пороге.
– Ниязбек! Что случилось?
Ниязбек, не торопясь, прошел в угол и солидно покряхтывая, уселся по–восточному на одеяло. Только тут, произнося обязательное «бисмилля и рахман и рахим», он заговорил. Ниязбек не владел русским языком настолько, чтобы свободно излагать свои мысли, но он умел немногословно отрывисто и в то же время удивительно образно рассказывать обо всем, что было так важно и нужно в сложном путешествии.
Ниязбек погладил бороду, потом запустил под нее руку и растрепал шелковистые вьющиеся волосы так, что они легли на грудь пушистым веером. Затем он сказал:
– Басмачи.
– Как? Не может быть!
– Басмачи здесь? В Каршах? В самом городе?
Каждый, направлявшийся в те дни в Восточную Бухару, знал, что он пускается в трудный путь, что ему предстоит пережить очень и очень тревожные дни, что, быть может, придется столкнуться с самыми серьезными опасностями, но думалось, что все это далеко впереди. Карши – город мирный, будничный, рядом железная дорога, поезда, свистки паровозов – и вдруг…
– Басмачи, – повторил Ниязбек.
В Бухарской народной республике еще шли упорные бои с басмаческими шайками. Еще всякие ибрагим–беки, понсат–усманы, палваны, мурад–датхо мнили себя полновластными беками Гиссара, Локая, Байсуна, Ширабада.
Басмачи опустошали край, обирали дехкан, пожирали, как саранча, все съедобное. Землевладельцы и скотоводы прятали зерно, угоняли в непроходимые горные ущелья скот. Начался голод. Дехкане распродавали последнее, что у них было, разрушали жилые постройки, вырубали фруктовые сады и шли, куда глаза глядят. В Миршадинском вилойяте из двадцати тысяч жителей за зиму вымерло пятнадцать тысяч. В развалинах городов и селений выли шакалы и бродячие псы.
Но уже началась мирная созидательная работа. Из Ташкента в Бухару, в самые далекие и глухие места двинулись советские люди. Впервые появлялись, в горах и долинах врачи, агрономы, инженеры, учителя. Впервые встал вопрос о том, что болезни нужно лечить, а не заговаривать знахарскими заклинаниями, что надо строить дороги и дома, что надо учить детей и учиться самим. В помощь освобожденной от деспотии эмира Бухаре Коммунистическая партия братской Туркестанской республики направляла своих работников.
В те дни из города в город по бухарской земле не решались ездить в одиночку. Время было беспокойное, шайки всевозможных кзыл–аяков, каракулей, найманов пользовались тем, что Красная Армия занята ликвидацией последышей британского наемника – турецкого авантюриста Энвера, банд Ибрагима, Бахрама и им подобных. Тогда–то и воскрешены были знаменитые «оказии», столь обычные для середины прошлого века на Кавказе. И здесь, в Бухаре, тоже каждую группу гражданских лиц, как правило, сопровождал воинский отряд, и всякий путешествующий обязательно присоединялся к «оказии».
На восток через всю Бухарскую республику в мае двинулась многолюдная экспедиция. Сотни арб, полторы тысячи верблюдов везли мануфактуру, всевозможные товары, серебряные деньги. С экспедицией ехали направлявшиеся на работу в Дюшамбе, Гарм, Куляб сотни советских работников и специалистов.
Только что окончивший Ленинградский университет, молодой хирург Николай Николаевич Гордов направлялся вглубь гор не столько в силу необходимости, сколько из юношеской склонности «к перемене мест». Пожилой, с тронутыми сединой волосами этнограф Кондратий Панфилович Медведь сумел попасть в состав экспедиции только в качестве фотографа. В Ташкенте Медведю разъяснили, что для сбора фольклорных и бытовых материалов в Восточной Бухаре не созданы еще подходящие условия. Тогда ученый, вооружившись громоздким аппаратом, принялся фиксировать на фотопластинки всякого рода торжественные встречи, заседания.
Это не помешало Медведю за короткий срок собрать в Старой Бухаре большую коллекцию интересных для него материалов и снимков и заполнить множество тетрадей записями. Теперь, махнув на болезни, на бремя лет, он двинулся дальше к подножию Памира. Трудное имя и отчество ученого давалось лишь немногим, и все предпочитали обращаться к нему просто по фамилии. Ехал в Дюшамбе на время летних каникул молодой, шумливый и вспыльчивый комсомолец Джалалов, студент факультета общественных наук, устроившийся в экспедиции счетоводом и мечтавший о необычайных приключениях и подвигах. И много еще ехало на Восток в бывшие восточные вилойяты Бухарского ханства молодых, полных энтузиазма и сил советских работников, студентов, банковских служащих. Были среди них и такие, что думали только о заработках, но большая часть людей чувствовала себя пионерами социалистической культуры, пробирающимися в дебри огромной, еще недавно совсем недоступной страны. Их манили к себе романтические названия таинственных, мало известных городов – Бальджуан, Гиссар, Калаихулит, Кафирниган, – куда до революции проникали, да и то с трудом, лишь отдельные смелые путешественники.
То, что рассказал Ниязбек, поистине было удивительно.
На днях один из состоятельных жителей города Карата, Шарип–бай, объявил, что в ближайшее воскресенье будет пир по случаю бракосочетания его дочери. Сахибулла, заслуживший еще в эмирские времена славу самого громкоголосого глашатая города Карши, кричал без отдыха три дня на базаре о предстоящей свадьбе.
Вечером, накануне свадебного пиршества, улицы предместья огласили резкие звуки сурнаев. Медленно и важно проследовал сам жених по дороге, что вела от монастыря слепых к шахрисябзским воротам. На развалины старой зубчатой стены высыпали любопытствующие шумливые горожане. Толпа проводила свадебный кортеж до дома, где остановился жених, как говорили, весьма состоятельный мясоторговец.
Много было вечером в чайханах разговоров и пересудов, ибо со времени эмирата не видели такого пышного празднества. Старики хвалили Шарип–бая за то, что он разыскал в эти бурные времена для своей дочери столь солидного мужа, который, как видно, знает толк в дедовских обычаях и не скупится в расходах на семейные торжества. То обстоятельство, что жених уже далеко не первой молодости, мало интересовало досужих чайханных сплетников. На нелестные замечания юношей, робко сидевших на самом краю помоста у дверей, убеленные сединами старцы сурово отвечали: «Жена, обращающая внимание на наружность мужа, ослепнет». Молодые джигиты, проведавшие кое–что о нежной красоте шестнадцатилетней невесты и тайком вздыхавшие по ней, робко умолкали. Они хорошо знали уродливый порядок, обрекавший молодого неимущего мусульманина на длительное холостяцкое существование, лишавший его радости отцовства. Закон ислама бросал цветущих девушек в объятия немощных старцев, имевших капиталы, а следовательно, и возможность покупать канонизированное число жен. Молодежь покорялась безропотно. Была она в первые годы после Бухарской революции еще послушна велениям старших.
Откуда–то пошел слух: «А ведь жених не очень благополучен». Но что именно с ним – не говорили.
Празднество шло своим чередом, обильное угощение, на котором присутствовали все почтенные лица города Карши, длилось от восхода солнца до поздней ночи. Одного плова было съедено неимоверное количество.
Скрипучую арбу с невестой провожало целое шествие разряженных родственников и знакомых. Невеста, как подобает, плакала, из–под паранджи доносились жалобные всхлипывания. Но плач расценивался как проявление естественной скромности и стыдливости.
И, наконец, жених был отведен к невесте.
Шумел пир. Лоснились от бараньего сала лица обжирающихся жирными яствами гостей. Льнули ещё к окнам комнаты молодоженов, хихикая и подталкивая друг друга, женщины и девушки.
Как вдруг веселье оборвалось. Поднялась стрельба.
Потухли лампы, зачадили кем–то поспешно погашенные факелы. В неверном свете восходящей луны с воплями метались люди. По улочкам и переулкам с оглушительным топотом промчались всадники в буденовках.
Слухи, неясные намеки мгновенно облеклись в плоть и кровь. Почтенный жених – басмач. Более того – не рядовой бандит, а главарь крупной шайки, известный курбаши Кудрат–бий, самый опасный и могущественный из басмаческих вожаков байсунских гор.
Гости, многочисленные зеваки, слуги байского дома при первых же выстрелах бросились наутек. Милиционеры из недавно взятых на службу не обученных дехкан и бывших эмирских нукеров палили из берданок в темное усеянное звездами небо. Отряд красных кавалеристов поскакал в погоню…
Закончив немногословный рассказ, Ниязбек умолк и принялся за чаепитие.
Дверь скрипнула. Стремительно вошел человек в форме командира Красной Армии. Это был комбриг Кошуба, возвращавшийся из Ташкента в Восточную Бухару и принявший на себя начальствование над экспедицией. Через плечо у Кошубы на ремне переброшен карабин,
Все вскочили, улыбки разлились по лицам.
– Товарищ Кошуба!
Не отвечая на приветствия, Кошуба ступил вперед и проговорил:
– Неладное дело, ребята. Студентку нашу убили.
– Таню?!
– Татьяну Ивановну?!
– Танечку?!
Неподдельное горе слышалось в голосах. Танечка – студентка Восточного института, ехавшая с экспедицией в Восточную Бухару «на практику иранских наречий», как было у нее записано в путевке. Хохотушка Таня, добрая Таня, в которую все успели по–мальчишески влюбиться.
– Сейчас, во время перестрелки, она шла по улице, налетели всадники…
Так состоялось вступление экспедиции в Восточную Бухару.



