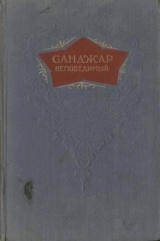
Текст книги "Санджар Непобедимый"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
– Это ваша затея? Кто вам позволил?
Санджар, повидимому, ничего не замечал. Он с простодушным любопытством взирал на толпу, на беснующихся дервишей, на чинары, на гигантские котлы. Весело переговариваясь с Джалаловым, он шел прямо к пирующим юношам, которые уже успели раздобыть блюдо с дымящимся пловом и делали Санджару гостеприимные знаки.
Ничто не показывало, что Санджар встревожен и даже напуган, хотя впоследствии он признавался: «Я знал, что надо немедленно бежать, бежать к лошадям и скакать во весь опор, спасая свою жизнь, свою душу! Я сразу увидел, что попался в вырытую нам яму. Но я думал только об одном – кто же предатель…»
Он узнал об опасности не здесь на дворе, где происходил зикр, а раньше. Едва Санджар вошел в коридор с нишами чильтанов, как к нему подскочил анашист байбача и загнусавил:
– О пастух, вот ниша чильтана, покровителя пастухов. Дай мне худой и убирайся из нашего святого места.
Он не побежал предупреждать Гияс–ходжу и тогда, когда Санджар, сунув ему несколько монет, вошел во двор ханаки. Тут поднялся карнайчи и, подойдя к командиру, пробормотал в полной растеряньости:
– Санджар–ака, зачем вы здесь, не ходите на пир, не ходите!
Командир похлопал его по плечу и засмеялся:
– Ну, Надир–карнайчи, если там пир, то и я там. А ты дуй в свой карнай. Да поскорее начинай!
Уже тогда Санджар сообразил, что посещение мазара Хызра–пайгамбара может кончиться трагически. Но он не повернул назад, а бросил как бы вскользь:
– Ну, товарищи! Молитва, кажется, будет очень крепкой.
Вид беснующейся толпы убедил его, что здесь оставаться опасно.
Но и тут он не захотел отступать.
Санджар шел к веселым юношам и улыбался.
В этот момент вой, рев и выкрики «ху! ху!» оборвались и воцарилась тревожная тишина. Прозвучал резкий голос:
– Правоверные! Имейте страх божий в самом сердце вашем, пусть страх руководит вашими поступками! Дервиши! Люди! Я спрашиваю, что надо сделать с поклоняющимися вере Карахана, то надо сделать с признающими Лата, верящими в Маката, молящимися золотому тельцу? О, мусульмане, что мы сделаем с затесавшимся в наше моление поклонником солнца, огня и четырех серебряных идолов. Сюда! Вот он, чтящий медного пророка, святых из железа, идолопоклонник проклятый…
Раздвигая толпу, прямо на Санджара шел Гияс–ходжа, обличающе протянув руки и кликушески выкрикивая угрожающие слова. Молча, хрипло дыша, шли за ним бледные, потные, с судорожно искаженными лицами фанатики, прервавшие зикр. Они шарили глазами, подбирали с земли камни, комья глины, палки.
Тогда Санджар быстро сказал, обращаясь к вскочившим на ноги и сразу ставшим очень серьезными юношам в богатых халатах:
– Ну, как, где у вас винтовки?
– Здесь.
– Будьте наготове.
Он сделал шаг вперед. Лицо его было мертвенно–бледно.
…Отчаянно взревели карнаи, тонко запели сурнаи, оглушительно забили барабаны.
Около котлов с пловом запрыгали поварские помощники, звонко застучали ложками о подносы и, перекрывая шум, завопили:
– Готов, готов, плов готов!
Между группой Санджара и толпой фанатиков побежали вереницей прислужники с высоко поднятыми блюдами янтарного пахучего плова, направляясь к разостланным в тенистых местах на кошмах и циновках длинным скатертям. Подавальщики нараспев кричали:
– Готово! Готово! Просим! Просим!
Десятки мальчишек с кувшинами и полотенцами в руках рассыпались в толпе и, приветствуя правоверных, предлагали им омыть руки перед трапезой.
А среди прислужников ковылял со своим посохом Ползун и, расточая любезности, лично приглашал наиболее почетных гостей отведать угощение.
И голодная, алчущая толпа ринулась к блюдам плова, увлекая отбивающегося Гияс–ходжу. Он очутился рядом с Ползуном и, брызгая слюной, крикнул;
– Кто распорядился подавать плов?
Презрительно взглянув на его потемневшее, искаженное лицо, Ползун ответил:
– Потом поговорим. Идите, кушайте.
Сам он, давая знаки слугам, запрыгал к возвышению, около которого стоял Санджар. Мгновенно была постлана скатерть. Появилось все, что полагается в таких случаях. Сам Ползун усадил Санджара и Курбана и, изобразив подобие улыбки, начал угощать дорогих гостей.
Он закатал длинный рукав халата и протянул руку, чтобы взять горсть рису. Глаза его встретились с остановившимся взглядом Санджара, устремленным на его руку, где была вытатуирована арабская надпись.
Еще не оформившееся воспоминание мелькнуло в мозгу командира. Где и когда он видел нечто подобное? Где же? Он не вытерпел:
– Домулла! Простите неприличие вопроса: что у вас написано на руке?
Ползун усмехнулся:
– Глупость молодости… А написано: «Нарушитель обета прогневит его!»
– Какого обета? – поинтересовался Курбан. Ползун ответил уклончиво.
– Вообще обета…
Угощение было в полном разгаре. Горы плова исчезали на глазах. Но недаром ишан мавзолея Хызра–пайгамбара славился своим широким гостеприимством. Слуги несли все новые и новые блюда, и каждый мог насытиться вволю. С завидным аппетитом ел и Санджар. Но в то же время он напряженно думал: где же он видел надпись? Но так и не припомнил.
После ужина ишан пригласил к себе Санджара.
– Ты смелый воин, – сказал ему старец, – но ты сошел с пути, предначертанного отцами и дедами. Кто становится на новый путь, того ждут суровые испытания, сын мой.
Посмотрев на окружавших ишана прихлебателей, мюридов, слуг, Санджар упрямо тряхнул головой:
– Отец мой, о каких отцах и дедах говорите вы, о каком предначертанном пути говорите вы мне? Если те отцы и деды были эмиры, хакимы, помещики, – народу не по пути с ними. Если те отцы и деды – дехкане и пастухи, то народ идет по их пути, и я с ними…
Пир ужаснулся:
– Но где же найдешь ты, сын мой, всеблагую мудрость и благочестивое наставничество? Среди грубых пастухов, среди невежественных пахарей? Только мужи, преисполненные святыми изречениями пророка нашего, стоят в твердыне истины.
Санджар ответил резче, чем позволяли приличия и тревожная обстановка:
– Пусть… Пусть отец мой, пусть дед мой были неграмотны и невежественны. Пусть уступали они знаниями даже ничтожнейшему ишану и имаму, пусть. Но у народа нашего, у простого народа есть мудрейшие из мудрейших, светлейшие из светлейших, отцы, которые нас учат и направляют в наших поступках…
– О ком ты говоришь, сын мой? Речь твоя неясна и непонятна.
– Вы отлично знаете, мой пир, о ком я говорю. Только язык ваш не решается шевельнуться, чтобы произнести их имена и смутить покой вот их, этих ничтожных лизоблюдов. – Не обращая внимания на злобный шепот окружающих, Санджар закончил: – Кто они наши отцы? Имена их будут жить в народе вечно. Это они сделали нас людьми, это они помогли нам прозреть, это они дали нам счастье и радость.
– Я не знаю их имен, сын мой, – слабым голосом проговорил пир и, опустив голову, зашевелил губами.
– Ленин – имя его, Сталин – имя его! – сказал Санджар.
Вздох смятения пронесся по комнате.
После долгого молчания старец с трудом поднялся. Его свита замерла, ожидая знака.
Санджар тоже встал с места. Его лицо стало суровым и мрачным.
Тогда пир сказал:
– Ты святотатствуешь, сын мой. Как может быть отцом и наставником мусульманина неверный кафир? Мусульманский народ не пойдет по пути нечестия. Берегись!..
– Мой пир! Не запугать вам народ такими словами. Тысячу лет его морили голодом, заставляли слизывать грязь с сапогов беков и ханов, предавали мучительной смерти, и во имя чего?.. – Он горько усмехнулся. – Нет, Санджар–пастух не пойдет больше по пути горя и рабства, предписанного мусульманскими мужами мудрости из
Мекки. Нет, путь Санджара–пастуха – это путь Москвы, путь Ленина и Сталина.
Он поклонился пиру и пошел к двери, высоко подняв голову и не глядя ни на кого.
Все собравшиеся в комнате молниеносно расступились перед ним. «Их как ветром сдуло», – рассказывал потом Курбан.
Уже переступая порог, Санджар услышал за собой голос пира.
– Горе нам! Он – большевик… Горе! Яд большевизма проник в сердца правоверных…
Ползун проводил Санджара и его спутников через двор ханаки, по коридору чильтанов, священной роще, и только тогда вернулся обратно. Пиршество продолжалось. Подошел слуга и почтительно доложил, что ишан зовет к себе его и Гияс–ходжу. Когда они вошли в келью, старец спросил:
– Кто привел сюда воина?
Гияс–ходжа низко опустил голову и еле выдавил из себя:
– Мы с Ниязбеком решили: так будет хорошо. Он ищет денауского хакима. Мы подослали человека сказать, что он здесь.
– Зачем?
Едва заметным движением руки Гияс показал, какая участь готовилась Санджару.
– Почему вы не посоветовались с нами?
– Мы думали…
Тогда вмешался Ползун. Говорил он холодно, но голос его дрожал от ярости:
– Неужели вы думали, Гияс, что мы допустим это? Как можно допустить, чтобы разрушили ханаку и мазар Хыра–пайгамбара, последний оплот ислама в Гиссаре?
– Но…
– Если бы с Санджаром что–нибудь случилось, разве его молодцы не разнесли бы и мазар и ханаку по камешкам, а?
– Он прав, – прохрипел старец. – Он прав, здесь нельзя было. – Его голос вдруг сорвался в визг: – Вы, вы ничтожества, вы ослы… Вы допускаете, чтобы такой человек шлялся по миру, оскверняя своим дыханием нечестия и богохульства мусульманскую Бухару. Он сто тысяч раз опаснее, этот молокосос, чем все русские–кафиры.
Он, ничтожный, стал дверью для заразы большевизма, дверью в народ. Он – ужасный и гибельный пример… Убрать его… Скорее, завтра… я приказываю… Смерть… Смерть… Спешите, а то поздно… Убейте его… Приказываю…
Старец забился в припадке.
А Санджар, покачиваясь в седле, все думал: «Где же я видел такую надпись, на чьей руке?»
Внезапно он встрепенулся. В темноте на дороге послышался топот многих коней. Курбан, следовавший поодаль, подъехал ближе.
– Кто идет? – крикнул Санджар.
– Мы идем, поступью барса, – ответил чей–то голос.
Тогда командир остановил коня и резко сказал:
– Вы джигиты, а ведете себя, как дети. Я послал вас в мазар совсем не для того, чтобы вы там пили водку, да еще во время зикра.
– Но это была военная хитрость, – простодушно возразил один из джигитов. – Дервиши и всякие ишаны подумали: «Это мюриды из басмачей, опьяневшие от близости к аллаху». А мы знали, что было очень опасно. Вот и придумали: ведь ангел смерти Азраил – правоверный мусульманин, коему вино запрещено. Ну, он и не захотел бы прилететь и оскверниться общением с нами. А потом… ведь нельзя же спокойно смотреть на этих дервишей. Они кричали и ревели, как быки, завидевшие корову. Недаром у нас есть пословица: «Пир – корова, мюриды – быки».
И он хихикнул, очень довольный своей шуткой.
VIII
«Живописная альпийская природа, патриархальные пастушеские нравы, тонкие красивые лица, цветущее здоровье аборигенов, – вот что характеризует эту, открывшуюся перед изумленными пионерами культуры, счастливую горную страну…»
Николай Николаевич перевернул измятую страницу книги, посмотрел на обложку и снова прочитал, уже про себя, о пионерах, цветущем здоровье и патриархальных нравах. Затем он обвел глазами невзрачную, слепленную из грубо отесанных кусков гранита, вросшую в скалу клетушку – обычное жилище горца – почти отвесно уходящий ввысь оголенный склон горы, начинающейся прямо со двора, и хаотическое нагромождение пиков и зубчатых вершин под ногами. Кругом камни и скалы – угрюмые, неприветливые. Взгляд его задержался на пожилом горце, зябко кутавшемся в халат, вернее на его руках, покрытых толстым слоем коросты.
– Интересно, что сказал бы этот писака, нацарапавший в угоду своим высоким покровителям вот эти самые мармеладные строчки, очутись он лицом к лицу вот с этаким дядей, которого разъедает чесотка, сифилис и черт его знает еще что? Что бы он сочинил, этот царский холуй, о «счастливой стране»? Не беспокойтесь, – усмехнулся Николай Николаевич, заметив смущение на лицах собеседников, – он по–русски ничего не понимает. Так вот представьте… кстати, его именуют Наджметдином… какой конфуз у меня с ним получился вчера. После неисчислимых изъявлений благодарности он взял у меня лекарства и отправился… Куда бы вы думали? Прямехонько в мечеть к имаму, который занимается по совместительству врачеванием. И заметьте: гонорар, уплаченный табибу – николаевский серебряный рубль и две курочки. Мне же он хотел презентовать десяток яиц. Так котируется в сем тихом селении знахарства и современная, передовая научная медицина. Ты зачем опять пришел?
Последний вопрос относился к горцу в рваном халате. Тот живо поднялся на ноги и, отвесив почтительный поклон, проговорил:
– Помогите, доктор. Надо лекарство, много лекарства.
– Не буду я тебя лечить. Пусть тебя лечит имам. Горец поклонился еще ниже:
– Ой, господин доктор. Не меня нужно лечить, жена у меня умирает.
– Что с ней? – встревожился Николай Николаевич.
– Бог знает. Только недавно я женился на ней…
– Недавно женился? – вырвалось у доктора. – А сколько лет ей, твоей жене?
Горец с достоинством выпрямился.
– Не знаю. К тому же спрашивать о возрасте жены постороннему мужчине се подобает.
– И кафиру вдобавок, – добавил Николай Николаевич. – Понятно. Но как же я, кафир, буду лечить твою жену? Ты же не позволишь мне взглянуть на нее…
– Она протянет тебе руку, и ты по руке определишь болезнь.
– Тэ–тэ–тэ! Номер не пройдет. – Николай Николаевич опустился на камень.
– Ей очень плохо, – забеспокоился горец. – Она умирает. Хорошая жена. Молодая…
Он сел на землю и начал картинно всхлипывать.
– Так вот: прежде чем лечить, я должен буду посмотреть больную. Понятно?
Горец медленно соображал. Затем он поднялся на ноги и проскрипел:
– Ты можешь ее смотреть всю, но лицо она тебе не откроет.
– Хорошо, идем, – сказал доктор, снимая с седла хурджун, где лежал его чемоданчик с хирургическими инструментами. – А вы, товарищи, – обратился он к бойцам, – скажите командиру, когда он придет, где я…
Прошел час, другой, а доктор не возвращался.
Хотели уже идти на поиски, когда прибежала девочка и стала о чем–то шептаться с хозяйкой дома – маленькой добродушной старушкой.
Та долго качала головой, расспрашивала и, наконец, сказала:
– Русский табиб лечит жену Наджметдина. Табиб хочет разрезать живот женщине. Он сказал, что если не разрежет живот, то она умрет в страшных муках к утру. Русский табиб говорит, что если сделать так, как он говорит, то, во славу аллаха, она будет жить. Пойду посмотрю своими старыми глазами, что там такое.
Старушка ушла, а через несколько минут по дороге, проходившей над самым обрывом, промчались во весь опор несколько всадников, и почти тотчас во дворе появился Кошуба.
Командир был взволнован.
– По коням! – отрывисто бросил он.
И вдруг заметил отсутствие Николая Николаевича.
– А где этот оглашенный доктор? Опять ушел в горы цветочки собирать? Когда он к порядку приучится!
Кошуба сразу же забеспокоился, потому что Николай Николаевич был «гражданским лицом» и в горы с отрядом поехал по собственному желанию «для врачебной практики».
Кошубе объяснили, что доктор ушел к тяжело больной. Спешно, пока шли сборы, послали за Николаем Николаевичем. Посыльный вернулся почти тотчас же.
– Что? Записка?! – закричал Кошуба. – А ну, давай–ка записку. Черт! «Ехать не могу, приступил к операции. Перитонит. Больная очень плоха». Он с ума сошел… Идем!
Около ворот дома Наджметдина толпились женщины. На зов командира в дверях появился хозяин.
– Где русский табиб? – спросил Кошуба. – Позовите его сюда.
Горец ушел. Минуту спустя он вышел снова.
– Он говорит, что не может.
Кошуба стремительным шагом направился к двери, но хозяин преградил ему дорогу:
– Не ходи, командир! Только доктор может видеть мою жену, лишенную покрова. Ты не должен входить.
Кошуба торопливо раскрыл планшет и написал на клочке бумаги несколько слов.
– Отдай ему, скорее.
Он вернулся к воротам и тихо сказал вестовому:
– Скачи к околице, там, около большой мечети с белым камнем, наши люди. Скажи, пусть держат дорогу.
Ни на шаг назад не отходят. Понятно? Вестовой ускакал.
– Все планы этот доктор спутал, – пробормотал сквозь зубы Кошуба. – А, наконец–то…
Но готовая вырваться брань замерла на его губах при взгляде на Николая Николаевича. Доктор был мертвенно бледен. Руки его и рукава халата были в крови. Усталым, каким–то пустым голосом он спросил:
– Зачем вы отрываете меня от дела? Больная очень слаба.
– Мы уходим, – вполголоса сказал Кошуба. – Через двадцать минут здесь будут басмачи.
– Я читал вашу записку.
– Так едем же!
– Не могу.
– Поймите: вы срываете крупную операцию. Здесь будет сам Кудрат–бий. Мы завлекли его в ловушку…
– Не могу. Если я уеду, она умрет.
В голосе Кошубы зазвучала мольба:
– Но они вас растерзают…
– Я остаюсь, – равнодушно проговорил Николай Николаевич и повернулся к двери.
Кошуба схватил его за руку повыше локтя. Доктор, гневно сказал:
– Уберите руки! Вы внесете инфекцию.
Он исчез в темном провале двери. Перед Кошубой вырос вестовой:
– На дороге басмачи…
Будто в подтверждение его слов, где–то близко раздались выстрелы. Женщины, стоявшие у ворот, в страха разбежались.
– Скачи, – сказал быстро Кошуба. – Скажи нашим, чтобы немедленно выбирались из кишлака.
Затем он обратился к почтенным бородачам, сидевшим в углу двора на паласе и бесстрастно глядевшим на происходящее.
– Старейшины, может моя душа быть спокойна за русского табиба?
Плотный, невысокий старик, с мрачно горевшими глазами, угрюмо сказал:
– Туварищ, где и когда ты слышал о неблагодарности жителей гор? Даже слово такое нам неизвестно. Русский табиб ради доброго дела забыл о своей жизни. Тот, кто сделал добро бедному таджику, становится его единоутробным братом. Поезжай спокойно, командир, и займись своими важными делами на пользу народа…
– О–омин! – сказали другие старейшины и провели руками по бородам.
Через минуту отряд Кошубы скакал по головоломным кручам, как будто за ним гнались тысячи горных джинов.
А Николай Николаевич остался.
Кошубе казалось, что он совершил подлость, оставив самоотверженного врача на верную гибель. И даже большой успех операции не радовал Кошубу. Басмачам пришлось туго. Уверенные в том, что сам легендарный комбриг попал в их лапы, они кинулись, очертя голову, в расставленную им ловушку и спустя несколько дней были истреблены почти поголовно. К сожалению, в шайке на этот раз не было самого Кудрат–бия. Он уехал на богомолье.
IX
Когда отряд Санджара выехал на большую дорогу, навстречу стали попадаться толпы разряженных людей. Полосатые, ярко красные, зеленые, голубые халаты, пестрые поясные платки, белые, пунцовые, синие с блестками чалмы, – у одних маленькие, у других огромные, с добрую папаху, – все, что одевалось только в дни особых праздников, было извлечено из обитых цветной медью сундуков.
С удивлением Санджар и его воины смотрели на оживление, царившее на подступах к городу Каратагу. За годы жестокой басмаческой войны глаз отвык от нежных красок шелков и бархата. Суровые дни одевали людей в темные тона; дехкане, боясь грабителей, скрывали свои достатки.
Пыля, скакали от толпы к толпе расторопные гонцы. Бежали люди с кетменями, равняли дорогу, поливали водой…
Бойцы Санджара сидели на изнуренных горными тропами и злыми перевалами конях.
Сегодня утром у селения Казакбаши произошла короткая, но жестокая стычка с бандой помощника Кудрат–бия – Садыка безглазого.
Посеревшие от пыли лица бойцов были безразличны, тяжелые веки смыкались от усталости.
Старый Мадали, раненый у Казакбаши, стонал, покачиваясь в седле, и пытался сорвать заскорузлую, почерневшую повязку со лба. Поддерживая с двух сторон, везли верхом испытанного воина Салиха–Наби, бойца из кермининского коммунистического отряда. Удар сабли рассек ему плечо. Раненый бредил прохладными садами своей родины, сочными сахарными дынями и голубизной далеких гор. Временами отрывистые фразы вырывались из его груди, мешаясь с тяжелым хрипом:
– Воды… воды… Прозрачная, ледяная… Дай мне своими белыми ручками пиалу… Браслеты, серебряные браслеты… напои меня своими губами…
Два молодых конника, поддерживавшие раненого, отворачивались, пряча слезы, оставлявшие грязные дорожки на загорелых щеках.
У других бойцов головы были повязаны окровавленными тряпками. Вели на поводу коней без всадников. Жаркую схватку пришлось выдержать отряду Санджара. Головорезы Садыка безглазого дорого продали жизнь.
Медленно шевеля ссохшимися, обветренными губами, Санджар спросил спешившего куда–то встречного человека.
Что за праздник сегодня?
Сумрачное лицо дехканина противоречило его праздничному наряду. Он с недоверием оглядел Санджара, его кожаную порыжевшую куртку, перекрещивающиеся на груди пулеметные ленты с патронами.
– Неужели не знаешь, зачем нас пригнали сюда? Великий назир едет. Великий назир.
Санджар переспросил.
– Великий назир? Какой назир?
– Едет, едет. Приказал надеть шелк и бархат. Ха, шелк и бархат!
Он отвернулся и зашагал прочь.
У селения толпы дехкан стали гуще. Народ стоял вдоль дороги, многие сидели на обочинах. Лица у всех были усталые, злые. Но санджаровский отряд встречали приветствиями, добрыми пожеланиями. Мальчишки бежали вприпрыжку, восхищаясь винтовками, серебряными ножнами сабель, боевыми конями.
Под большими вязами в двух шагах от старенькой покосившейся мечети, из скалы вырывалась прозрачная струя ключевой воды. Лошади, фыркая и храпя, кинулись к желобу. Произошло замешательство. Спешившиеся бойцы зачерпывали воду тюбетейками и с наслаждением тянули ледяную влагу. Раненым смачивали горячие, набухшие кровью повязки. Из калитки мечети вышел слепой старец в белой чалме, с длинным посохом. Протянув руки, он пошел навстречу бойцам, громко говоря:
– Здравствуй, храбрый богатырь Санджар–справедливый! Много лет жизни тебе, защитник сирот и вдов.
Он обнял Санджара.
– Зайдите к нам! Здесь ожидает вас тень и уют, облегчение от забот… Ахмед, Закир, несите пиалы, напоите воинов.
Слепец распоряжался быстро и умело. Принесли хлеб. Сбежались дехкане, дорогу запрудили любопытные.
Внезапно за поворотом послышались резкие крики.
– Берегись! Пошел! Пошел!
Звуки ударов, брань, проклятия повисли в воздухе.
– Дорогу, дорогу, очистить дорогу! Где старшины? – вопили охрипшие голоса. – Дорогу! А, чтоб вас!
Люди, собравшиеся у источника, шарахнулись в стороны и вытянулись рядами вдоль дороги.
Всадники в новенькой полувоенной одежде, на прекрасных откормленных конях, размахивая длинными плетьми, ворвались на площадку, где расположились воины Санджара.
– Дорогу! Дорогу! Очистите дорогу!
Всадники вертелись на месте, подымая на дыбы коней, и напирали на отдыхающих бойцов.
Из селения навстречу глашатаям торопливо шли баи в великолепных халатах, перепоясанных широкими бархатными с серебром поясами, с саблями в разукрашенных ножнах. Они подгоняли дехкан, расстилавших прямо в пыль ковры, красные локайские кошмы и шелковые блестящие сюзане, развертывавших целые штуки шелка, ситца, тика. За взрослыми бежали девочки, разбрасывая по устланной коврами дороге полевые цветы. Все спешили. Распоряжался встречей роскошно одетый, могучего телосложения пожилой бай.
Увидев Санджара, он бессмысленными глазами уставился на него и тупо закричал:
– Кто таков? Отойди!
И побежал вперед. Он проявлял, несмотря на свой огромный вес, такую прыть и исчез так быстро, что Санджар, уже побледневший от душившей его злобы, не успел даже раскрыть рта.
Глашатаи с криками и ругательствами проскакали мимо, в кишлак.
На смену им появилась пышная группа всадников. Они были одеты в отличные суконные синие и зеленые казакины, в белые индийские чалмы. У всех за плечами на новеньких желтых ремнях висели карабины. Сбруя на лошадях сверкала серебром. Впереди, важно подбоченившись, ехал на танцующем жеребце седоватый рыжий сотник. Голову его венчала огромная чалма. Оружие и амуниция блестели особенно ярко, шерсть вороного коня лоснилась.
Увидев воинов Санджара, сотник завопил:
– Кто такие? В чем дело? Где начальник?
Неторопливо цедя слова сквозь зубы, Санджар спросил:
– А ты кто такой, фазаний петух? Ты чего орешь?
Но рыжего было трудно смутить.
– Почему обмундирование в грязи, где парадные одежды?
Стараясь перекричать его, Санджар заорал:
– Мы из боя, только вышли из боя.
– Что мне за дело? Тогда сойдите с дороги в сторону.
– Да убирайся…
Послышался мягкий усталый голос:
– Что случилось?
Всадники раздвинулись и на площадку выехал великий назир, министр Бухарской республики.
Это был женственный, изящный юноша с красивым, совсем еще безбородым лицом. Он сидел в золотом седле, небрежно опираясь украшенной драгоценными перстнями рукой о колено. На голове его была шелковая чалма, вся осыпанная самоцветами. Плечи назира прикрывал халат изумительной расцветки: розовато–телесные цвета чередовались с золотистыми, переходящими в тончайшие сиреневые. Только у колибри можно найти такое сочетание красок.
Конь чистейших кровей нес этот букет одежд, благоухавший на десяток шагов ароматами изысканных духов.
Двое юношей вели коня под уздцы. За назиром, шелестя шелками, бряцая дорогой сбруей, плыла в облаке золотистой пыли многочисленная свита, столь же пышно одетая.
Великий назир столкнулся лицом к лицу с Санджаром, стоявшим на дороге. Взгляд командира был отнюдь не приветлив, и рука, в которой он держал плеть, резко подергивалась.
Вид Санджара, как и всех его бойцов, был так неуместен в этой пышной процессии, что назир растерянно натянул повод, и конь, кося белками глаз, фыркая и храпя, начал рыть землю копытом.
– Кто это? – слегка шепелявя, тревожно спросил, ища глазами кого–то в толпе приближенных, великий назир.
Тронув коня и приблизясь на несколько шагов, худощавый сотник почтительно промолвил:
– Что угодно, таксыр?
– Кто он? Вот этот? – и назир небрежно ткнул мастерски выточенной ручкой камчи в лицо Санджара.
– Кто он? Кто ты? – закричал сотник. – Отвечай великому назиру Бухарской Республики… Ну!
Санджар мрачно шагнул вперед. Губы его перекосились от бешенства, мелкая дрожь пронизывала тело. Говорить он не мог; туман застилал сознание.
Что только не передумал он в этот момент?.. Измученные израненные бойцы, умирающие товарищи, а тут же рядом эта парадная роскошь, этот блеск двора восточного князька. Неужели это народный избранник? Эта кукла, нарядившаяся в байские одежды? Кто выдумал это подражание торжественным выездам средневековых восточных тиранов?
Но пока Санджар соображал, как порезче и пояснее высказать свою мысль, высокий черный человек с великолепной бородой скороговоркой пробормотал, опасливо поглядывая на Санджара:
– О, это наши мужественные добровольцы… Кажется, командир их, Санджар–бек из Вабкента. Участвовали, по–видимому, в бою.
– А, хорошо, хорошо. – Назир, успокоенный, благосклонно эакивал головой. – Вы сражались сегодня? Благодарю, славные воины, благодарю от имени республики.
Он пристально взглянул на Санджара. Взоры их скрестились. И тут Санджар с удивлением обнаружил, что изящный юноша имеет свинцовый, неприязненный взгляд, полный глубокой затаенной злобы. Губы юноши улыбались, а взгляд пронизывал, уничтожал…
Впоследствии Санджару вспомнился этот взгляд, и только тогда ему все стало ясно, тогда только он понял, какую подлую роль играл великий назир в те дни, и посмеялся над своей простотой и наивностью.
Блудливо опустились тяжелые веки, обрамленные девичьими ресницами. Великий назир, отвернувшись, протянул:
– Товарищ военный назир, примите командира, ну, сегодня вечерком и доложите мне… Если отличились, наградим.
Он протянул руку. Но так как этот жест был похож на приглашение вельможи приложиться к руке, Санджар не двинулся с места. Снова глаза их встретились. Великий назир запоминал. Санджар пытливо знакомился.
Досадливо морщась, назир сказал, тихо, но так, чтоб слышал и Санджар:
– Почему они такие оборванные? Встречают… э… не в параде.
У этого источника, у этой старой замшелой мечети Санджар получил серьезный урок политической мудрости. Оказалось, что даже великие военные подвиги, беззаветное мужество, самопожертвование, пролитая за свободу народа горячая кровь могут быть не замечены. Можно, оказывается, видеть тяжелые кровавые раны, свежие рубцы, изможденные, опаленные порохом лица, несмываемые следы скитаний по горам и пустыням и намеренно равнодушно пройти мимо всего этого. Такое отношение к людям, жертвующим жизнью ради великого дела, может быть порождено только смертельной враждой. Но почему же великий назир мог питать к Санджару и его бойцам ненависть?
Немало времени понадобилось, прежде чем подлый путь предательства интересов трудящихся привел назира к логическому жалкому концу.
То, что Санджар увидел дальше, повергло его в еще большее удивление.
Пышная кавалькада не проехала и несколько шагов, как навстречу великому назиру из кишлака вышла делегация почетных старейшин – аксакалов. Все это были глубокие старики. Опираясь на суковатые палки, по–стариковски семеня ногами, они несли подарки и возглашали приветствия могущественному. Они рысцой подбегали к назиру и целовали, униженно и подобострастно, кончик его сапога.
И Санджар увидел, что великий назир не только не попытался прекратить эту безобразную сцену, а напротив, поудобнее вытянув ногу для поцелуев, самодовольно поглядывал на окружающих. Столь же благосклонно он выслушал напыщенную речь старосты кишлака и принял дары.
Сам он не нашел нужным ничего сказать. Слабым жестом он поманил кого–то к себе из обступившей его свиты.
Санджар не поверил своим глазам: то был Гияс–ходжа.
На белом коне, в белоснежном одеянии мутавалли выехал вперед. Речь его была похожа на проповедь с минбара в мечети, хотя у Гияс–ходжи хватило такта на приводить ни одной цитаты из корана.
Кавалькада тронулась вперед и потонула в облака пыли.
Снова появился рыжий сотник. Он с яростью накинулся на старейшин, на дехкан:
– Плохо встретили, возмутительно встретили! Их высочество обиделось на вас за то, что пришлось вдыхать пыль. Эй вы, шакалы, собирайте ковры, сюзане! Марш бегом вперед, грузите на арбы… Нам еще сколько встреч надо устраивать.
Сотник хлестнул лошадь и ускакал.
К Санджару подошел пожилой дехканин.
– Сынок, я не понял, что говорил мулла в белом. Не скажешь ли ты? Когда нам, батракам и беднякам, великий назир даст землю? Земли бы нам…
Вопрос не застал Санджара врасплох. Вопрос о земле он слышал повсюду: и в каменистой долине Сурхана, и в горных ущельях Гиссара, и на холмах Локайского Бабатага, и в Миршадинской степи… Всюду дехкане спрашивали, затаив дыхание, когда же наступит долгожданный счастливый день, когда начнут раздавать байские земли.
– Землю, – сказал Санджар, – вы получите и очень скоро. Только… – Он хотел сказать: «Только вряд ли вы получите ее от великого назира», но сдержался и проговорил: – Советская власть, большевики дадут вам землю.



