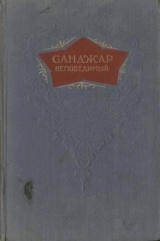
Текст книги "Санджар Непобедимый"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Хозяин шумно вздохнул и раскрыл было рот, но Гияс–ходжа поджал губы и кашлянул.
– Вы поедете со мной в безопасное место. Оттуда Сайд Ахмад доставит вас родителям и будет свататься, как подобает. Он почтенный человек и воспылал желанием жениться, как и надлежит доброму мусульманину, заботящемуся о продлении своего рода.
– Нет, – заговорила Саодат, – он схватил нас, как рабынь, он срывал с нас одежды, обнажая стыд, я не поеду с ним. Верните нас родителям, домулла, мы свободные девушки.
И так горячо говорила она, что Гияс–ходжа чувствовал сквозь сетку из конского волоса огонь ее глаз и сам он искал этого взгляда и проклинал завесу, натянутую исламом на лицо девушки. Впервые в жизни красноречие оставило ученого богослова и доводы его потеряли всякую логичность.
Норгуль и Саодат плакали под чачванами.
– Пусть хозяин уйдет. Он не смеет… не смеет приближаться к нам.
Ненависть звучала в словах Саодат. Норгуль робко вторила ей.
– Молчите, девки! – закричал вдруг Сайд Ахмад и шагнул вперед. Девушки вскрикнули и забились в угол.
Гияс–ходжа со страхом оглянулся на дверь, боясь, что шум разбудит Бадреддина, того самого Бадреддина, который, по рассказам, в своем имении близ Гиждувана «осчастливливал» своим вниманием каждую десятилетнюю девочку.
Повернувшись к Сайд Ахмаду, он злобно прошептал:
– Тише, дурной вы человек, уходите!
Ему пришлось выпроводить из комнаты Сайд Ахмада. Тогда уговоры возымели действие. Девушки согласились ехать. Да и что им оставалось делать? Этот благообразный, с тихой вкрадчивой речью, почтенный человек, благочестиво опускавший глаза и перебиравший четки, так непохож был на разнузданного скотовода, грубого и беспутного дикаря – их похитителя. Гияс–ходжа казался им избавителем от всех горестей и страшных бед, нависших над их беззащитными головами.
Ворота, чуть скрипнув, распахнулись, и темная осенняя ночь поглотила небольшой караван. В степи много дорог…
II
Много дорог в каршинских степях. И следы подков не держатся в пыли, так как здесь буйствуют, особенно осенью, сильные ветры…
С трудом дождался Сайд Ахмад отъезда Бадреддина. Еще не скрылись на краю степи черные фигуры всадников, а уж из ворот выезжала кавалькада во главе с самим помещиком. В десяти шагах от высоких стен степного поместья дорога разветвлялась. Куда ехать? Куда богослов повез девушек? Хуже всего – скотовод забыл спросить, в какое из селений Кассанского тюменя он поедет. А степь широка. И тропы идут отсюда на все стороны света.
Сайд Ахмад погнал коня по дороге в Кассан. Он обрадовался, когда, много часов спустя, увидел Гияс–ходжу, сидящего в большой базарной чайхане в кругу самых уважаемых и почтенных людей города. Спрыгнув с коня, степняк зашагал к своему недавнему гостю. Шумно поздоровавшись с ним, он развязно опустился рядом на ковер. Гияс–ходжа мельком взглянул на помещика и, удостоив его кратким приветствием продолжал рассказывать присутствующим о тонкостях толкования восьмой суры книги книг – корана.
Сайд Ахмаду стало не по себе. Он громко потребовал чайник чаю и невежливо дернул за рукав Гияс–ходжу:
– Мне нужно поговорить с вами!
Но Гияс–ходжа ровным голосом продолжал беседу, словно не замечая скотовода. Тогда тот, вспылив, проворчал:
– Ну, как дела?
На него зашикали, зашумели. Несколько человек вскочили, чтобы выгнать грубияна из чайханы. Но Гияс–ходжа остановил их:
– Не надо… Сейчас мы поговорим с этим самонадеянным царем бараньих стад.
Обернувшись к Сайд Ахмаду, ученый заговорил с пренебрежением:
– Живя в хлевах и кошарах, вы привыкли, видно, беседовать с козлами да баранами и, увы, даже попав в общество людей почтеннных, не в состоянии выдавить из своего горла ничего, кроме «бэ» да «мэ». Вы, Сайд Ахмад, идете по пути невежества и дикости, и нам не подобает вступать с вами в разговоры.
Ошеломленный помещик молчал. Он все ждал удобного момента, чтобы спросить о девушках. Наконец, когда споры поутихли, он чуть слышно задал вопрос, мучивший его всю дорогу:
– Куда вы упрятали их? Все благополучно? На лице Гияс–ходжи изобразилось недоумение.
– Упрятали? Кого? Что случилось, о чем говорит этот человек? – повышая голос, заговорил он.
– Ну, те самые. Саодат и другая, которых вы видели ночью в дыру, в стене…
– Я? Видел? О чем вы говорите? – Богослов добавил сокрушенным тоном: – Посмотрите как разврат захватывает в свои лапы даже достойных людей… Он пьян.
Сайд Ахмад отлично знал, чем грозит такое обвинение, и поспешил уйти.
Когда позже, при свете фонаря, Гияс–ходжа направился в конюшню проведать, как готовятся его слуги к дальнейшему пути, он встретился снова лицом к лицу с Сайд Ахмадом.
– Почему вы со мной не разговариваете, – петушился скотовод, – где девушки?
– О чем вы говорите? Какие девушки?
– Бросьте шутить!
– Я вас не понимаю. О каких девушках вы говорите? Моему сану не подобает такие… такой тон. Позвольте вам заметить, отсутствие почтения к высоким особам до добра не доводит.
– Не заговаривайте мне язык! Куда вы дели девушек? Где Норгуль, где Саодат?
– Я вас не понимаю. Друзья, – елейным тоном обратился к окружающим Гияс–ходжа, – этот человек одержим…
Степной феодал в ярости забыл о всяких приличиях. Размахивая камчой, он полез в драку. Присутствующие ахнули. Мыслимое ли дело? Оскорбить столь высокопоставленное духовное лицо! Сайд Ахмада грубо оттащили в сторону, усадили на коня и выгнали за пределы города.
Сайд Ахмад понял, наконец, что произошло.
– Ну и Гияс, ну и хитрец, – бормотал он.
В тот же вечер Гияс–ходжа продолжал путь в Бухару. Но он ехал не как обычно по большому степному тракту, а сделал большой крюк – через кишлак Карнап.
По всей видимости, философ поступил правильно. Несколько дней Сайд Ахмад с вооруженным отрядом слуг патрулировал большую бухарскую дорогу. Но Гияс–ходжа перехитрил помещика.
Саодат и Норгуль были привезены ночью в загородный сад великого муфтия и водворены в ичкари. Сестрам было разрешено написать письмо родителям о чудесном их спасении из рук подлого насильника, при благословенной и великодушной помощи светоча ислама Гияс–ходжи.
Но письмо было направлено не раньше, чем влюбленный Меджнун – Гияс–ходжа сочетался браком со своей Лейли – Саодат и… с ее сестрой Норгуль.
Ничего предосудительного или противоестественного с точки зрения ислама Гияс–ходжа не совершил. Такие браки были вполне допустимы. Чувства же Саодат и Норгуль меньше всего интересовали богослова.
«Женщина прах следов мужа…»
Он даже любовался своим поступком. Он серьезно воображал, что совершил благородное деяние – спас девушек из рук грубого насильника…
Был как раз сезон браков, и Гияс–ходжа, соответственно своему сану и положению, не пожалел средств. Он считал, что свою возвышенную любовь к Саодат он должен выразить величественным торжеством. Нужно было сделать так, чтобы этот той заставил говорить о себе не только квартал, где жил Гияс, но и всю Бухару. Сотни, тысячи людей должны были разделить великую радость своего духовного наставника.
«Кыз–той» провели согласно всем установлениям. В двенадцати котлах шесть дней варили плов, а в каждый котел входило по пять пудов риса. Десятки красивых юношей вереницами двигались по саду с великолепными китайскими блюдами в руках. Под сенью гигантского карагача на берегу хауза восседал на особо почетном месте имам махаллинской мечети, рядом с ним судья и мударрис из местного медресе, на которое, по случаю радости, Гияс пожертвовал тысячу рублей золотом. Тут же присутствовали ишан, староста, баи. Гости попроще располагались в саду и во дворе. Ревели карнаи, пронзительно стонали сурнаи, далеко разносилась дробь барабанов. Крики временами сменялись почтительным шепотом; свадьбу удостаивали посещением виднейшие государственные мужи эмирата, те, кого называют «оли сарой» – высшие придворные.
Гияс–ходжа был поражен неблагодарностью своей юной жены, которая в первые же дни революции ушла из великолепного жилища, ушла совсем…
В коридоре своего дома Гияс–ходжа встретил Саодат – бледную, дрожащую, но преисполненную решимости. Даже в неверном сумраке он видел, как блестят ее полные ненависти и отвращения глаза, обращенные на него…
Гул канонады, гневные крики восставшего народа доносились и сюда, в отдаленный квартал Бухары. По коридору метались слуги. Плакали женщины.
Гияс–ходжа не сразу сообразил, что значит присутствие здесь жены в выходном платье.
– Саодат!
В возгласе его не звучали, как подобало, повелительные ноты. Это был стон человека, терявшего любимую женщину. Гияс–ходжа любил Саодат. Иное дело, – он никогда не искал ответной любви, он даже не понимал слово «взаимность».
Саодат молчала, дыхание с шумом вырывалось из ее груди.
– Любимая, ты испугалась смятения в городе?
Гияс–ходжа цеплялся за последний луч надежды. Он понимал, что говорит совсем не то, что надо, но через силу продолжал:
– Не бойся, я защищу тебя. Я спасу тебя. Кони готовы, мы уедем далеко…
Побледневшими губами Саодат проговорила:
– Я ухожу. Совсем ухожу…
Тогда духовный владыка, слово которого еще недавно было законом для правоверных, начал умолять. Снова и снова, нежно и мягко он говорил о своей любви. Ни единое слово угрозы не сорвалось с его губ, хотя временами ярость душила его. Он унижался, просил…
– Моя любовь неизмерима… Разве я хоть раз, хоть на пылинку обидел тебя, Саодат? Разве я отказывал тебе в чем–нибудь? Разве не было у тебя всего, о чем мечтает первая жена эмира?..
Саодат не слушала его. В глазах ее стояли слезы.
– Вы… Я не переношу вашего лица, я боюсь вас.
– Опомнись, Саодат! Я люблю тебя.
– Что знаете вы о любви? Вы спрашивали меня, люблю ли я вас? Сердце мое расплавилось от стыда.
– Саодат!
– Подковами сапог вы топтали мое тело! Вот ваша любовь…
– Поостерегись! Ты забыла о пылавших недавно на улицах города кострах? Ты забыла о несчастных, осмелившихся уйти от мужей, открыть лица? Разве не прибегала ты ко мне в безумном страхе, слыша отчаянные вопли сжигаемых заживо? Одумайся! Или ты хочешь, чтобы и с тобой так поступил народ? Ты едешь со мной!
– Не пугайте меня народом. Кто подговорил народ сжечь несчастных? Имамы и ишаны…
– Ты не уйдешь!
Она шагнула прямо на Гияс–ходжу. Она прошла мимо него, трепещущая от страха. Но он не тронул ее, он не посмел к ней прикоснуться. Он не приказал слугам задержать беглянку. Бессильно опустился Гияс–ходжа на циновку, устилавшую пол, и прислонился горячим лбом к холодной штукатурке стены.
…Костер потух. Только временами разгорались красные огоньки углей. За стенами хижины ровно гудел ветер. В дымовом отверстии шуршали камышинки.
Молчание нарушил Николай Николаевич:
– Этот Гияс все время за нами ехал, путался под ногами. Я думал, что он просто басмаческий шпион. А? Как вы думаете?
Кошуба не ответил.
След Кудрат–бия был потерян…
Теряли его уже и раньше, но тогда встречные дехкане охотно показывали дорогу, по которой ускакали басмачи. Сейчас же местность стала дикой и пустынной. На много верст кругом раскинулись заросли серебристой джиды, тополя и колючего кустарника, перемежаюшиеся с Камышевыми болотами. Дорога сузилась, превратилась в тропинку. Нигде ни души. Круглое красное солнце спускалось в молочную жижу тумана.
Ехали молча. Над болотистыми тугаями висела тишина, только чавкали в черной грязи копыта лошадей да слышалось сердитое пофыркивание.
Вытянувшись в линейку, двигались на почтительном расстоянии от Санджара бойцы. Они страшно устали, но ни одного слова недовольства не раздавалось, хотя ехали без отдыха уже много часов.
Впереди покачивался на гладком холеном коне мрачный, свирепый на вид бородач. Под его страховитой внешностью таится душа ребенка. Дехканбай – добродушный весельчак, любитель чайханы, хорошей песни и дружеской беседы. Еще недавно он был, как сам говорит, «ничем». Тот день, когда семья его ела плов с мясом, был большим, радостным праздником. У него, хотя его и назвали при рождении баем, – не было ни земли, ни быков, ни плуга, не было даже кетменя.
Дехканбай был издольщиком. Весной он приходил к помещику и стоял на дворе около верблюжьей конюшни, сложив руки на животе. Шел дождь, шел снег, было холодно, а он все стоял и ловил взглядом, не покажется ли «его бекство» в дверях михманханы. А когда помещик появлялся, Дехканбай подбегал к нему и, переламываясь пополам, кланялся в пояс.
– Что делать? – вспоминал Дехканбай, и картины недавнего прошлого бежали перед ним чередой. – Что было делать? Я был ничтожнее грязи на сапогах хозяина богатства, и я рад был слышать, когда он говорил мне: «А, Дехканбай, ты пришел? Хорошо, хорошо! Только год плохой. И я, пожалуй, не буду сеять. Одни убытки. Но бог велит быть милостивым, и я хочу дать тебе кусок хлеба. Начинай пахать. Шестая часть урожая – твоя». Эх, и бай был у нас!.. Но что было делать с этим жадным волком?
Дехканбай шел в хлев, надевал ярмо на байских быков. Вспахивал девять–десять десятин земли. Засевал их рисом, хлопком, дынями, арбузами. А осенью на току делили плоды трудов Дехканбая. Приезжал господин дехканских душ – помещик. Из каждых шести мешков зерна пять он увозил на своей арбе. А из оставшегося урожая приходилось платить подать бекскому сборщику налогов и за себя и за бая. «У нищего украли грош», – говорили в народе.
В год плохого урожая помещик чернел лицом. На Дехканбая сыпались проклятия. Вся тощая жатва попадала в байский амбар. Ничего не получал издольщик, а ведь надо было целую зиму и весну кормить семью…
У Дехканбая басмачи не убили ни жену, ни мать, ни детей. И воюет он не из мести. Нет! Он знает только, что басмачи защищают баев и помещиков, хотят заставить таких, как он, работать снова на богачей. Не будет этого! Клятву он дал великому Ленину, что не будут баи больше сидеть на спине трудового люда.
В двух шагах от Дехканбая ехал приземистый некрасивый, с широким лицом, узенькими глазками и длинными рыжими усами Нурали. Он ферганец. Десять лет назад, в голодный год, он попросил у бая в долг сто рублей. Но снова случился неурожай, семья голодала, дети умирали один за другим. Сам Нурали ходил с пустым животом. После многих слезных просьб бай деньги дал, но у судьи записал в долговую расписку в залог все шесть танапов земли Нурали, его мазанку, паласы, одеяла и даже колыбель. В расписке было сказано, что через год Нурали должен вернуть четыреста рублей (а не двести). Через год рассчитаться с долгом не удалось. Еще через год сумма возросла до четырехсот восьмидесяти рублей. Нурали прогнали из дому с женой и пятью ребятишками. Так и батрачил с тех пор ферганец Нурали. За целое десятилетие ничего не приобрел, ничего не заработал. Из пяти детей трое умерли, родилось еще двое. Жена стала совсем больной… Боец Нурали воевал хладнокровно и спокойно, с полным равнодушием к смерти. Пощады врагу он не давал.
Мумин был музыкантом. У него тоже не было личных счетов с басмачами, но с первых дней бухарской революции он стал в ряды вооруженного народа. Его отец, его дед, прадед, братья – все были музыкантами и состояли в цехе музыкантов города Бухары. Главный цеховой старшина Мирзо–бобо посылал Мумина на свадьбу, той, семейные торжества. За каждое свое выступление музыкант получал копеек восемьдесят, рубль, да и то, если пресмыкался перед богатеями. Половину заработка приходилось отдавать Мирзе–бобо, якобы в пользу цеха. Заработанного не хватало на жизнь. Чтобы поправить свои дела, музыканты ходили по улицам и дворам и выпрашивали подаяние. И хоть на Востоке и говорят: «Музыканты – радость народа», но на самом деле и Мумин и его родственники мало чем отличались от нищих…
Боец отряда Абдурасуль, по прозвищу Стрела, работал на Каганской бойне Шаревского. За все тридцать два года рабочей жизни он не имел ни одного выходного дня, если не считать дня женитьбы. В праздники и по пятницам работали, как всегда, в грязи, смешанной с кровью, в зловонных испарениях. Зарабатывал Абдурасуль шестнадцать рублей в месяц, и многие ему завидовали. Но труд был изнурительный. После обеда в понедельник он шел на бойню и, не отрываясь, работал до среды. Двое суток он был на ногах и не имел права прилечь и закрыть глаза хоть на минуту. В четверг Абдурасуль снова шел на работу и возвращался домой только в субботу вечером. Затем снова выходил на работу в воскресенье. Так рабочие бойни из трех ночей спали только две. Шесть мясников должны были за двое суток убить и разделать триста баранов или тридцать–тридцать пять лошадей.
Когда Абдурасулю приносили из дома обед, он засыпал около миски с похлебкой. Он не мог поднести одеревеневшую руку ко рту. Все тело болело. Но Абдурасуль знал, что если он заболеет, Шаревский выгонит его на улицу.
– И я работал и больной и здоровый, – рассказывал Абдурасуль, – лишь бы достать на завтра лепешку, лишь бы набить свой живот постным машевым супом и не подохнуть с голоду.
В бурные дни бухарского восстания Абдурасуль в рядах вооруженного народа бок о бок с бойцами Рабоче–Крестьянской армии штурмовал стены столицы эмира. В отряд Санджара Абдурасуль пришел членом коммунистической партии большевиков.
По доброму своему разумению пришел в отряд Санджара и коммунист Ша–Искандер Чилингар, резчик по металлу. С горечью он рассказывал о своей жизни.
– Я был искусный резчик. Уходил я из дома на рассвете, а прекращал работу, когда нельзя было разглядеть вытянутой руки. Всю жизнь я просидел, не видя солнца и синего неба, в темной закопченной мастерской, поднимая и опуская свой молоток, но никогда не было такого случая, чтобы за день я заработал больше рубля. И как бы сильно и метко не ударял мой молоток, я не был в состоянии выколотить хоть десять копеек лишних. Но и это было хорошо; ведь мардикер зарабатывал пятнадцать–двадцать копеек в день. Пока я был здоров, я был сыт. Но стоило мне как–то недели две поболеть – и моя жизнь и жизнь моей семьи разрушилась. Пришлось продать и самовар, и калоши, и халат, и последнюю кошму. В другой раз, когда я болел, жена взяла деньги у ростовщика.
За десять рублей пришлось через месяц отдать тринадцать.
Глаза Ша–Искандера загорались, когда он говорил:
– Санджар воюет против ростовщиков и баев, против беков и налогосборщиков. Я пришел к нему, чтобы помочь большевикам разрушить крепость эмира, так, чтобы никогда она не могла снова подняться.
В отряде Санджара не было военных людей. Но все бойцы – батраки, рабочие, дехкане, кустари, пастухи – сражались храбро.
Каждый, кто приходил в отряд, рассказывал перед строем о своей жизни.
Затем говорил Санджар:
– Вы видите, товарищи, какие жалкие крохи оставил на вашу долю бог и толстосум. Хотите, чтобы и дальше так было? Нет! Посмотрите: вот наше знамя, на нем написаны золотые слова вождя трудящихся Ленина: «Земля крестьянам, фабрики и заводы трудящимся!»
– Помните, что, вступая в наш отряд, каждый должен стать в душе большевиком и на деле большевиком. А что значит быть большевиком? Это значит быть честным перед народом, защищать угнетенных, к какому бы народу они ни принадлежали, помогать беднякам, быть беспощадным к угнетателям и врагам трудящихся – баям, бекам, помещикам и прочим зверям. Поцелуй знамя и поклянись, что будешь воевать, пока ни одного бая или басмача не останется на нашей земле.
Санджар знал своих людей и вел их вперед не оглядываясь.
…Становилось сумрачно и сыро.
– Командир, – сказал Дехканбай, – сейчас будет усадьба, моего дяди Сайфи–дивана. Если его сын Султан дома, он много нам расскажет. Он и его отец знают все, что делается в тугаях, даже куда заяц бежит или где кабан пробирается к дехканской бахче. Все знают.
– Вот куда мы попали! Про Султана я слышал…
Уверенно лавируя среди колючих стен высокого кустарника, Дехканбай вел всадников вглубь тугаев. Через несколько минут отряд выехал на заросшую высокой травой дорогу и оказался перед воротами одинокой усадьбы. Усадьба казалась заброшенной. Глинобитные дувалы оплыли и обрушились, и ворота одиноко поднимались из зарослей колючки. Их можно было свободно объехать с обеих сторон, но Дехканбай с важным видом постучал в створки.
– Кто там? – откликнулся старческий надтреснутый голос. – Сейчас, сейчас…
Послышалось шарканье ног, обутых в калоши, из–за угла мазанки появился старик. Подойдя к воротам, он крикнул сердито:
– Какие там кабаны шляются по камышам ночью?
– Эй, дядюшка Сайфи, открывай! – позвал Дехканбай.
– А, это ты, племянничек!
Зазвенел засов, огромные створки ворот распахнулись. Сайфи обнял спешившегося племянника и ворчливо продолжал:
– Ты все бродишь по свету, наживаешь беду. Забыл, какое наше время? Забыл, что сколько бы ни дружили кувшин с казаном, все же они столкнутся, и тогда…
– Это кто же казан? – засмеялся Санджар.
– Ну, конечно, уж не Дехканбай, – проворчал Сайфи. Он повел Санджара и его спутников через большой, поросший бурьяном и чертополохом, двор. В наступивших сумерках можно было разглядеть, что сравнительно зажиточное когда–то хозяйство дядюшки Сайфи пришло в полное запустение: арба стояла поломанная, без колес, крышу амбара размыло дождями и в стенах зияли дыры, открытые настежь хлевы и кладовые были пусты. Тугайный ветер гонял по двору взад и вперед солому, какие–то клочья тряпок, сухую колючку…
Доведя гостей до дверей михманханы, хозяин вдруг спохватился и засеменил назад. Подбежав к воротам, он начал тщательно задвигать засов и греметь замком. Санджар и бойцы с удивлением смотрели как этот одряхлевший старик трясущимися руками тщательно запирал никому не нужные ворота.
Когда все уселись на заплатанные одеяла, помыв предварительно руки, Дехканбай, пользуясь тем, что хозяин не показывался, начал вполголоса рассказывать.
– Бедный мой дядя совсем выжил из ума, и все теперь зовут его Сайфи–дивана. А какой это был умный и уважаемый человек! Но и мудрость тонет в слезах. Вы видели – вокруг усадьбы сейчас одни тугаи; а два три года назад здесь стояли дома кишлака Яр–тепе. На улицах его бегали детишки. Аист вил гнездо на минарете старой мечети. Мой дядя Сайфи–жил тихо и смирно. Были у него жена, сын и три красавицы дочери. Было у него немного земли и пара волов. В его печи каждый вечер выпекали ячменные, а иногда и пшеничные лепешки. Наступили времена революции. Дехкане прогнали бая Шакар–палвана из кишлака Яр–тепе. Но тогда явился Кудрат–бий и заставил дехкан принять бая обратно. Вскоре народ опять рассердился, уж больно бай стал самовольничать. Не знаю как вышло, но Шакар–палвана нашли на пороге его дома мертвым. Прискакали басмачи, перебили много дехкан, а жен и детей их зарезали, как баранов. Кудрат–бий, да умрет его душа, запретил хоронить убитых: «Пусть эта мертвечина свидетельствует о моей силе и могуществе». Сайфи был старостой в Яр–тепе. Его привязали к столбу на площади, чтобы он смотрел на казнь. И он видел, как воины ислама насиловали его дочерей. Вот на этих самых воротах они повесили за косы голых женщин и девушек… Дома разрушили, все пожгли… А моего дядю оставили в живых, чтобы он всем рассказывал о случившемся; но у Сайфи помутился ум, и он ничего не рассказывает с тех пор…
Появился Сайфи. Он суетился, приходил и уходил, выполняя обязанности гостеприимного хозяина. Он часто поглядывал на Санджара, и взгляд этот, как с удивлением обнаружил командир, был совсем не такой уж бессмысленный.
А Дехканбай продолжал рассказывать вполголоса:
– Сайфи живет здесь со средней дочерью. Она спряталась тогда в камышах и уцелела. Только она тоже стала немного помешанной. Ну, теперь басмачи, хоть и бывают иногда в этих краях, не трогают их. У мусульман, даже не имеющие ни совести ни сердца басмачи, не смеют обижать слабоумных. Они – божьи люди.
Когда уже совсем стемнело, в ворота постучались.
Через минуту Сайфи привел невысокого человека в круглой лисьей шапке.
Переступив порог комнаты, человек долго протирал глаза, слезившиеся от едкого дыма костра, кашлял, поглядывал на хозяина. Пришедший, видимо, никак не решался заговорить.
Тогда Сайфи протянул руку и вытащил из–за пояса нового гостя свернутую трубочкой бумагу. Приблизившись к костру, Сайфи начал читать вслух:
«Мусульмане, вы продались и не думаете о будущей жизни. Есть два рода людей: одни – верующие мусульмане, а другие – неверные, которые попадут в ад: Мы раньше думали, что вы наши друзья, а оказывается – вы наши первые враги. Но мы все равно вам отомстим, даже если придется нам погибнуть. Опомнитесь! В вашем кишлаке Гумбазе окружены и издыхают в осаде двадцать красноармейцев. Джигиты нашего верного помощника Ниязбека крепко ухватили их за ворот, но они еще смеют сопротивляться. Приказываю немедля помочь моим воинам, иначе будет вам плохо. Мы не говорим – бог вас накажет, мы сами найдем вам наказание…»
Старик пожевал губами и прибавил: – А подписался кровавой своей лапой: «Командующий всеми войсками Гиссара и Байсуна Кудрат–бий парваначи».
– Ну, и что же? – спросил Санджар пришедшего.
– Кудрат–бий послал с этой бумагой своих конных людей по окрестным кишлакам. Никто из дехкан не послушался. У нас в Гумбазе тоже не нашлось, кто бы пошел помогать басмачам.
– Ну?.. – протянул Санджар.
– Уже Шариф–бобо и мельник Башир, за отказ и неповиновение повешенные за шею, кончили свои дни на площади около мечети, – сказал мрачно новый гость.
– А народ молчит? Что у вас, бараны в Гумбазе или люди?
– У нас есть палки. Нет винтовок, – коротко возразил пришедший.
– Что же красноармейцы?
– Они проделали в дувале, окружающем двор ишана Мирзы–бобо, бойницы и перестреляли уже много басмачей. Ночью, когда темно, наши мальчики ползком пробираются во двор и приносят краснармейцам хлеб, воду. Помогите нам! Приезжайте скорее. Наши дехкане не хотят больше слушать курбашей. Сам ишан Мирза–бобо послал меня к вам показать эту бумагу… Приезжайте, иначе красноармейцы пропадут. Трое ранены. Двое все время дрожат в лихорадке.
– Вот что, – сурово сказал Санджар, – сам я с вами не поеду и своих бойцов не пошлю…
– Как?.. – разочарованно протянул человек в лисьей шапке.
Среди бойцов отряда послышался тихий ропот. Не обращая внимания на это неслыханное нарушение дисциплины, Санджар еще резче бросил:
– Ни одной винтовки не дам вам.
Гумбазец даже потемнел; он потерял дар слова.
– Ни одного патрона…
– Но…
– Молчите и слушайте. Кто водит дружбу с Кудрат–бием, тот враг Красной Армии, враг Советов.
Гумбазец опустил голову и с деланным интересом стал разглядывать узор кошмы.
– Вот мой ответ. Сейчас же скачите к себе в Гумбаз. И чтобы сегодня же басмачей и духу там не было.
– Но как… Что могу я, бедный слабый человек? Вот, если вы со своим отрядом придете, тогда мы… э… поможем вам… э… продуктами, фуражом.
– Слушайте вы, господин Мирза–бобо! Что вы думаете: сняли чалму и в вас никто не узнает ишана? Вы и еще кое–кто из ваших разве не были у басмачей? Вы что же думаете, нам это неизвестно?
Еще ниже опустив голову, гумбазец молчал.
– Вот и все, – продолжал Санджар. – Вы своими руками… Собственными руками должны покончить с басмачами.
– Надо подумать.
– Думать некогда. Будет поздно думать, когда я сам приду туда. Поняли?
– Да понял.
Ишан тихо вышел.
Не обращаясь ни к кому, Санджар заметил:
– Плохо, видно, извергам приходится, если от них ишаны да баи отшатнулись. – Поманив Сайфи, командир спросил: – Никто не приходил еще из Гумбаза?
– Пришли. Два бедняка. Один – сын убитого мельника, другой – активист Бута. Они не хотели заходить, пока здесь ишан был… Не доверяют ему.
– Правильно делают. Позови их.
Когда два бедно одетых дехканина появились на пороге, Санджар вскочил и пошел им навстречу. Он обеими руками пожал им руки и со словами: «Пожалуйте, прошу!»– усадил на одеяло.
Только изучив лица всех присутствующих, Бута заговорил:
– Этот ишан, который сейчас был – плохой человек. Сейчас он пойдет к басмачам, к Ниязбеку, и расскажет, чтобы снискать милость, сколько у тебя воинов, и будет кушать за его дастарханом. Покушает и пойдет тайком к командиру красноармейцев с мешком риса и скажет: «Я друг большевиков, вот вам рис, кушайте». У этого ишана два лица, два языка и две души.
– Чего же вы его держите?
– О, этого ишана все очень уважают. Он излечивает болезни одним только прикосновением руки… Он…
– Ладно, – перебил дехканина Санджар, – потом разберемся, как лечит ваш ишан. Сейчас не до того. Расскажите, что думают дехкане.
– Дехкане? – переспросил пришедший. – Дехкане ждут помощи. Если только ты, Санджар, нам поможешь, мы ударим собак Ниязбека. В кишлаке стон и плач от них. И если все красные бойцы не были бы больны, мы давно так поступили бы с насильниками и грабителями. Помоги нам, Санджар–батыр.
– Хорошо, Бута. Ты дело говоришь. Но помни: ты и твои гумбазцы очень виновны перед Советской властью, перед народом. Вы, гумбазцы, до последних дней вели себя, как капризные бабы, непонимающие, где вред, где польза и норовящие сесть вместо одеяла на горячие угли очага. Разве вы не помогали Кудрат–бию?
– Мы… мы боялись его гнева.
– А! Вот в чем дело?! Вина ваша безмерна, и я требую, чтобы дехкане Гумбаза искупили ее. Сегодня на рассвете дехкане – и старые, и молодые, и женщины, и юноши – возьмут ножи и кетмени, палки, а те, у кого не найдется палки, пусть наберут за пазухи и в подолы камней и обрушат гнев свой на спящих басмачей. И пусть бьют их чем попало до тех пор, пока они не умрут, или не убегут, или не отдадутся в их руки. Пусть бьют их. Мы вам поможем, хоть вы и не заслужили этого.
Лицо Буты просветлело. Волнуясь, он проговорил:
– И Советская власть тогда простит гумбазцев?
– Советская власть всегда помогает беднякам и батракам… Идите же, поднимайте народ. Пусть сегодня сердце каждого гумбазца станет сердцем льва.
Едва гумбазцы вышли, Санджар подозвал своих помощников и отдал приказание:
– Вот что, Дехканбай. Возьми двадцать бойцов и отправляйся на Гиссарскую дорогу. Если басмачи побегут, действуй, не выпускай их. Если до утра в кишлаке будет тихо, ударьте на Гумбаз сами.
– Предупредить красноармейцев?
– А зачем? Вашего гонца могут перехватить басмачи. Бойцы – буденовцы, они сами, когда все начнется сообразят что делать. Выступайте, как только кони немного отдохнут… Через три часа – все равно, воины ислама в темноте не воюют. До утра ничего в Гумбазе не изменится, а к рассвету вы будете там. Абдурасуль подойдет к Гумбазу с восхода солнца и, едва закричат на рассвете петухи, ударит по спящим басмачам. Я же с остальными бойцами подойду со стороны Белого бугра. Все… А теперь часика два поспим.
Когда Санджар уже лежал под одеялом и широко открытыми глазами всматривался в темноту, к нему неслышно подошел Сайфи.
– Девушку увезли за Сурхан, – зашептал он. – Увезли люди Бутабая для одного ходжи. Кишлак Бутабая отсюда за пять ташей. Кудрат–бий уехал из Гумбаза к Бутабаю, там они будут совещаться. Он взял с собой только полсотни нукеров, самых отборных. К Бутабаю ждут людей из–за Пянджа. Должны привезти какие–то бумаги, пулеметы, патроны… Помогают афганцы и, если правду говорят, за Пянджем видели инглизов; они раздают этим проклятым золото и оружие.



