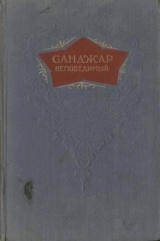
Текст книги "Санджар Непобедимый"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
V
В горах темнота особенно густа и непроницаема. Нет ничего легче как сбиться с дороги, попасть на край скалы, сорваться в пропасть.
Но тем не менее всю ночь небольшая группа всадников настойчиво, неутомимо уходила в глубь гор, подымаясь к границе вечных снегов.
Уже перед рассветом всадники наткнулись на пастуший стан. Угли костра едва тлели.
Всполошившийся чабан отогнал бесновавшихся зевластых псов и поднес кисленький, пахнувший шерстью айран. Гости напились, не сказали ни слова благодарности и продолжали сидеть в угрюмом молчании.
– Разрешите, господин, принести поздравления, – осторожно заговорил один из проезжих, обращаясь к толстому, закутанному в белый уратюбинский шерстяной чекмень, человеку.
Тот, кого назвали господином, буркнул что–то неразборчивое себе в бороду.
– Поздравления со счастливым избавлением от опасности, – закончил говоривший. – Теперь ваша звезда воссияет на небосклоне побед и воинских подвигов с еще большей яркостью, господин парваначи.
– Что с вами, Ниязбек? – слабым голосом спросил Кудрат–бий. – Что это на вас напало придворное красноречие в такой момент… когда… О, как он перехитрил меня… Мы ошиблись в нем, в этом русском. Я думал, что он только отчаянный рубака, слепой в ярости, а он еще умен… да, умен. Господи, два года я бьюсь с ним не на жизнь, а насмерть, и не смог пальцем его тронуть…
– Еще время не ушло, господин. Мы еще соберемся с силами…
– С силами… с силами… Уйдите все, – приказал Кудрат–бий. – А вы останьтесь, Ниязбек.
Когда они остались у костра вдвоем, Кудрат–бий заговорил вполголоса:
– Мы соберем еще джигитов, вы правы. Ко мне прибегут эти трусы – курбаши, побросавшие свое оружие, едва на них прикрикнули там на площади. Да, мы еще будем стрелять, скакать, мучить, убивать… Но зачем?
– Как зачем?
– Вот и я спрашиваю… Наше дело кончено. Я говорю вам – кончено! Черный народ полон ненависти к нам, люди стали большевиками. Нет разницы между батраками гиссарцами и большевиками, между юрчинскими чайрикерами и большевиками, между денаускими… пусть будут прокляты они, денаусцы, пусть знают: если у меня, Кудрат–бия парваначи, будет хоть сотня, хоть две сотни верных бойцов, я прискачу в Денау и перережу их всех до единого. Я прикажу вырвать из утроб денауских потаскух младенцев, чтобы искоренить проклятое денауское семя до одного, до последнего…
– Вы меня задушите, господин, – робко прервал его Ниязбек, так как в припадке бессильной ярости парваначи схватил своего собеседника за борта халата и начал трясти.
– Бог мой, ты видел? Они смотрели на мой позор и смеялись. Они могли смести с помоста этого Кошубу–безбожника с его людьми и разорвать в клочья, и они не сдвинулись с места. Я тебе говорю, они стали большевиками… всех… всех уничтожу! Всех!..
Он долго не мог успокоиться. Вдруг Ниязбек схватил его за руку.
– Слышите?!
– Что?
– Кто–то едет.
Кудрат–бий вскочил; несколько мгновений тревожно вглядывался в тьму.
– Боже… они, – простонал курбаши, – и сюда они пришли…
– Скорее, – шептал Ниязбек, – скорее к коням… Мы успеем… Уйдем…
– Нет… пропали. Все пропало. Нет сил, – всхлипывал Кудрат–бий. – Пусть придут… Пусть хватают. Пропал, пропал…
Парваначи снова опустился на землю у потухшего костра, и видно было при свете гаснущих звезд, как сидит он – раздавленный, жалкий, обхватив голову. Плечи его судорожно вздрагивали. Ниязбек то начинал бегать по площадке, то принимался теребить курбаши, стараясь сдвинуть с места его тяжелое тело.
Далеко, далеко заржала лошадь. Жалобно подвывая, Кудрат–бий распластался на земле и скреб камни ногтями, как будто пытаясь втиснуться в ничтожнейшую из расщелин.
Вдруг тихо прозвучал его слабый голос. Он жалобно молил:
– Когда меня схватят, ты быстро скачи в Дюшамбе. Боже, успеешь ли… Там… Наклонись ко мне!
Он долго шептал что–то склонившемуся над ним Ниязбеку. Наконец поднял голову и сказал громко:
– Там есть наши люди. Перед нами откроются все двери, падут все запоры.
Приближалось утро. Светало. Стали видны горные склоны, темные провалы ущелий. Внизу у говорливого ручейка спали прямо на траве беглецы – басмаческие курбаши. Поодаль паслись лошади. Шерсть их стала мокрая и блестящая от холодной росы.
Мирная картина тихого горного утра вдохнула бодрость и силы в грузное тело Кудрат–бия. Он сел, подбросил в костер несколько сучьев. Грея руки над огнем, курбаши, как бы невзначай, проговорил:
– Не думал, друг, что вы такой нервный. И все только вам мерещатся красные звезды. Никого нет на нашем пути, а? Да если и появится кто… Мы еще посмотрим!.. Да, пора трогаться. И помните, Ниязбек, если мы не сможем собрать джигитов, мы пойдем за Пяндж и предадимся там отдохновению. Что вы ухмыляетесь?'
Ниязбек не стал напоминать Кудрат–бию о недавнем припадке малодушия. Он предпочел заговорить о другом:
– Еще есть силы у истых мусульман. В Фергане идет борьба. Из Кашгарии помогает консул… как его, Эстертон. Из Афганистана от инглисов идет целый караван с винтовками, патронами и индийскими рупиями. Вот–вот будут они у нас. Военный министр Надирхан плюет на своего Амануллу и обходится без его разрешения, хоть этот почтенный король заигрывает с большевиками и заключил договор с Москвой. А за Надиром стоят инглисы. Чего же падать духом…
– Кто сказал, что я пал духом?
Низким поклоном Ниязбек скрыл наглую усмешку:
– И потом, чего же нам бояться? Неужели великий назир народной республики не снизойдет до нас в случае беды? Он, вы сами знаете, не такой уж и друг большевиков, как прикидывается…
– Дела у него осложнились, – возразил Кудрат–бий. – Приезжал из Москвы один умный грузин и все проверил. Он заставил выгнать из правительства Бухарской республики всех родственников и друзей великого назира и потребовал, чтобы все назиры были не из почтенных людей, а из этой голытьбы, дехкан и рабочих… Сам великий назир чуть не попался. Теперь он поспешил отправиться в путешествие по Гиссару. И ясно – даже если на его глазах будут перерезать глотку его родному брату, и то он пальцем не пошевельнет… Женоподобный этот бача эмирский только и думает как бы спасти свою шкуру, и давно бы смылся за границу, если бы ему разрешили его хозяева инглисы. Тьфу!
Он поднялся и пошел по мокрой траве вниз к ручью. Уже когда они отъехали немного от пастушьего становища, Ниязбек сказал:
– С вашего позволения, господин парваначи, я вас оставлю.
– Это еще почему, господин бек?
– Хочу, господин парваначи, съездить в Тенги–Харам, домой…
– Разрешите, господин бек, вам сказать, что вас схватят едва вы посмеете показаться на большой дороге… Вы, господин бек, забыли, что после Денау к большевикам перебежали многие, кто хорошо знает вас и ваши дела. И вам, господин бек, остается отныне состоять при нашей особе…
– О, господин парваначи, вы преувеличиваете опасность для нашей скромной особы.
– Почему же, господин бек?
– Да потому хотя бы, что нас не посмеют пальцем тронуть.
– Почему же, господин бек? Или вы наденете шапку–неведимку, или у вас среди большевиков есть друзья? – Почувствовав, что опасность не угрожает ему непосредственно, Кудрат–бий снова обрел величие.
– Да потому нас не тронут, что мы предусмотрительны и не являемся подданным Бухарской, Народной Республики.
– Как так? – Кудрат–бий не сдержался, изумление появилось на его лице.
– А так, что мы позаботились получить у афганского посла в Бухаре Абдурарул–хана хорошенькую, изящненькую книжечку, называющуюся афганским паспортом. Так что мы, господин парваначи, являемся афганским гражданином и вольны ехать куда нам заблагорассудится. И никто, ни большевики, ни воины ислама не вправе нас останавливать или задерживать во избежание дипломатических осложнений с Кабулом. Так–то, господин парваначи.
– Хорошо. Тем более вы нам нужны. Отныне вы наш первый помощник. Назначаю вас главным курбаши всех верных мусульманских воинов Локая…
Ниязбек безмолвно склонился в полупоклоне. Он ничего не ответил, только чуть скрипнул зубами.
Когда он отъехал, Кудрат–бий подозвал к себе Рыжего ясаула и негромко сказал:
– Видишь того чернобородого?
– Как же! Господин Ниязбек…
– Я тебя спрашиваю про чернобородого. Мне нет дела до его имени. Я говорю – чернобородого?
– А–а, – протянул ясаул, – вижу чернобородого.
– Так вот, чернобородый должен быть там, где будем мы. Чернобородый будет есть из одной чашки со мною, пить чай из одной пиалы со мною, ходить рядом со мною, ездить, не отдаляясь ни на шаг от нас. Понятно?
– О, да! Понял. Это великая милость. И только неблагодарный посмеет пренебречь ею.
– Ну, на то ты при мне состоишь, чтобы такой милостью не побрезговали.
VI
Преследование в предгорьях Гиссара – далеко не легкое и не простое дело. Быстрая скачка здесь совершенно невозможна из–за крутизны бесчисленных подъемов и спусков. Всякая попытка заставить коня двигаться более быстрым аллюром, нежели обыкновенная рысца, приводит к самым печальным последствиям.
Группа всадников, цепочкой двигавшихся по тропинке, пересекавшей гигантское брюхо Черной горы, издали напоминала мирных кишлачных жителей, направлявшихся на базар в Каратаг. Только вблизи можно было разглядеть, что едут вооруженные люди, что они не мирные путники, а охотники, идущие по горячему следу.
Далеко впереди на добром горном коньке размашистой ходой двигался Курбан. Он сменил буденовку на белую войлочную шляпу с черными бархатными отворотами, а шинель – на коричневый уратюбинский чекмень.
Озабоченное, напряженное выражение мгновенно слетало с его лица, как только в пределах видимости на дороге появлялся путник. Чем ближе был встречный, тем добродушнее делалось лицо бойца и громче разносилась по холмам и долам его гортанная песня.
В нескольких шагах от ехавшего или шедшего навстречу Курбан вежливо умолкал, а затем разражался целым потоком изысканных приветствий и добрых пожеланий.
Нет нужды, что Курбан первый раз в жизни видел человека: он в совершенстве владел искусством разузнавать новости и выведывать сведения, которые могли быть полезны отряду.
– Во имя бога всеблагого, всемилостивейшего, всеразумнейшего! Кого я вижу, о господи! – восклицает Курбан с таким видом, как будто бы он по меньшей мере родной брат коренастого, обросшего волосами локайца, мрачно восседающего на рослом осле бухарской белой породы. – Какое замечательное совпадение, что вы избрали ту же дорогу, по которой всемогущий аллах направил меня, смертного. Как здравствуют драгоценные отпрыски вашей достопочтенной милости? Уж не из Каратага ли вы поспешаете?
Изысканная вежливость может растопить и лед.
Локаец напряженно копается в памяти, стараясь, припомнить, где он мог видеть эту добродушную и вместе с тем лукавую физиономию. Но поток слов льется и льется, и начинает казаться, что с этим балагуром и несомненно благочестивым мусульманином приходилось встречаться не раз.
Боясь обидеть Курбана, встречный, обходя вопрос о знакомстве, в свою очередь старается ответить любезностью на любезность. Он останавливает осла, и завязывается оживленная дорожная беседа, та беседа, которая обеспечивает на Востоке продвижение всех новостей по лику земли с быстротой телеграфа.
– В нашей семье, благодарение аллаху, всё тихо, если не считать печального происшествия с нашим братом. Велик аллах в своих милостях и в своем гневе правосудном.
– Неужели с братом вашим, достойнейшим и мужественнейшим человеком, приключилось такое?
– Да будет милосерден тот, кто взирает на нас всевидящим оком. Презренная кафирская пуля поразила его в живот, пониже пупка, и он стонет и кричит уже седьмой день. Я еду за Нуреддин–табибом.
– Помилуй нас аллах! Неужели вы хотите прибегнуть к помощи подобного наглеца, возомнившего себя Ибн–Синой и Лукманом. Нет, я бы пошел за Абдукахар–табибом. Он так хорошо излечивает раны…
– Великий пророк послал вас мне навстречу. А где же живет Абду… Абду… Как вы его назвали?
– Абдукахар? Он обитает совсем близко, в Казак–баши.
– Слава пророку, слава аллаху, еду сейчас к нему. Брат очень мучается.
– Спешите, спешите, – говорит Курбан, – только прошу вас, ничего не говорите людям, которых вы сейчас встретите, о вашем брате, о пуле, о том, что вы едете за табибом.
Напуганный собеседник широко открывает глаза.
– Да, да, – продолжает Курбан, – за мной едут нехорошие люди. Особенно молчите, если они будут спрашивать о том, не проезжал ли здесь кто–нибудь, похожий на хакима сарыассийского и денауского.
– О, они злые люди, значит? Неужели они злоумышляют на такую высокую особу…
Курбан пробует рискнуть:
– Меня очень беспокоит, достаточно ли далеко уехали их высокое достоинство хаким? Если они уже проследовали через Каратаг…
– Велик аллах! Я тоже беспокоюсь.
– Почему?
– Они еще не проехали Каратага.
– Клянусь, они медлят. Почему же они так медлят?..
На гребне горы в голубом небе возникают силуэты всадников. Словоохотливый локаец и Курбан торопливо, прощаются.
Снова в воздухе звенит песня…
Не надо думать, что Курбану очень везло, что у первого же встречного он сумел раздобыть столь важные сведения.
Кто знает, сколько таких бесед пришлось ему вести за последние два дня, сколько любезностей расточать перед самыми разнообразными путниками: купцами, загорелыми дочерна горцами, медлительными дехканами, пронырливыми и подозрительными молодчиками без определенных занятий.
Но таков был Курбан, – он умел развязать языки самых недоверчивых, самых молчаливых людей.
И если отряд не сбился с пути, если Санджар не потерял следа, то это в значительной мере нужно объяснить исключительными способностями Курбана. Он вел Санджара по горячему следу.
Санджар увлекся преследованием. Он дал себе слово, что хаким будет взят, что хаким не сумеет пробраться за кордон.
Санджара мучило не только то, что он написал денаускому хакиму пропуск, нет. Санджар пришел в ярость, когда узнал, что хаким разрушил плотину и оставил дехкан без воды.
VII
В стороне от шума и толпы по тенистому берегу хауза прогуливались двое. Одного из них не сразу можно было узнать. Просторная ниспадающая свободными складками белая одежда и большая белая чалма делали Кудрат–бия неузнаваемым.
Он ходил, сгорбившись, тяжелой походкой бесконечно утомленного человека. В его осунувшемся, подернутом нездоровой бледностью лице, обрамленном сильно поседевшей, видимо, давно некрашеной бородой, ничего не осталось от злобного высокомерия главаря басмаческих банд. Страдальчески опущенные уголки губ, обвисшие усы, суетливо бегающие глаза придавали Али–Мардану сходство с затравленным зверем. Даже и голову он держал как–то слегка набок, словно прислушиваясь, не прозвучит ли где–то далеко лай охотничьих псов. Иногда парваначи вздрагивал, и губы его беззвучно шевелились. Иногда он начинал разговаривать сам с собой, споря с невидимым противником и отвечая совсем невпопад своему собеседнику.
Рядом с ним ковылял, тяжело опираясь на костыль, ишан Ползун. Одет он был на первый взгляд очень скромно, но все – и дорогая кисея чалмы, и тончайшее сукно халата, и шелк рубашки, и лакированные ичиги, и даже запах индийских духов, – все говорило о том, что горбун не забывает о мирских благах, хотя по своему положению наставника дервишского ордена ему подобало больше думать о делах божественных. Но почтеннейший богослов, несмотря на свое уродство и седую бороду, недавно в третий раз сочетался браком.
Всякий, кто посмотрел бы на мирно прогуливающихся Кудрат–бия и Ползуна, решил бы, что разговор вращается вокруг тем, навеянных красотой священной рощи мазара и только что состоявшимся по случаю праздника торжественным всенародным молением – намазом аид. Собеседники говорили вполголоса, усиленно перебирали четки, громко вздыхали и поглядывали на голубое небо, просвечивающее сквозь густую листву столетних вязов.
Но беседа их вращалась вокруг тем очень земных.
– Гияс подходит, хотя неудачи и преследуют его. Он подобен человеку, набравшему камей в подол халата и швыряющему их куда попало. Каждый, даже самый маленький камешек, долетит и кого–нибудь ударит. Тогда про него скажут: вот молодец, какая меткость глаза. Пусть останется там, где он сейчас…
Али–Мардан поморщился:
– Бек оказался слабым. Для такого человека нужен ловкач, настоящая лиса. Проклятый Санджар совсем стал большевиком.
– Пусть Гияс продолжает свое дело. Он обещает… Ведь лучше, если этого проклятого Санджара сами большевики заподозрят и уберут.
Али–Мардан в раздумье кивнул головой. Он прошел через сад в небольшой дворик. Здесь он сел, поддерживаемый слугами, на коня и, наклонившись к Ползуну, сказал:
– А все же пусть Гияс, бросая камни, не забывает смотреть что делается за спиной. Если что, пощады от Санджара он ждать не может. И, наконец, в том письме Саид опять пишет: «Когда вы, наконец, уберете его?»
В сопровождении нескольких нукеров Али–Мардан уехал.
Сильно хромая, Ползун вернулся назад через рощу и, сдержанно отвечая на многочисленные приветствия, вошел под низкий кирпичный свод, переходивший в длинный коридор. Здесь было шумно и оживленно. Десятки и сотни богомольцев стояли, ходили, сидели у высеченных в стенах сорока ниш, по числу сорока чильтанов, таинственных покровителей правоверных мусульман в области самых разнообразных видов человеческой деятельности. Почти в каждой закопченой нише горело две–три, а кое–где и больше свечей, в зависимости от многочисленности или набожности представителей той или иной профессии, посетивших сегодняшнее моление. Перед нишей чильтана – покровителя цеха нищих – толпилось так много народа, что трудно было протолкаться среди всего этого тряпья и зловонных рубищ. Вопя и стеная, нищие протягивали изъеденные язвами и болячками черные руки, Рядом одинокий писец, одетый очень чисто и даже изящно, изредка снимал щипчиками нагар с горевшей в нише единственной восковой свечи и обращался к каждому проходящему с вопросом: «О почтеннейший, нет ли у вас желания занести на бумагу ваши уважаемые мысли для пересылки их уважаемым вашим родственникам? А в то же время вы совершите угодное богу дело и позволите возжечь новый светоч». За этой витиеватой формулой подразумевалось дело очень простое: писец, или как его называют на востоке – мирза, предлагал свои услуги, чтобы написать письмо или заявление за соответствующую мзду. Но так как здесь был не базар, а святое место, то предложение облекалось чуть ли не в форму молитвы, обращенной к загадочному и могущественному Хызру, покровителю всех путешествующих и, в то же время, господину сорока чильтанов.
Дальше по коридору толпились дервиши – странствующие монахи в расшитых островерхих шапках, отороченных мехом халатах, с длинными узорными посохами в руках и ладанками из скорлупы кокосового ореха. Они возносили молитвы своему чильтану крикливо, с подвываниями, сами свечей не зажигали, а насильно заставляли это делать первого попавшегося наивного богомольца. Но едва только дехканин отворачивался, свеча исчезала в сумке странствующего монаха с тем, чтобы через минуту вновь быть проданной какому–либо простаку.
Много свечей горело в нишах чильтанов – покровителей мясников, базарных перекупщиков, ростовщиков, менял и всяких прочих лиц купеческого звания, больших и малых. Сами купцы, своим дородством и холеными бородами резко выделявшиеся из массы богомольцев, солидно и с достоинством шествовали по коридору, не задерживаясь у своих ниш и всем своим видом показывая, что они люди просвещенные и стоят выше всяких там глупых суеверий… Но времена и для купцов наступили тревожные, никакое правоверие не предохраняло торговые караваны от грабительских нападений со стороны воинов ислама, хотя сам Ибрагим–бек отдал на этот счет строжайший приказ. Но ни приказы, ни фетвы – охранительные грамоты с огромными печатями – не гарантировали от разграбления и разорения. Быть может, тут сказывалось сомнительное прошлое грозного Ибрагима, начинавшего свою карьеру с профессии конокрада. Так или иначе, купцы, посетившие сегодня мазар святого Хызра, украдкой вручали расторопным, шныряющим в толпе мальчикам–прислужникам деньги на покупку и возжжение жертвенных свечек чильтанам–покровителям торговли.
Много было всякого народа, пришедшего на поклонение святому. Но больше всего здесь было согбенных тяжелым, изнурительным трудом дехкан, не видящих света ремесленников, гнущих свои спины за примитивными станками от восхода солнца до вечерней зари, байских слуг и батраков, ищущих в религии облегчения и выхода из беспросветной нужды и пришедших сюда, в священную рощу, по примеру своих предков, искать прибежище в молитве, читаемой на непонятном языке арабов.
Было так много народа, что, знакомые в этой толпе должны были искать друг друга целую неделю, а может быть, и больше. И весь этот люд шумел, кричал, стонал, отнюдь не боясь нарушить благолепие святого места. Только временами в коридоре все стихало, и толпа шарахалась в стороны, очищая путь здоровым, краснорожим крепышам, у которых под халатами явно обрисовывалось оружие. Они шли, не глядя по сторонам и не замечая робко кланяющихся людей. А стоило кому–нибудь зазеваться, и увесистый пинок моментально выводил человека из рассеянности. Тогда в толпе слышался робкий, почтительный шепот: «Курбаши такой–то!»
Время близилось к вечеру, когда сквозь шум толпы откуда–то донесся протяжный не то призыв, не то стон.
– «Хызр! Хызр!» – завопили и нищие, и купцы, и босяки, и богачи. Толпясь, ругаясь, все ринулись к выходу в мазар; через минуту коридор опустел, стало тихо, только потрескивали слабо теплившиеся огоньки в черных прокопченных нишах чильтанов…
Быстрой, суетливой походкой по коридору прошел Гияс–ходжа в дорожной одежде. Видно, он только что сошел с коня.
Мутавалли оглядывался по сторонам, разыскивая кого–то. Перед самой дверью он остановился. В темном углу зашевелилась груда тряпья и кто–то хриплым голосом совсем непочтительно спросил:
– Чего тебе, ходжа?
– Это ты, байбача?
Тот, кого иронически называли байбачей – сыном богатого купца, и кого бесчисленные нищие, бродившие по городам и кишлакам знали как своего всемогущего старосту, бобо–камбагала – деда–бедняка, выполз из угла и, не находя нужным даже поздороваться с почтенным духовным лицом, грубо повторил вопрос:
– Что тебе?
Нищенская одежда байбачи вся была в грязи. Видно, он спал там, где его сваливал сон. Весь левый бок халата обгорел; повидимому, ночью, во сне, нищий слишком близко привалился к очагу, к раскаленным углям.
Глаза байбачи были прищурены и слезились; взгляд его был диким взглядом вечно голодного человека. Всякий, кто хоть немного знаком с местными нравами, понял бы, что байбача – завзятый курильщик анаши.
Стоя перед Гияс–ходжой, нищий покачивался, кашлял и плевался. Он ждал подачки.
– Вот что, – сурово проговорил Гияс–ходжа. – Иди в рощу, сядь у хауза и смотри во все глаза.
Байбача молчал.
– Ну, ты меня понял?
Байбача хихикнул:
– Можно сидеть, можно смотреть, и ничего не высидеть, ничего не увидеть.
– Чего ты хочешь, чтобы увидеть: монету или еще что–нибудь?
– Только блюдо плова. Одному мне блюдо плова, – он облизнулся и потер живот обеими руками. – Там столько котлов с семью ручками. А мне, ходжа, только одно блюдо.
– Ладно, – Гияс–ходжа наклонился и вполголоса продолжал: – Так вот, как только увидишь, что приедут всадники в кафирской одежде, проскользнешь во двор молитвы и шепнешь правоверным, сидящим в кругу моления: «Кафир, идолопоклонник приехал осквернить священное место, где в земле лежит нетленный прах пророка Хызра».
Анашист, усиленно шевеля губами, шепотом повторил:
– …Осквернить священную землю… с прахом Хызра…
– Вот–вот, с нетленным прахом…
Гияс–ходжа поднялся по ступенькам и вышел в четырехугольный двор, окруженный зданиями ханаки. На двор выходили сводчатые двери келий, где жили мюриды – ученики и последователи ишана мазара Хызра–пайгамбара. Двор был пуст. Только в сторонке, на небольшом возвышении сидели музыканты – карнайчи, сурнайчи и барабанщики. В ожидании окончания моления они от скуки играли в кости. Увидев Гияс–ходжу, музыканты вскочили и, прижав руки к груди, стали отвешивать поклоны.
– Салом алейкум!
– Ва алейкум ассалом.
Гияс–ходжа быстро пересек двор, но в самом конце его остановился и поманил к себе старшину музыкантов.
– Вот что, Надир–карнайчи. Тут приедет один… богоотступник. Будет смятение в мазаре. Если он побежит через этот двор, загородите ему дорогу. Понятно?
Старшина молча поклонился. Он давно знал Гияс–ходжу как человека власть имущего, а всем власть имущим надлежало подчиняться беспрекословно.
Моление уже началось, когда Гияс–ходжа, через большую сводчатую галерею, окружавшую с трех сторон мазар, вышел на площадь, окаймленную могучими, в десять обхватов, чинарами. Несмотря на то, что здесь сегодня собрались сотни людей, только незначительная часть этого обширного пространства была занята богомольцами. В самом дальнем конце в громадных очагах пылали целые стволы деревьев под неимоверной величины котлами, имеющими действительно, каждый по семи ручек. Семь – магическое число, и котлами с семью ручками можно пользоваться только при изготовлении пищи на священных пиршествах. Дым очагов, смешиваясь с запахом жареного лука и тмина, почти заглушал терпкие ароматы многочисленных курильниц, которыми размахивали перед лицами верующих дервиши, тут же шепотом требуя «худой». Всю эту гамму запахов покрывал своеобразный сладковатый запах анаши, которую курили в чилимах паломники, не принимавшие участия в молении.
Особняком держалась группа хорошо одетых юношей в полосатых халатах, подпоясанных желтыми платками, по–видимому, золотая молодежь, байские сынки. Не обращая внимания на благочестивую, весьма торжественную обстановку, они веселились от души.
По красным, напряженным лицам, заплетающимся языкам и веселым возгласам чувствовалось, что жидкость в их чайниках имеет очень мало общего с чаем.
Проходя мимо этой группы, Гияс–ходжа опустил глаза и вполголоса заметил:
– Тише, друзья… Приближается момент испытания. Когда он отошел на приличное расстояние, один из юношей процедил сквозь зубы:
– Mo–мент ис–пы–та–ния! Испытывай самого себя, ходжа любезный, а я лучше испытаю вот этого пузанчика.
Он похлопал ладонью по чайнику и наполнил свою пиалу.
Из–под сводов галереи слышались ритмичные, выкрики: «Хувва–ха! Хувва–ха, хув–ва–ха».
Сидя на подогнутых под себя ногах, широким кругом расположились богомольцы. Посередине восседал седой пир – хранитель мазара – с бородой до пояса. Он молча раскачивался, как бы дирижируя радением. Сидевшие в кругу ритмично, но с огромной энергией раскачивались вперед и назад, касаясь лбом пола, одновременно с силой выкрикивая два слова: «Хувва–ха! Хувва–ха!»
В период, о котором идет рассказ, такие зикры – религиозные радения – были широко распространены по всей Средней Азии, а руководители басмачества поощряли их, стремясь подогреть фанатические чувства верующих.
Зикры устраивают, как правило, дервиши – мусульманские монахи.
Когда правоверный желает вступить в члены дервишской общины, он должен стремиться постигнуть бога. Но сделать это, как внушает мюриду наставник–пир, можно только путем бесконечного повторения имени божества, сопровождая его физическими упражнениями «над сердцем, имеющим форму шишки, помещающейся в левой части груди и содержащей в себе всю истину». Мюрид должен развить в себе способность сосредоточиться в сердце, отстраняя все посторонние мысли и обращаясь всецело к богу, то есть, получая дар откровения, вразумления или то, что называется «зикр». При помощи зикра, якобы, и достигается цель всех стремлений дервиша – восторг, экстаз, блаженство, в состоянии которого дервиш становится властителем идеи божества.
Люди, способные доводить себя во время дервишских радений до такого состояния невменяемости, были наиболее слепыми и безрассудными басмаческими воинами.
Участники зикра продолжали выкрикивать:
– Алла–ху! Алла–ху! Хувва–ха!
Гияс–ходжа посмотрел на равнодушное, утомленное лицо дряхлого пира и недовольно поморщился. Около него вдруг выросла согбенная фигура Ползуна.
– Вы чем–то недовольны, господин мутавалли? – спросил он.
– Надо подогреть этих людей, – сердито заметил Гияс–ходжа. – Он подумал и вдруг сказал:
– Сейчас я скажу слово.
Раздвинув ряды, мутавалли вошел в круг. Все сразу замолкли, только двое или трое продолжали механически твердить слабеющими голосами: «Ху, ху!»
Закатывая глаза и подвывая, Гияс–ходжа заговорил:
– О ты, многожеланный! Ты, который служишь в час смятения! В глубочайшей темноте ты видишь все вещи. В час стыда и смущения только ты один можешь защитить меня. В час опасности твой верховный разум поддержит меня. Пророк в суре бакрэ изрек: «Порицающие религию да будут уничтожены». О бог! Алла–ху, алла–ху!
Участники зикра, точно бесноватые, завопили: «Ху, ху!» В круг начали подсаживаться зрители, до сих пор равнодушно взиравшие на радение. Крики усиливались, на покрасневших лицах появились крупные капли пота. Многим стало невмоготу сидеть. Они вскакивали и, продолжая кричать, надвигались на старика пира. В радение втягивалось все больше и больше людей. Некоторые, окончательно впав в экстаз, уже не кричали, а дико рычали: «Ху, ху!»
Перебирая четки, Гияс–ходжа похаживал позади теснившейся вокруг пира толпы, с удовлетворением прислушиваясь к яростным воплям. Уже больше часа шло радение.
Но вот взгляд мутавалли упал на группу веселящихся юношей, и лицо его помрачнело. Размеренным шагом он подошел к ним и холодно сказал:
– Что это значит? Вы, сыновья правоверных… Тогда один из пировавших хихикнул и, подняв пиалу, нараспев начал декламировать.
– Чаша любовная, чаша угощения, очередная чаша беседы, чаша дружбы, напои его допьяна.
Он встал, пошатываясь, подошел к Гияс–ходже, фамильярно взял его под руку и, дыша винным перегаром прямо ему в лицо, забормотал:
– Как вы смотрите, о святой, на хорошенькую, полненькую, веселенькую…
– Нечестивец! В таком месте… в такое время!
Он резко вырвал руку и в бешенстве зашагал к ковылявшему навстречу Ползуну. За спиной его грянул взрыв хохота.
– У нас свой зикр! Зикр! Ху–ва–ха. Хува–ха–ха! – вопили юноши .
– Слушайте! – крикнул Гияс–ходжа Ползуну. – Откуда они, эти?
Внезапно он замолк.
Через толпу двигалась группа людей. Впереди шел, как всегда спокойный и слегка улыбающийся, Санджар. За ним следовал Курбан в одежде джигита добровольческого отряда.
Гияс–ходжа стремительно наклонился к Ползуну:
– Ну, на этот раз наш дорогой Санджар попался.
– Как… Санджар здесь?
Ползун резко обернулся. При виде Санджара и его спутников он смертельно побледнел: посох нервно запрыгал в его руке. Горбун обернулся к Гияс–ходже. Во взгляде его можно было прочесть растерянность и гнев. Он прохрипел:



