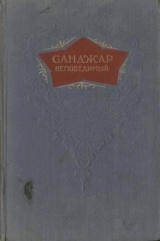
Текст книги "Санджар Непобедимый"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
VIII
На переправе через Сурхан в прибрежных камышах разгорелась перестрелка, которая грозила затянуться до вечера. Нежелание подвергать Саодат опасности заставило командира ограничиться короткой стычкой; затем он двинулся в обход к мало известному броду.
Движение это басмачи истолковали как проявление слабости и начали нагло наседать. И странное дело – пустынная местность ожила: то там, то тут появлялись всадники, открывали беспорядочную стрельбу и тотчас же скрывались за гребнем холма или в тугаях. Парваначи вознамерился использовать неожиданную и столь необычную бездеятельность Санджара и окружить его отряд.
И тогда Санджар уже в наступившей темноте повернул назад, проскочил под самым носом изрядно потрепанной шайки Кудрат–бия, сделал большую петлю и ушел в горные дебри к северу от Регара. Все это стоило огромного напряжения сил.
Когда стало ясно, что, по крайней мере, на некоторое время опасность устранена, Санджар подъехал к совсем примолкшей Саодат:
– Ключи моей жизни в твоих руках, – заговорил он. – Я не держу поводья моих дел. Ты, повелительница, распоряжаешься моим счастьем, – голос Санджара дрожал, когда он декламировал слова забытого поэта Хосрова.
Голубая ночь разливала тихий свет по горным долинам, острым скалам, глубокие впадины прятались во тьме, и только одинокие желтые огоньки пастушьих костров слабо мерцали, то совсем внизу под ногами, то где–то неимоверно высоко, прямо среди звезд… В кишлаках, затерявшихся в горах, тишина ничем не нарушалась, даже кишлачные собаки не подавали голоса.
Притомившиеся кони шли медленно, звонко отбивая подковами шаг по каменистой тропинке. Слышалась вполголоса напеваемая бойцом песенка.
Отряд перевалил невысокий горный хребет и стал спускаться к чуть блестевшей далеко внизу реке.
Снова и снова Санджар пытался заговорить с Саодат, но молодая женщина молчала.
Долгий путь утомил ее до крайности, и только один раз в ответ на пламенную тираду Санджара она смогла выговорить:
– Поэзия, мой друг, хороша, но… не скажете ли вы, когда можно будет немножечко отдохнуть?
Сердце у Санджара сжалось. Он никогда еще не слышал, чтобы Саодат, – непреклонная, мужественная Саодат говорила так жалобно.
Санджар пробормотал поспешно:
– В первом же кишлаке, вон в том ущелье мы остановимся…
И действительно отряд вскоре вступил в селение.
Но не успели бойцы слезть с коней, как где–то недалеко в скалах снова завязалась перестрелка.
Что происходило там, трудно было сказать. Но по гулкому грохоту, усиленному стократным эхом ущелий, можно было понять, что дело затевается серьезное.
Саодат сидела на камне на берегу поблескивающего в темноте говорливого ручейка. Она так устала, что ей было все безразлично. Доносившиеся как в далеком сне выстрелы нисколько ее не тревожили. Она попросту их не слышала.
Санджар стоял тут же, держа своего Тулпара под уздцы и, нервно вглядываясь в темные очертания надвинувшихся на кишлак гор, вполголоса разговаривал с горцем.
– О, конечно, конечно, – говорил горец, – у нас найдется хорошее место для женщины. Очень хорошее. Сама достоуважаемая, прах ступней ее на моей голове, ханум пребывает в нашем бедном селении, недавно соизволив прибыть из города.
– А кто она, ваша ханум?
– Она подлинная госпожа, – горец запнулся, сообразив, что говорит не то, что нужно, – о, не беспокойтесь, не беспокойтесь. У них сын, как говорят, в Красной Армии, командир.
– Это любопытно, пойдемте. Я сам поговорю с ней.
И он пригласил с собой Саодат.
Но тут перестрелка разгорелась с такой силой, что Санджар, пробормотав: «Устройте же ее… Вы отвечаете мне…», вскочил на коня и, сопровождаемый бойцами, исчез.
Горец провел Саодат в аккуратно, насколько это можно было разглядеть в темноте, прибранный двор.
В глубокой нише ворот мерцал огонек фонаря. Взад и вперед суетливо метались темные фигуры. Кто–то визгливым голосом отдавал распоряжения. С лаем бегали по соседним крышам собаки.
Саодат бессильно опустилась на глиняные ступени. Кружилась голова, темные пятна стояли перед глазами. Ноги, руки, поясницу ломило, глаза слипались.
Заставило ее очнуться легкое прикосновение руки к плечу. В темноте перед ней стояла женская фигура.
– Что вам угодно? – устало спросила Саодат.
Старческий голос ответил:
– Госпожа ждет вас на женской половине.
Не задумываясь над тем, что это, наконец, за госпожа, о которой говорят столь почтительно, Саодат безропотно пошла за проводницей. Они прошли через темную комнату в небольшой дворик. Распахнулась дверь, и Саодат очутилась в ярко освещенной михманхане, увешанной гранатового цвета коврами.
Когда молодая женщина узнала, что попала в дом Амины–ханум, жены Хакима денауского, родной матери Санджара, она даже не удивилась. Все события последних дней слишком были похожи на тяжелый болезненный сон…
У Амины–ханум Саодат пришлось прожить несколько дней.
Утром Санджар не вернулся. А мать его, вообразив, что видит в Саодат свою будущую сноху, старалась расположить ее к себе. Старуха, видно, надеялась при помощи молодой женщины найти путь к сердцу своего сына. Она без конца рассказывала о минувших днях блеска и величия бекства денауского. Саодат волей–неволей слушала, тем более, что только это нарушало однообразие тянувшихся бесконечно дней ожидания…
– Доченька моя, увы, три года прошло, – печально рассказывала Амина–ханум, – как разрушились основы власти, установленной богом, и подверглись гонениям и бедствиям могучие правители нашего государства.
Но здесь Саодат перебивала старуху и гневно говорила об эмирском строе. Молодая женщина страстно клеймила гнусность бекских гаремов и от души восхваляла русских большевиков, которые помогают народу искоренять отвратительные порядки. Саодат в эти минуты забывала, что она по существу одна, что в этом глухом полудиком горном селении ее окружают силы, если не явно враждебные, то отнюдь не дружелюбно настроенные. Что они, эти силы, едва ли могут спокойно снести нарушение диких, закоснелых традиций феодального быта и изуверской религии. Женщина, открывшая лицо, попирала самое священное, что предписывалось в семейной жизни адатом и шариатом.
Но Амина–ханум в своей слепоте не сумела разглядеть в Саодат активистку, боровшуюся за раскрепощение женщин, а принимала ее за немного взбалмошную, капризную красавицу, полюбившую Санджара и поэтому своенравно поступившую со своим мужем Гияс–ходжей. Амина–ханум не придавала особого значения словам Саодат, считая их временной блажью и, будучи высокого мнения о своей мудрости и опыте, решила воздействовать на ее чувства средствами и посулами, перед которыми, с ее точки зрения, не может устоять сердце ни одной женщины, а особенно молодой и красивой, стремящейся к неге и мужской ласке.
Старуха обычно сидела в углу у маленького столика, по–турецки поджав под себя ноги и, раскачиваясь из стороны в сторону всем своим дородным туловищем, рисовала картины одну заманчивее другой.
– Да, доченька, жду не дождусь, когда добрые джины перенесут меня отсюда в благословенные долины, где ждет меня мой бек… Там, как раньше, в цветущем саду, на зеленеющей траве никогда – и день, и ночь, и утром, и вечером – не убирается шелковый дастархан. В блюдечках и тарелочках тончайшего китайского фарфора разложены и конфеты, тающие во рту, и пушистые персики, и фисташки, и миндаль… А сколько сортов кишмиша – и черного с серебринкой, и розового, и с косточками и без косточек, и перемешанного с миндалем! А пряники из орехов и фисташек! А золотистый виноградный мед, а сдобные лепешки, и на масле, и на сале, и на сметане!.. Поверь мне, доченька, от такой жизни, полной блаженства, не отказалась бы самая строптивая и свободолюбивая степнячка. Да, поверь мне, когда за мной прискакали в мой кишлак Кош–Как и увезли меня из нашей глиняной мазанки, затерянной в далекой пустыне, в чудный сад, к чудному дастархану, о котором не смеют мечтать и райские гурии, когда вместо грубой бязи я на своем теле почувствовала индийскую кисею и самаркандский тончайший шелк, – о, тогда я готова была броситься в объятия даже уродливого, горбатого старца. А тут передо мной предстал высокий, статный, красивый… И мы тоже, поверь, душа моя, не были уродливы, – не без самодовольства усмехалась Амина–ханум, – и наше тело было, как у тебя, и бело, и упруго, и полно очарования для мужчины, а может быть еще привлекательнее, потому что ты, матушка, при всей своей прелести, слишком сухопара и тоща, чего уже никак нельзя было сказать про нас. – Она начинала гордо охорашиваться. – И как может упрекать меня мой сын Санджар, что я смирилась со своей участью пленницы, подчинилась, забыла обо всем… стала верной рабой бека – могущественного, сильного, великолепного… Как можно меня, слабую, винить, что я забыла свою степь. И потом ведь я знала, что моему сыну хорошо с тетушкой. Но такова участь матерей в нашем несовершенном мире. Не успеет сын вылететь из родного гнезда, и уже начинает поучать ту, которая его породила в муках…
Тогда Саодат перебивала Амину–ханум:
– К чему вы мне все это рассказываете?
– Я знаю, ты гордая, хоть и не пойму, чего ты хочешь. Или ты не желаешь стать женою моего сына Санджара? Но, душа моя, кто же будет спрашивать твое желание? Тебе придется подчиниться его воле. Пришлось подчиниться мне, приходится подчиняться и тысячам наших сестер, такова наша участь – женщин. Санджар – могущественный узбекский воин, и неужто ты, слабая женщина, посмеешь спорить с его волей и сопротивляться его неодолимой силе?
Старуха испытующе заглядывала в бледное, печальное лицо Саодат и продолжала все тем же певучим голосом, как будто убаюкивая ее.
– Мы, женщины, всегда, испокон веков подчинялись мужчине. А мужчины становились послушны и безропотны в руках женщины. Ты красива. Перед твоей красотой растает суровость сына моего и тогда…
Здесь она начинала страстным шепотом уговаривать, заклинать Саодат:
– Только ты, красавица, сможешь повернуть Санджара на правый путь. Только ты своими словами и ласками заставишь его отвернуться от большевиков, от безбожников. И тогда Санджар станет могучим властелином и беком. А ты, Саодат, ты будешь со своей красотой и прелестью первой и любимейшей его женой. – Она переходила на шепот. – Золото, серебро хранятся в больших мешках в тайных местах, о которых знаю только я. Близко… Совсем близко. А слуги – они теперь молчат, мертвые – немы. Мой бек позаботился об этом. Табуны огненных скакунов угнаны за Аму–Дарью, неисчислимые отары гиссарских овец пасутся на пастбищах Гиндукуша под верной охраной. В горных тайниках лежат запасы товаров – сахару, чаю, шелков, холста, ковров… И все это будет в руках Санджара, достаточно ему будет сказать «да». Скажи ему… Обвей ему шею своими нежными руками. Умоли его, упроси… Будь ласкова, он не устоит…
Но видя, что Саодат молчит, Амина–ханум свирепела:
– Ты не слушаешь! Ты, жалкая, не понимаешь, что должна заслужить честь стать женой моего сына. Ты даже не девушка, ты разводка… Ты ноги ему должна целовать. Зачем ему жениться, делать тебя первой женой, госпожой, да он может спать с тобой как со всякой служанкой… Твоя цена, душа моя, хоть ты и красавица, в десять раз ниже самой плохонькой девушки–дехканки, провонявшей кизяком и своими лохмотьями едва прикрывающей свой стыд. А если ты откроешь ему путь к богатству, к силе, к власти…
– Перестаньте, – протестовала, бледнея, Саодат. – Как вы, женщина, можете говорить такое, забыв о своем женском достоинстве? Неужели…
– Достоинство? Женское достоинство? Наше достоинство в том, чтобы услаждать досуг мужа.
Слезы обиды блестели на прекрасных глазах Саодат. Отвратительные воспоминания пронизывали ее тело. Опять Гияс–ходжа с елейной улыбочкой приближался к ней и тянулся к ее телу липкими пальцами.
Встряхнув косами, она отгоняла видение и говорила со злостью:
– Как вы можете думать, что Санджар погонится за богатством? Он – за Советы, он – воин Красной Армии. А верность – свойство истинного воина…
– Кто откажется от богатства, от власти? Но я вижу, доченька, ты хвалишь Санджара. О, это очень хорошо. Ты не будешь долго упрямиться.
– Нет, вы ошибаетесь, матушка Амина–ханум. Я уважаю Сандажара, но…
И она стыдливо опускала глаза.
Амина–ханум торжествующе хихикала и принималась описывать со всеми подробностями той, который будет устроен по случаю свадьбы Санджара и Саодат.
Погрузившись в невеселые свои мысли, Саодат молчала.
– Что ты молчишь все, – ворчала старуха, – что тебе, когда ты в люльке лежала, вороны, что ли язык выклевали?
И снова начинались уговоры.
Дни шли за днями. За дувалом, внизу, шумел горный поток, над головой шелестела листва исполинских чинаров, похожих на башни сказочных древних замков. Саодат изнывала в ожидании.
В радостное горное утро в доме, во дворе вдруг все засуетились. Амина–ханум встревоженным голосом отдавала распоряжения. Какие–то старухи бегали взад и вперед. До ушей Саодат донеслись слова:
– Спускаются! Спускаются с Красного утеса. Над кишлаком неслась песня:
Огонь отваги Санджара
Высечен молнией его кинжала.
Конь его огненным смерчем
Летит вперед.
Куда бы ни устремился он
Бурно, подобен пламени,
Там наступает судный день.
Пришел отряд.
Но Санджар, несмотря на неоднократные приглашения, отказался заехать в дом своей матери. Он направился в чинаровую рощу, в общественную михманхану, пожелав воспользоваться гостеприимством кишлачной общины.
В каждом кишлаке горной страны есть такая михманхана. Она расположена, обычно, в тени вековых деревьев, на берегу ручья. Небольшое фундаментальное здание с террасой и хорошо расчищенной площадкой перед ней. В нише аккуратно сложены подушки в чистых наволочках, на полу одеяла, кошмы, циновки, паласы, иногда ковры. В небольшом чулане или прихожей медные кувшины, подносы, чайники, посуда, небольшой запас муки, риса, вареного мяса, сушеных фруктов.
Едва усталый путешественник присаживается на террасе, как на площадке появляется дехканин. Он вежливо приветствует странника. Идут расспросы о новостях, о здоровье, погоде, но только не о делах и не о личности пришедшего.
А тем временем вокруг михманханы начинается движение. Чьи–то расторопные руки уже разожгли костер, а если это зима – очаг. Уже кипит вода в чугунном кувшинчике, уже появился поднос с пышными белыми лепешками. Что–то журчит и шипит в котле, и ноздри приятно щекочет запах жареного лука…
И так всюду – от Байсуна и до Памира, от Ура–Тюбе и до Гиндукуша. Древний обычай. Путник – гость общины. Обычай, позволяющий путешественнику даже в суровую зиму чувствовать себя в горах, как дома.
На очень трудных участках горных дорог есть такие михманханы и в стороне от кишлаков. Часто это высеченная в склоне горы пещера, в которой заботливые руки горцев постоянно держат и топливо, и воду, и кое–какие продукты…
Санджар расположился в михманхане. До вечера сидел он в кругу кишлачных стариков и рассказывал им о великих вождях народа, о земле, ставшей собственностью народа, о новых светлых временах, наступивших для трудового люда.
Под вечер пришла Саодат. Ее чуть не силой погнала Амина–ханум. Старуха наивно воображала, что Санджар не устоит перед женскими чарами и перед рассказами о несметных богатствах…
Все рассказала Саодат, но совсем не так, как хотела Амина–ханум.
– Я должна была сказать, – медленно проговорила молодая женщина, – ваша мать вырвала у меня обещание. Я, не колеблясь, сказала вам все, я слишком уважаю вас, чтобы… чтобы подумать…
Под взглядом Саодат Санджар заметался:
– Будь я последним бродягой, – с яростью крикнул он, – если я дал повод думать так плохо о себе! Ценой предательства я ничего не возьму из рук матери, хотя бы она предлагала все богатства мира. Я их найду сам, я выкопаю их из–под земли, я верну их народу…
Даже в спустившейся темноте видно было, что лицо Саодат просияло.
По–своему Санджар истолковал это и привлек к себе молодую женщину. Она медленно отстранилась от него, но Санджар, ничуть не смутившись, вдохновенно проговорил:
– Из всех благ, из всех драгоценностей, что сулит мне мать, я беру только одно сокровище, один сверкающий изумруд… тебя, Саодат. И я не стану спрашивать разрешения старухи, я не пойду по тропинке измены, мне не нужно становиться беком или ханом, чтобы Саодат стала моей… – Он снова протянул руки и остановился, пораженный выражением лица Саодат.
Долго стояла неподвижно молодая женщина, низко–низко опустив голову. Когда же она подняла ее, глаза ее были полны слез.
– Нет, – сказала Саодат, – нет. Пойми, Санджар, ум мой с тобой, но сердце мое молчит… Не знаю почему… но молчит.
…Как обычно на юге, ночь спустилась в долину стремительно. Из–за горы встал молодой месяц и засеребрил вспененный говорливый поток. Снизу, из ущелья, потянуло свежестью.
Над обрывом стояли Санджар и Саодат.
Он сжимал ей руку. Она не отнимала ее у него.
Немного слов было сказано. Неукротимый, неистовый Санджар никак не мог решиться задать последний вопрос.
Ему помогала сама Саодат. Через силу, печально она сказала:
– Да, Санджар, друг. Это так.
– Это твердо?
– Да, да, совсем твердо.
И она печально добавила:
– Пусто в моей душе. А разве соловей слетит на оголенные осенней непогодой ветви?
Он порывался сказать еще что–то, но Саодат мягко его перебила:
– Помоги мне уехать отсюда, скорее уехать. И прости.
Санджар проводил Саодат в Денау. В дороге они разговаривали, но это были все незначительные, маловажные разговоры.
Там, над обрывом, в свете молодого месяца, Санджар многое понял, но многое осталось ему неясным в рассказе Саодат о своей горькой жизни, о желании порвать со всем, что хоть немного напоминало старое, о намерении учиться, работать… Без злобы, без гнева, смирив свою страсть, с тихой грустью он склонил голову перед волей любимой женщины
IX
– Удивительная тишина, – пробормотал Джалалов. И он посвистал, стараясь нарушить молчание ночи. Но свист был так робок и жалок, что сам Джалалов невольно сконфузился и замолк.
– Хоть бы собака залаяла! – прозвучал сдавленно и глухо голос Курбана. Он ехал позади и до боли напрягал глаза, отчаянно вертел головой, наклонялся, приподнимался на стременах – и все впустую – ни малейшего просвета в бархатной тьме ночи обнаружить не удавалось. Он беспокойно вздыхал, тихонько ворчал и сплевывал.
– Где едем? Как едем? Что едем? Бог знает! – и вдруг он разразился руганью, совсем неуместной рядом с упоминанием бога.
– Истинно так! Истинно так! – прозвучал совсем рядом чей–то голос.
Курбан удивленно крякнул и резко повернулся на седле.
– Истинно, – продолжал тот же голос. – Вы добрый мусульманин. Только почтенный человек со спокойной совестью может так выражаться.
– Кто здесь?
Тот же неизвестный спокойно проговорил:
– Не спрашивайте в дороге об имени. Что такое имя? Кличка. И не все ли равно, как сейчас тебя назовут: Абдуллой или Расулем, Ибрагимом или… Шахабутдином. Еду я за вами давно и по разговору понял, что люди вы почтенные. Слова ваши связаны с войной. Вы не из людей ли славного парваначи?
Джалалов и Курбан возблагодарили про себя аллаха и его пророков, что сдерживали себя в пути и не болтали попусту. Джалалов заметил:
– Вы же сами, друг, сказали: «не спрашивайте». Да и что я могу сказать собеседнику, лица которого я не вижу, а присутствие которого ощущаю только ушами… на слух, как говорится.
Ответ ли не пришелся по вкусу спутнику, или он просто не нашелся что сказать, но все замолчали. Дробно стучали копыта. Чуть белела тропинка. Временами с севера от снежных хребтов проносились свежие порывы ветра.
Вдруг неизвестный заговорил. И сразу стало понятно, что Джалалова и Курбана он принял действительно за басмачей и поэтому не считает нужным скрывать своих чувств.
Он охал и стонал. Поток сбивчивых путаных фраз хлынул, не сдерживаемый больше никакими преградами и запрудами.
Долго нельзя было ничего понять в этих вздохах и стонах, обрывках фраз. Джалалов сначала пропускал болтовню незнакомца мимо ушей, потеряв всякую надежду уловить в ней хоть какой–нибудь смысл.
– Бож–же, – стонал неизвестный спутник, – о господи, опять шакалы по кладбищу заметались… Тяжко и трудно… честному мусульманину с шакалами… Отрепья вшивые залезли нам на спины и еще рот разевают. А честному убавление славы и богатства… Времена, когда всякий шакал лезет лапой в мешок и бренчит золотыми. Как, о бож–же, это назвать? Шакалы тут как тут. Сколько денег, угощений, поклонов стоило, и все пошло прахом. Только три года…
– Зачем же тратились? – перебил говорившего Курбан.
Но неизвестный ничего уже не слушал.
– Стрела вонзилась в сердце… Быстро так прошли годы. Прошли и ушли. Птица счастья села на голову и улетела. Только ее и видели. Спугнули ее проклятые, а? Бож–же!
Расположившись поудобнее в седле, чтобы дать хоть немного отдохнуть ноющим костям, Джалалов стал вслушиваться в беспорядочную речь спутника.
– Глаз аллаха и во тьме все видит, – хрипел спутник. – Ну вот, он послал мне на помощь вас, друзей. Их превосходительство Кудрат–бий послал вас помогать мне. Очень хорошо! Спасибо их превосходительству. Они хорошо знают сарыассийского судью Шахабуддина. Я их очень, очень уважаю. Правда, вы поможете мне черную кость заставить послушной быть, чтобы не вякала? А то распустишь их, – они сейчас же вонять начнут. Раньше бек пришлет на выборы своих нукеров, и все благолепно и достойно было, а сейчас я так тревожился, так беспокоился, кто же порядок наведет? Только горечь волнения переполнила мое сердце и подошла к горлу и вдруг слышу – вы едете…
Подъехав вплотную к Курбану, Джалалов шепнул:
– Ого, да ведь это сам сарыассийский казий Шахабуддин… Ну, смотри, только ни гу–гу. А то спугнем птичку.
Так же шепотом Курбан ответил:
– Вот она, птичка счастья нам… Зачем болтать!..
– И кто выдумал выборы, прямо от них мозги все переворачиваются, – продолжал Шахабуддин. – Не дают людям покоя. Сидишь на мягких одеялах, как на острых камнях. Все думаешь и думаешь, сколько народу придется накормить, сколько денег на пиршество истратить, сколько рук смазать, чтобы были жирными, сколько глоток заткнуть, чтобы помалкивали, – и все зачем? Только для того, чтобы после двух десятков лет трудов и забот о благе народа и постоянного, неподкупного и неуклонного соблюдения великого закона ислама взять вновь на свою шею бремя справедливости и в повседневных беспокойствах и напряженных трудах осуществлять правосудие.
Стараясь переспорить воображаемых противников, казий доказывал, что он готов опять взяться за выполнение обязанностей судьи из бескорыстных побуждений – для насаждения среди невежественной черни истинных и непреложных принципов закона. Он, Шахабуддин, дескать, готов, ради высокой цели, раздать последние жалкие крохи своего имущества, якобы вконец разоренного большевиками… И на головы большевиков посыпались самые витиеватые проклятья. Но не только чернь и большевики беспокоили Шахабуддина. Стало ясно (и Джалалов поспешил это учесть), что и среди баев и помещиков нет единства.
– Проклятые они! У них на губах мед, а в сердце уксус, – жалобно причитал Шахабуддин, – они трепыхаются по базарам, как курица с подпаленными крыльями и ошпаренными ногами, и все шепчут и злословят, разбрасывают капли яда и клеветы. Они смеют заявлять, что я притеснениями и обидами довел народ до озлобления, что народ якобы говорит: «Когда этот Шахабуддин возьмет мягкую лепешку и обмакнет ее в сливки, то пусть она прорвет ему глотку!»
– Кто же это они? – удалось ввернуть словечко Джалалову.
– Как кто они? О бож–же, молодой человек, слышу по вашему звонкому голосу, что вы еще молоды. Так вот я час уже вам толкую о всех этих чалмоносцах, ишанах да баях. Так создан мир! Где есть люди, там разногласия. Каждые десять ишанов и баев хотят своего казия и не хотят Шахабуддина, каждые десять помещиков…
– Позвольте, достопочтенный казий, – снова спросил Джалалов, – о каких десятках вы говорите? Это ишаны, баи, а дехкане? Их не десятки, а тысячи.
– Ха, – взвизгнул Шахабуддин, – кто говорит об этом быдле? Их дело идти за уважаемыми людьми, седобородыми илликбаши и юзбаши. Пусть комиссары из Бухары и Ташкента навязывают нам советские порядки, – мы, умные люди, знаем, что делать. Народу пикнуть не дадим. Все произойдет так, как приказано, а только на самом деле будет по–нашему, – хихикнул он. – Что же вы думаете, Мазар–и–Шериф да Кабул дальше, что ли, чем Ташкент, а господа англичане глупее комиссаров? Эти большевики только разговорами занимаются, а у наших есть кое–что получше болтовни. Кое–что полновесное, да звенящее, да сверкающее… Хэ, хэ… при виде золотых кругляшков быдло побежит за нами на край света, забыв о разных там… как большевики называют… свободах, что ли! Да и на что копающимся в навозе дехканам свобода? Им бы только пожрать. Эх, когда у нас есть желтые тяжеленькие кружочки, мы никого не боимся – ни комиссаров, ни эмирских прихвостней, вроде сынка сарыджуйского бека.
– Как так? – насторожился Джалалов.
– Как, как! Да очень просто. Эмир тоже своих подсылает, чтобы его человека судьей выбрали.
– А вы от кого? – не удержался Курбан.
– Э, молодой человек, не все говорится вслух. Ну, вам уж я, так и быть, скажу, только тихонько. Кто такой Кудрат–бий, а? А кто друзья у Кудрат–бия, а? Сильные–друзья, и у друзей есть такие бумажки со львом единорогим, а? Хэ, хэ. Вот то–то и оно… Каждый думает о своем благе. Пусть эмир сидит себе в Кабуле и поторговывает каракулем, а большим хозяевам не больно он нужен. Да и на что он способен – их светлость, их высочество? Не успела пушка выстрелить, как он показал всем зад, а тут без него разбирайтесь. Нет, мы работаем не на эмира. Нам и без эмира будет у кого получать милость.
Некоторое время казий ехал молча. Но другие претенденты на пост судьи, видимо, очень тревожили Шахабуддина, так как вскоре он заговорил снова.
Он пытался снискать благорасположение воображаемых эмиссаров Кудрат–бия, за которых он принял Джалалова и Курбана. Теперь, когда ему показалось, что он выставил себя в самом выгодном свете, он стал расписывать, сколько он баранов зарежет, сколько и чего подарит кудратбиевским нукерам, сколько преподнесет почтенным лицам. Какой пир он задаст, если будет выбран на должность судьи, какие будут яства, каких он пригласит луноликих бачей, а может быть если удастся, даже крутобедрых танцовщиц для особо почетных гостей. Более того, пусть это будет небольшим нарушением предписаний шариата: он, Шахабуддин, будет смотреть сквозь пальцы, если среди угощения окажется несколько чайников с «живой водичкой». Тут Шахабуддин сладострастно хихикнул.
– Вы уж не беспокойтесь, – лебезил казий, – все будет, все будет. Скажите, друзья, куда вам пригнать по баранчику, где ваше место обитания? Только вы помогите мне. Я буду хорошим казием, во славу пророка, да будет он…
– Поможем, поможем, почтенный, – важно заявил Курбан. – Только во время тоя побольше нам горячительного, да обязательно объятия гурий. И все будет, как надо.
Казий пришел в восторг от заявления Курбана.
– Вы образец всех совершенств. Надеюсь на ваше содействие, – еще более льстивым голосом просипел он.
– Мы вам так поможем, – продолжал Курбан, – что вы всю жизнь будете помнить, а по всей стране гор и степей о выборах и о казий Шахабуддине будут сказки сочинять!
– И вы сделаете так, чтобы народ поддержал меня?
– Да, да, конечно, мы заставим народ выразить его подлинные чувства к вам… – Он не закончил свою мысль и радостно воскликнул: – Огонек, смотрите, огонек! Еще… и еще…
Лошади заспешили. Еще нельзя было что–нибудь разобрать в темноте, но чувствовалось, что дорога пошла под уклон.
Начался крутой спуск, лошади спотыкались и скользили.
– Черт! – вдруг воскликнул Джалалов:
– Что случилось? – спросил во мраке голос казия.
– Вода, мы едем по воде… Река, что ли?
Пошарив в кармане, Джалалов вытащил спички. Слабый красный огонек на секунду отразился в воде. Лошади, фыркая и отряхиваясь, жадно пили.
– Откуда здесь вода? – удивленно проговорил Шахабуддин. – Отсюда до реки шагов триста, неужели начался паводок?..
Путники с тоской поглядывали на мерцающие за рекой огоньки. Они стали сразу такими далекими и чужими. Усталость разламывала тело, ныли ноги, руки, голова раскалывалась, лицо горело.
– Ну, что же, мы так и дальше будем стоять? Всю ночь, что ли, с места не двинемся? – раздраженно протянул Джалалов. – Поехали!
– Нельзя, – проговорил сердито казий. – Нельзя ехать. Наверно, в горах дожди сильные прошли. Я видел днем большие тучи над Гиссаром – свинцовые, зловещие тучи…
– Тучи, это хорошо, – зазвучал голос Курбана, – но не можем же мы всю ночь сидеть здесь. Вы, господин казий, умудрены опытом, знаете здешние места. Дайте совет согласно… законам шариата.
Не поняв насмешки, Шахабуддин самодовольно проговорил:
– Как же, как же, сейчас все устроится. Тут близко один человек живет, старый сучи. Он меня знает. Если я его попрошу, он нас переправит через Сурхан так, что мы даже пяток не замочим. Я только попрошу, и ради меня он все сделает. Он очень хороший мусульманин и, как подобает, с уважением исполняет повеление знатных… О, я только мигну, и мы окажемся на том берегу.
Долго искали на берегу хижину перевозчика. Перебирались два три раза через небольшие протоки, обычно почти сухие, но сейчас наполненные черной и тяжелой водой, с ворчанием мчавшихся среди мохнатых кустарников. Заехали в тугай и долго не могли из него выбраться.
На хижину натолкнулись совершенно случайно.
– Эхей, сучи! – закричал, что есть силы, Шахабуддин. Но хижина молчала. В тишине глухо и монотонно
шумела река.
– Эй, кто тут есть?
Казий кричал долго и надрывно.
Когда Курбан хотел уже слезть с коня, вдруг заскрипела дверь и простуженный голос недовольно спросил:
– Что орете? Мешаете спать. – Громкий зевок сопровождал эти слова.
– Бож–же! Это вы, дорогой Самык! О знаток всех переправ, о искусный из искусных!
– Кто это? Кого там по ночам носит?! – все так же раздраженно спросил перевозчик.
– Это мы, казий сарыассийский, Шахабуддин.
– Ну, и что вам надо?
Джалалов подумал, что перевозчик совсем уж не так уважительно относится к казию и что едва ли им удастся сегодня добраться до кишлака.
– Времена! Ох, и времена, – простонал Шахабуддин, – ну, давай, веди хоть в свою конуру.
Тяжело пыхтя, он слез с лошади. Джалалов и Курбан пошли за ним.
В тесной хибарке хозяин раздул огонь. Из мрака выступило одутловатое его лицо, покрытое короткой, жесткой щетиной. Глаза старика заплыли, лысый череп лишь наполовину прикрывала потрепанная тюбетейка. Халат хозяина состоял из наслоений заплат, кое–как скрепленных толстыми суровыми нитками. Руки его непрерывно дрожали. Полную противоположность хозяину представлял казий. Его блестящий шелковый халат звонко шуршал, чалма ослепляла белизной. Толстые розовые щеки Шахабуддина были обрамлены седоватой бородой. Бегающие, непрерывно ищущие глазки вызывали брезгливое чувство. Что–то отталкивающее было во всем облике этого холеного сытого человека.



