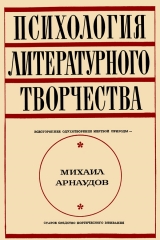
Текст книги "Психология литературного творчества"
Автор книги: Михаил Арнаудов
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 53 страниц)
3. ВНИМАНИЕ И ЕГО ФОРМЫ
Чувствовать и воспринимать, замечать и неустанно собирать впечатления – и притом всё в одной постоянной форме – основная черта творческой личности и важнейшее предварительное условие того богатства образов, которым отличается всякое значительное художественное произведение. Это свойство является прежде всего делом нашей нервной системы и уже потом той особенной психической энергии, которую мы называем вниманием. Разнородные впечатления поступают то помимо нашей воли, то при участии интереса, проявленного к ним. И в том и в другом случае, сохранённые как воспоминание и способные легко возобновляться, они являются краеугольным камнем всякого творчества. Несомненно, первоначальное назначение восприятий и внимание не имеет ничего общего ни с умственными, теоретическими интересами, ни с каким-либо эстетическим созерцанием; здесь речь идёт о чисто биологических функциях, имеющих целью, как это было раскрыто уже Ламарком, сохранение рода. Животные и первобытный человек – в поисках пищи или спасаясь от опасности – воспринимают, руководствуясь борьбой за существование, так что не без основания такие учёные, как Гросс, усматривают в инстинкте подкрадывания проформу всякого внимания [114]114
К. Gross, Die Spiele der Menschen, Jena, 1899, S. 180.
[Закрыть]. Если мы прибавим ещё те чувства и инстинкты, которые образует наше личное я, всё то, что, как страх, гнев, сексуальный инстинкт и т.д., наполняет наше сознание и направляет нашу деятельность, мы будем иметь необходимые предпосылки внимания как моторно-афоректного явления, связанного с жизненными нуждами и саморазвитием индивида [115]115
R. Müller-Freienfels, Das Denken und die Phantasie, S. 47, 49.
[Закрыть]. Со временем, благодаря медленной эволюции, ведущей к более широкому и более чистому познанию, отношение человека к внешнему миру претерпевает большие изменения, и он жаждет впечатлений или расходует значительную энергию на внимание, движимый уже свободным любопытством и связанным с ним наслаждением. Независимо от этого и в качестве одного не столь глубокого и не столь важного психического наслоения следует отметить те восприятия, которые мы можем назвать непроизвольными. Они наступают без всякого усилия, без всякого желания, автоматически, но всё же играют роль, когда вспоминаются и когда освещённые новым чувством становятся ценными для личности. Наверное, в основе своей и они являются такой же субъективной реакцией, обусловленной элементарными предрасположениями, как и настоящие, волевые восприятия, так что различие может относиться только к степени их активности или интенсивности. Но поскольку при одних имеется отчётливо осознанный и живой интерес, имеется ожидание или возбуждение, а при других – известное равнодушие и сравнительно слабый резонанс, мы говорим о неодинаковых по виду формах восприятия.
Для прирождённого художника одинаково важны как одни, так и другие восприятия. Он естественно привлечён к наблюдениям, которые могут послужить материалом его произведений. Крайне впечатлительный, он весь – зрение и слух, обращённые к окружающему его миру, он быстро замечает, верно схватывает, и то, что привлекло его внимание, оставляет неизгладимые следы в его душе, в соответствующих нервных центрах. На весьма тонкой чувствительности зиждется, по мнению Гёте, то, что талантливые личности в искусстве способны испытывать «редкие впечатления». Гёте отмечает это в других, но это же относится и к нему, раз однажды он сделал признание, что не мог легко освободиться от сильных неприятных впечатлений, поэтому избегал всего, что могло бы испортить его воспоминания. «Относительно моей способности к чувственному восприятию (sinliches Auffassungsvermögen) я так странно устроен, что удерживаю в своей памяти все очертания и формы самым резким и самым определённым образом… Без этой обострённой способности к восприятиям и впечатлениям я бы не мог индивидуализировать и оживить мои образы» [116]116
Разговор Гёте с Ф. фон Мюллером, 17/V-1826; ср.: Biedermann, Goethes Gespräche, III, 1910, S. 265.
[Закрыть]. И именно эта «лёгкость и точность восприятия» заставляла его долгие годы воображать, что он имеет призвание и талант к рисованию. Если, как он отмечает, при этом особенно сильно запечатлевались неприятные видения, то психологически это объяснить нетрудно: мучительное возбуждение наносит вред либо нашему духовному я, либо всему нашему существу, нашей жизни; оно пробуждает в большей степени наши заботы, поскольку не отвечает интересам и желаниям, и сильнее смущает нашу чувствительность; поэтому хранится в воспоминаниях дольше, чем всё приятное.
Всю свою творческую работу Гёте сводит к пластическому воспроизведению полученных однажды впечатлений, к задаче пробуждения и у читателей тех же свежих и пёстрых впечатлений, которые испытал когда-то сам автор [117]117
Eckermann, Gespräche, 6/V-1827.
[Закрыть]. И в своих научных занятиях великий веймарец придерживается того, чтобы видеть предметы своими собственными чистыми глазами [118]118
Goethe, Versuch aus der vergl. Knochenlehre. Fortsetzung, 1820, 1. Abschnitt; ср. письмо к Ф. фон Якоби, 17/Х-1796.
[Закрыть], схватывать их настолько ясно и глубоко, насколько возможно, чтобы не остаться при каких-то средних, неопределённых представлениях [119]119
См. письмо к Ф. фон Якоби, 17/Х-1796.
[Закрыть]. Поэтому он решительно одобряет, когда один антрополог называет его мысль «предметной». Этот учёный хотел сказать, замечает Гёте, что «моё мышление не отделяется от предметов, элементы предметов, созерцания входят в него и интимнейшим образом проникаются им; само моё созерцание является мышлением, мышление – созерцанием» [120]120
Гёте, Значительный стимул от одного-единственного меткого слова, Избр. философ. произв., М., 1964, стр. 277.
[Закрыть]. Это относится также и к его философии, так как и там он остаётся верным «своей старой поэтическо-научной практике» отдаваться глубокому и спокойному созерцанию, будучи как будто «идентичным с природой» [121]121
См. письмо к Ф. фон Якоби, 23/XI – 1801.
[Закрыть]. Даже свою гениальность, называемую другими каким-то ясновидством, не зависящим от опыта, он хочет свести к следующему: «Я оставляю предметы спокойно действовать на меня, наблюдаю после этого действие и стараюсь передать его верно и неподдельно. Здесь вся тайна того, что любят называть гениальностью» [122]122
F. v. Müller, Goethe in seiner praktischen Wirksamkeit, 1832.
[Закрыть]. Какие бы проблемы ни затрагивал Гёте, естественно-научные, моральные, общественные, литературные; какие бы мнения ни высказывал, он всегда верен самому себе и всегда его максимы попадают в цель некоторой стороны истины или, самое малое, обращают наши взоры на новую сторону вещей. Потому что он избегает судить, руководствуясь предвзятыми понятиями, и стремится уловить вещи ясно, объективно и конкретно. Его мировоззрение в течение всей жизни характеризуется устойчивостью и гармонией, ему чужды спекулятивно построенные философские системы. Основанное на непосредственном опыте, это мировоззрение поражает нас точностью, свежестью взглядов и той внушительной правдивостью, которая характеризует сами восприятия гениальной личности.
Глубокое и спокойное созерцание, которое Гёте считал основой всех своих философских идей, научных открытий и поэтических концепций, приводит нас к вниманию в его более искусственной, более культурной форме. Это созерцание предполагает известное упражнение, известную практику, так как оно является чем-то весьма отдалённым от неразвитой формы той же психической деятельности, от непроизвольного или спонтанного внимания. Коренного различия, как мы уже подчёркивали, здесь нет, и на практике две функции – неправильное внимание, с одной стороны, и произвольное, с другой, – скрещиваются и многократно усиливаются; второе даже немыслимо, если оно не находит поддержки у первого [123]123
Ср.: Th. Ribоt, Psychologie de l’attention, Paris, 1900, p. 3, 47; R. Müller-Freienfels, Das Denken und die Phantasie, S. 30– 40, 47.
[Закрыть]. Но если непроизвольное внимание подчинено случайностям и связано почти исключительно с низшими чувствами, произвольное внимание ищет, выбирает, останавливается с умыслом на предметах и предполагает более активную мысль и послушную волю. Здесь есть осознание цели, есть и продолжительная устойчивость, обусловленная более высокими эмоциями и аффектами – главное удовольствием, которое жажда познания, страсть к открытиям порождает, предвосхищая результаты.
И при одном и при другом внимании мы имеем дело с двигательными явлениями, которые находятся в прямой связи с возбуждением и которые, со своей стороны, повышают отчётливость ощущений. Моторная реакция является существенным моментом при внимании: «Наш организм является не пассивным зеркалом для различных впечатлений, исходящих от внешнего мира, а бесконечно тонким аппаратом для реагирования и регистрирования, в услугу инстинктам» [124]124
R. Müller-Freienfels, op. cit., S. 45; ср.: Ив. Саръилиев, За волята, «Годишник на Соф. университет», кн. XX, 1924, стр. 62, 92 и далее.
[Закрыть]. Чем напряжённее внимание, тем энергия ощущений, широта и ясность впечатлений больше. Необыкновенная и продолжительная сосредоточенность внимания означает, как никакая другая психическая деятельность, значительную затрату физической энергии, а вместе с тем и быструю духовную усталость. Произвольное или активное внимание, кроме того, имеет часто и то последствие, что теряется представление о содержании, которое лежит вне тесной полосы восприятий, настроений или мыслей, на которые направлен главный интерес; некоторые в иное время весьма осязаемые состояния временно как бы сводятся к нулю, и человек становится, например, совершенно бесчувственным к известным болевым и нервным раздражениям. Это наступает при образах и чувствах, которые неотразимо овладевают духом и отвлекают внимание от всего другого в нас или вокруг нас. На этой особенной поглощённости зиждется как мнимая рассеянность поэта или мыслителя, когда он охвачен одной идеей настолько, что всё остальное ему безразлично, так и прочность воспоминания о пережитом, когда оно под напором внимания и связанной с ним мускульной иннервации приобрело способность к живой и точной репродукции, оставило какое-то «органическое» расположение к тождественным или весьма близким к нему представлениям и возбуждениям.
При таком положении вещей вопрос, поднятый психологом Джемсом [125]125
W. James, The Principles of Psychology, London, 1891, v. I, p. 423.
[Закрыть], гений ли делает большие умы внимательными, или внимание ведёт к гениальности, не имеет особого значения. Принимая первую альтернативу – в противовес мнению Гельвеция, который сказал: «Гений является не чем иным, как продолженным вниманием» (une attention suivie), – американский учёный склонен отличать избранника от простого смертного не столько по характеру его внимания, сколько по природе предметов, на которые направлено внимание. У обыкновенных или средних людей внимание сосредоточивается на предметах, слабо связанных между собой или совсем не связанных: это внимание не объединено более общим принципом, неустойчиво; у гения, напротив, объект мысли остаётся на протяжении многих часов неизменным, так что внимание поддерживается непрестанно и неослабно и все звенья цепи крепко связаны, объединены одним рациональным принципом. Внимание, произвольное внимание оказывается, следовательно, нейтральным качеством, которое само по себе не имеет большого значения; важным является, кто располагает им и какова его точка прицела. И всё же, вопреки такому пониманию, ясно, что, если сила произвольного или активного внимания имеет такое большое значение для ценных открытий и замыслов, если без упорного сосредоточения на богатом внутреннем материале невозможны ни оригинальные идеи, ни какое-либо высокое развитие ума, «гений» как целостное понятие лишился бы одного своего существенного качества, если отрицать или умалять значение этого внимания у него. Разве надо считать гения какой-то необъяснимой потенцией, которая не сводится к отдельным и доступным для психолога процессам? В сущности, внимание в своём высшем развитии является таким же компонентом гения, какими являются и все другие необходимые для творческой деятельности проявления духа. Нам вообще не следовало бы отделять первичный фактор от неизбежных его спутников; и, где нам кажется, что суверенно господствует первый, не сводясь к чему-то другому, там, как правило, раскрываются в качестве предпосылки или в качестве составных элементов многие из этих мнимо простых спутников.
4. ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЖИВОПИСНЫЙ СТИЛЬ
Мы уже говорили, как понимает Гёте свой поэтический дар и где ищет он причину вечной правды своих произведений. Поэт охвачен жаждой познать вещи, слиться с ними, насытить ими свою мысль; в нём говорит неугасимый инстинкт воссоздания мира в его истинном виде, без участия рефлексии. Художник с исконной впечатлительностью и с преимущественно зрительной памятью, он планомерно и неуклонно культивирует свою волю для познания мира, охватывая всё новые и новые горизонты. Едва прибыв в Рим – цель долголетних мечтаний, он пишет оставшимся в Веймаре близким:
«Я живу здесь в таком безмятежном спокойствии, какого давно не испытывал. Моя привычка видеть и воспринимать все вещитакими, как они есть, мои постоянные заботы о том, чтобы сохранить ясность зрения, мой полнейший отказ от всяких претензий снова оказываются полезными для меня и делают меня потихонечку очень счастливым. Каждый день – какой-нибудь новый, удивительный предмет, ежедневно – свежие, значительные, необыкновенные картины; всё вместе образует целое, о котором долго думаешь и мечтаешь, никогда не достигая его воображением…
Тот, кто серьёзно присматривается здесь к окружающему и имеет глаза, чтобы видеть, должен стать устойчивым, он должен получить понятие об устойчивости, которое никогда ещё не чувствовал так живо…
Мне, по крайней мере, кажется, что я никогда не оценивал вещи этого мира так правильно, как сейчас. Я радуюсь тем благодатным последствиям, которые будут сказываться всю жизнь» [126]126
Гёте, Собр. соч., т. XI, М., 1935, стр. 146—147
[Закрыть].
Гёте здесь выражает своё преклонение перед интуитивным, не заинтересованным в практических соображениях и свободным от предубеждений познанием, которому философ Бергсон даёт в новое время в одной из своих работ такое краткое определение: «Интуицией мы называем тот род интеллектуального вникания, в силу которого мы переносимся в сущность предмета, чтобы найти единственное и невыразимое в нём». Анализ, напротив, – это метод сведения предмета к уже известным, общим для него и для других предметов элементам. Интуиция необходима во всяком искусстве, во всяком творческом восприятии действительности, которое обращает внимание на новое, особенное, непредвиденное в окружающих нас вещах или в нашей душе. В этом смысле и романист Марсель Пруст мог сказать: «Мир создан был не однажды, а столько раз, сколько появлялось оригинальных художников» [127]127
М. Proust, La coté de Guermantes, II, p. 20.
[Закрыть]. Индивидуальный способ воспринимать и реагировать на впечатления ведёт к самобытной, а не традиционной редакции опыта, к новому образу объективного и субъективного мира.
Зрительные впечатления занимают одно из первых мест среди разнородных восприятий, которые ведут к построению представлений или наших идей из круга внешнего опыта. В эволюционном отношении эти впечатления являются основным, от чего зависят зачатки нашей мыслительной способности. Человек понимает обстановку, условия, причинную связь между явлениями в той мере, в какой он их видит и наблюдает. Художник отличается в этом отношении особой силой восприятия, и его произведения дают на каждом шагу доказательства его способности непосредственно сродниться с миром видимого. Признание Гёте не является чем-то особенным, способным породить недоумение. Оно находит полное подтверждение в других подобных признаниях и помогает нам уяснить, почему непонятый в своё время филистерской критикой поэт был так доволен, когда Шиллер неожиданно охарактеризовал его словами: «Ваш наблюдательный взгляд, так безмятежно и ясно покоящийся на вещах, не подвергает вас опасности сбиться с пути, тогда как спекулятивное мышление, так же как и произвольная и только себе подчинённая сила фантазии легко могут заблудиться» [128]128
Шиллер, Собр. соч., т. 7, М., 1957, стр. 305.
[Закрыть]. Это мнение, столь созвучное вышепривёденным высказываниям Гёте, схватывает как раз существенное в его методе мыслителя и художника. Своё тонкое ощущение особенного в природе и в человеке Гёте сочетает с редким терпением, проявлявшемся в необычайной сосредоточенности и в упорном труде, так что он с полным правом заслужил бы титул «живого микроскопа, охватившего всю Вселенную», данный однажды Вейнингером гению вообще. Он является как бы двойником своего Линкея в «Фаусте», караульного на башне, который, «всё видеть рождённый», не может сдержать своего восторга:
Всё видеть рождённый,
Я зорко, в упор,
Смотрю с бастиона
На вольный простор.
И вижу без края
Созвездий красу,
И лес различаю,
И ланей в лесу.
И, полная славы,
Всегда на виду,
Вся жизнь мне по нраву,
И я с ней в ладу.
Глаза мои! Всюду,
Расширив зрачки,
Мы видели чудо,
Всему вопреки [129]129
Гёте, Фауст, М., ГИХЛ, 1955, стр. 544.
[Закрыть].
Предтечей Гёте в этой склонности к конкретному созерцанию, как и во всём его индивидуальном способе высказывания и воссоздания, является автор «Божественной комедии». Никто не обладает в такой высокой степени даром «столь подчиняться абсолютно объекту», по выражению Сент-Бева, как Данте. Большая его поэма полна картин, образов, видений, которые свидетельствуют о силе восприятий и наблюдений. Делая попытку охарактеризовать впечатлительность поэта в отношении природы и людей, проанализировать его описания с их стремлением к живописным подробностям и точности, показать примеры того, как пластично Данте рисует сцены из человеческой жизни и пейзажи, и свет и тени, и ночь и день – всегда с тонким пониманием реального и особенного, – Морис Палеолог делает следующий вывод из своего анализа: «Из всех чувств, зрение у Данте является наиболее совершенным. Оно замечательно со стороны полноты и остроты, способно схватить как целое, так и детали. Величественные виды природы, широчайшие горизонты запечатлеваются на сетчатой оболочке его глаза столь же чисто, как и мельчайшие черты какого-либо предмета. Линии, краски, оттенки, рельеф, игра света и тени, гармонии и несоответствия – он различает всё и отмечает всё с необыкновенной точностью. Оригинальность его поэтического гения обязана в значительной степени силе его зрительных впечатлений, как и их правде и их тонкости» [130]130
М. Paléologue, Dante, 3 ed., Paris, 1909, p. 6, 171 и далее.
[Закрыть].
Это единение Данте с миром видимого, как и это радостное стремление Гёте воспринимать виды и характерные черты, не представляет ничего исключительного. Подобный вкус и подобный талант присущи всем большим художникам слова, как и всем мастерам красок или форм. Живописец Ганс фон Маре, например, когда находился вне своего ателье, весь уходил в наблюдение, его внимание неуклонно было направлено на вещи, окружающие его, так что один свидетель мог утверждать: «Наблюдающее созерцание было у него не какой-то особой деятельностью, связанной с известными часами дня или с известными поводами, а просто всем, самой его жизнью» [131]131
Pidоl, Aus dem Werkstatt eines Künstlers, Luxemburg, 1890, цит. по: R. Müller-Freienfel s, Psychologie der Kunst, Leipzig, 1912, I, S. 212.
[Закрыть]. Так и у пейзажиста Коро. «Он был большим живописцем, – говорил о нём Андрэ Мишель, – поскольку получил от провидения отлично устроенный глаз, удивительно чувствительный и необычайно верный, какой был дарован когда-либо смертному» [132]132
André Micljel, Notes sur l’art moderne, Paris, 1896, p. 17; P. Sоuriau, L’imagination de l’artiste, Paris, 1901, p. 3.
[Закрыть]. «Никогда карьера, – говорит биограф Анри Реноля, – не начиналась с большим блеском. Может быть, никогда живописец нашей школы не имел в такой степени дара видения, я хочу сказать, способности всё видеть верно и быстро, улавливать всё, проникать посредством верного и проницательного взгляда во всё. Рельеф и контуры, формы и краски, свободную или деликатную игру света на телах и в пространстве Реноль схватывал с одинаковой мощью, передавал с одинаковой энергией» [133]133
P. Sоuriau, op. cit., p. 3.
[Закрыть]. Говоря об альбомах Эжена Карриера с их бесчисленными эскизами, своего рода «заметками и мыслями» на картоне, в которых отражается его «страсть к неустанному наблюдению», Габриэль Сеай говорит: «Карриер умеет видеть то, что мы видим только с усилием, у него сохраняется детское удивление, которое оживляет картину мира… Он верным глазом улавливает мимолетные черты человека и фиксирует их быстрой и чувствительной рукой» [134]134
G. Séailles, Eugène Carriere, 1923, p. 46.
[Закрыть]. А скульптор Огюст Роден признаёт: «Художник, напротив того, «видит», т. е. его глаз, вдохновляемый тонким чутьём, проникает в тайники природы. Художнику остаётся только довериться своему глазу». Роден следит за своими моделями, тихо наслаждается красотой жизни, которой они наполнены, очаровывается трепетной нежностью молодой женщины, которая наклоняется, чтобы поднять с земли упавшего ребёнка, нервной энергией какого-то мужчины, который ходит… И когда какой-то миг ему нравится, он спешит превратить его в эскиз с помощью глины. «Я послушен природе во всём и никогда не желаю ей приказывать. Единственное моё стремление – быть ей рабски покорным» [135]135
Роден, Искусство, Спб., 1913, стр. 24.
[Закрыть].
Художник схватывает и запечатлевает свои восприятия по возможности искренне и верно. Но это схватывание и передача не являются столь простыми, как многие думают. Оно предполагает не только тонкую чувствительность сетчатой оболочки глаза, но и умение удерживать пришедшие извне образы, вкус для выбора их, как и приобретённую технику для их фиксирования. Только совпадение всех этих условий, внешних и внутренних, приводит к мастерству в данном искусстве. Если отсутствует что-либо существенное, то исполнение хромает, осуществление замысла становится даже невозможным и тогда мы являемся свидетелями или непродуктивности или такой транспозиции художественных тем и методов, какая наблюдается в поэзии Теофиля Готье. Рождённый живописцем, Готье должен был спустя некоторое время из-за ослабления зрения забросить кисть и холст и начать писать стихи или прозу. Но и в стихах и прозе он сохраняет прежний свой вкус, создавая особый живописный стиль. (В этом отношении французский романтик напоминает русского реалиста Д. В. Григоровича, который был вынужден из-за ухудшения зрения оставить и Художественную академию и рисование и взяться за литературу; в его повестях живописный элемент, описания, занимает значительное место за счёт всего психологического и идейного.) «Вся моя ценность состоит в том, что я человек, для которого видимый мир существует», – говорил сам Готье. «У него, – пишет его друг Максим дю Кам, – глаз живописца обладает чрезмерной мощью, глаз, который знает, что фиксировать, который воспринимает одновременно и целое, и детали, и линии, и краски, который уносит с собой созерцаемую картину и уже не забывает её. Иногда он достигает именно благодаря этой чувствительности восприятия транспозиции в искусстве. Принцип ut pictura poesis [136]136
Живописная поэзия ( лат.).
[Закрыть]является для него верным, может быть, больше, чем для всякого другого художника» [137]137
Maxime du Camp, Théophile Gautier, Paris, 1907, p. 94.
[Закрыть]. Так его характеризует и Сент-Бев: «Никогда он не чувствует себя так удобно, как тогда, когда сталкивается с природой или искусством, которые должны быть изображены, представлены. Талант его, видимо, создан именно для описания мест, городов, памятников, картин, различных горизонтов и пейзажей, причём описание данной картины является исключительно живописным, а не литературным [138]138
Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, X (ст. 1863 г. о Готье), p. 304, 317.
[Закрыть]». Сам Готье исповедует те же взгляды в своих путевых заметках из Испании, когда говорит, что он выполнял миссию «touriste descripteur et de daguerréotype littéraire» (туриста – описателя и литературного фотографа), или в разговорах с друзьями, которые, зная его мечтательный характер, склонны отрицать в его произведениях сумму положительно усвоенных вещей. «Меня называют, – говорит он, – фантастом, а между тем всю свою жизнь я ничего другого не делал, кроме как приучался хорошо смотреть, хорошо наблюдать природу, рисовать её, передавать её, как могу, такой, какой я её видел» [139]139
Sainte-Beuve, Causeries du Lundis, XIV (ст. 1857 г. о Банвиле), р. 73.
[Закрыть]. Он первый вводит во Франции ясность описаний, которая явилась чем-то коренным образом отличным от сентиментальной риторики Руссо; и на помощь этой способности видения, когда не забывается ни одна подробность, приходит испытываемое им возбуждение при восприятии природы, восторженное отношение ко всему живописному, которое помогает ему глубоко запечатлеть в памяти виденные картины [140]140
Ср.: М. du Camp., op. cit., p. 102 и далее.
[Закрыть]. В своей блестящей характеристике Бодлера он часто находит случай обрисовать нравственный облик или поэтические темы своего героя посредством великолепных описаний (портрет поэта, рисунок его жилья, отчёт о его путешествии, описание заката солнца и т.д.); и здесь живописный момент превосходит всё другое, и именно через этот момент он раскрывает и жизненную судьбу и поэтику Бодлера (поэтика, например, раскрывается через сопоставления с полотнами Рембранта и Веласкеса [141]141
См.: Th. Gautier, Ch. Baudelaire (ст. 1868 г. о «Цветах зла»).
[Закрыть]).
То же самое можно сказать и о других литераторах, например о братьях Гонкур. И они в силу естественных предрасположений склонны преследовать в поэзии, точнее в романе, цели, которые вполне удачно могут быть достигнуты только с помощью искусства красок. «Живописный элемент преобладает у братьев Гонкур, – пишет проницательный Сент-Бев. – Они имеют полное право поставить слово впечатленияв качестве заглавия своей книги, потому что это настоящие рисунки пером». Критик в своей оценке берёт индивидуальности такими, какими они могли стать от рождения и в результате долгого воспитания. И если им необходим совет, он даёт его с учётом усвоенного уже ими направления, в духе их таланта. Допуская вообще живопись в поэзии, Сент-Бев находит, что оба брата-романиста впадают в крайности, а именно рисуют много портретов, которые читатель не может себе ясно представить. Это результат смешения двух искусств, совершенно произвольного переноса приёмов одного на другое. Таким путём авторы смогли бы привлечь только читателей со специальным вкусом, вкусом, подобным своему, потому что широкая публика предпочитает видеть не только картины и описания, но и чувства. Действительно, оба писателя рисуют во многих случаях оригинальные пейзажи или сцены, как, например, холодный берег Сены (в «Рене Моперен»), больничную палату, заставляя нас ощутить даже её запах (в «Сестре Феломине»), закат солнца на шоссе Клинанкур («в «Жермени Ласерте»), и это, по мысли Сент-Бева, «этюды с натуры и впечатления, какие порождает сама природа» [142]142
Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, X (ст. 1866 г. о Гонкуре), р. 406.
[Закрыть]. Но разве не лучше было бы, если бы всё это было овеяно импульсивной жизнью и если бы поэт вообще не вступал в опасную конкуренцию с живописцем? Подобные страницы – с их импрессионистско-описательной тенденцией – возбуждают тем более наше недоверие, что оба романиста проявляют известную слабость в обрисовке психологических состояний, этого настоящего и специального предмета поэзии.
Не впадая в одностороннюю внешнюю живописность, и другие крупные поэты проявляют большую впечатлительность, наподобие братьев Гонкур. Это хорошо видно, например, у Виктора Гюго или у Поля Верлена. Последний хотя и «символист» в лирике, но без темноты и обезображенного языка правоверных последователей нового принципа проявляет часто наивность и искренность, которые сближают его с романтиками типа Мюссе. Кроме того, он имеет пристрастие к линиям и краскам, к очертаниям и настроениям в природе, которое сближает его с Гюго. И в своих «Исповедях» он с полным правом говорит: «Глаза были особенно развиты у меня, я всё замечал, ни один вид от меня не ускользал, я постоянно охотился за формами, за цветами, за тенями» [143]143
P. Verlaine, Confessions, 1897.
[Закрыть]. И этому вкусу, этому глубокому предрасположению к впечатлениям от видимого мира мы обязаны как его любительским попыткам рисования, так и множеству его стихов (например, в «Сатурнических поэмах», 1866 г.) с внушительными и точными эскизами ночи, солнечными пейзажами и другими видами. Мы бы сказали, что в этом отношении его таланту свойственны черты, которыми в Болгарии обладает поэзия Кирилла Христова:
Звёзды гаснут в дождь из изумрудов.
Так медленно где-то солнце восходит.
Блестят вдали в пустынном море
Рыбачьи лодки – лёгкие бабочки.
Растянувшись навзничь, день покачивается,
Будто снова с дрёмой борется.
Волна тихонько с берегом говорит
И рассказывает ему ночной свой путь [144]144
К. Христов, Химни на зората (1911): «Утро край морето»; ср. ещё, например, «Слънчогледи» (1911): «Из облак дъжд».
[Закрыть].
Что касается Гюго, то Бодлер, хорошо знакомый с его творческим методом, отмечает его странную духовную природу, позволяющую ему работать не только в комнате, но и всюду, где он находился, вернее: где бы он ни находился, он не мог обходиться без работы. «Неустанно всюду, под сиянием солнца, в волнах толпы, в святилищах искусства, у пыльных книжных лавок, расположенных на ветру, Виктор Гюго, задумчивый и спокойный, казалось, хотел сказать: «Войди хорошо в мои глаза, чтобы я помнил о тебе…» Всегда он казался нам статуей созерцания (méditation), которая ходит» [145]145
Ch. Baudelaire, L’Art romantique, «Réflexions sur quelques uns de mes contemporains», I, p. 312.
[Закрыть]. Но и сам Гюго признаёт: «Я иду один. Я размышляю…» [146]146
V. Hugo, Les Contemplations, I, p. 17.
[Закрыть]Действительно, этот человек обладал в сильной мере даром видеть, обладал той «спокойной и глубокой внимательностью», о которой сам нам говорил где-то [147]147
Ср.: Goncourt, Journal, I, p. 141; E. Faguet, Dix-neuvième siècle, p. 222.
[Закрыть]. И нет ничего странного, если его воображение в силу такой способности сводится очень часто к зрительным восприятиям, к картинам для глаза, из которых поэт выводит посредством аллегории и некоторую идею:
Однажды я видел, стоя у бурного моря,
Как, надув паруса,
Нёсся корабль, гонимый ветрами,
Волнами и звёздами…
Море – это бог, оно, на беду или радость,
Каждого скажет судьбу.
Ветер – это бог, звезда – это бог,
Корабль – это человек [148]148
V. Hugo, Les Contemplations, I (вступительные стихи, написанные 15/VI-1839 г.).
[Закрыть].
Многие стихотворения Гюго не представляют собой ничего другого, кроме добросовестного и внимательного подбора впечатлений, нанесённых одно за другим, хронологически – без всякой предварительной композиции, даже без всякой объединяющей идеи. Услышанное вызывает у него, как правило, соответствующие зрительные ассоциации, так что ещё в постели утром, почти в полусне, он схватывает через открытое окно своей виллы в Гернсе, вблизи океана, пёструю картину снаружи – на улице, у берега или дальше:
«Голоса… Голоса… свет сквозь веки… Гудит в переулке
На соборе Петра затрезвонивший колокол гулкий.
Крик весёлых купальщиков: «Здесь?» – «Да не медли, живей!»
Щебетание птиц, щебетание Жанны моей.
Оклик Жоржа. И всклик петуха на дворе. И по крыше —
Раздражающий скреб. Конский топот – то громче, то тише.
Свист косы. Подстригают газон у меня под окном.
Шум портовый. Шипенье машин паровых. Визг лебёдки.
Музыка полковая. Рывками. Сквозь музыку – чёткий шаг солдат…» [149]149
В. Гюго, Собр. соч., т. 13, М., 1956, стр. 148.
[Закрыть]
Наверное, этот род импрессионизма вынудил Теофиля Готье сказать, что автор «Восточных мотивов» мог бы стать большим живописцем, если бы захотел. Готье судил по себе, пренебрегая историей. Однако между средствами поэта и средствами живописца существует столь большое различие, что переход не следует понимать как сам собой разумеющийся, а в большинстве случаев, как и в случае самого Готье, он ведёт к рискованным экспериментам. Во всяком случае, творчество Гюго находится в большой зависимости от его «оптической конституции», и в богатых восприятиях его воображение часто находит и материал, и форму своих концепций. Слова – виденные вещи(choses vues) – могли бы служить, по мнению Мабийо [150]150
L. Mabilleau, Victor Hugo, 5-ème. ed., Paris, 1911, p. 101, 149.
[Закрыть], надписью на всём его творчестве, при том условии, разумеется, что они охватывают не только непосредственные впечатления от природы, но и возобновлённые и изменённые посредством воображения представления.








