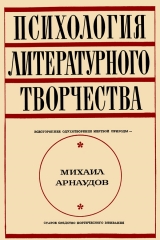
Текст книги "Психология литературного творчества"
Автор книги: Михаил Арнаудов
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 53 страниц)
И у Елина Пелина в его маленьких очерках «Чёрные розы» можем прочитать зарисовку с подобной же темой и также возникшую через посредство этого двойного элемента восприятия-повода, с помощью дополнительных образов, взятых из других воспоминаний и созданных воображением:
«Днём была прекрасная погода: солнце будто нарочно старалось согреть короткий осенний день, порадовать человека. Но оно скоро зашло, и притаившаяся в горах стужа сразу нагрянула в город. Лёгкий вечерний сумрак застыл под леденящим дыханием резкого ветра, налетевшего, словно разбойник, с окрестных гор.
С верха громадного строящегося здания в центре города спустился рабочий, закончив кладку последней дымовой трубы. Медленно-медленно сойдя по сходням громадных лесов в лабиринте досок и балок, он очутился на земле. Здесь его ждала жена, ещё молодая, но рано увядшая женщина в сером платье из грубой материи. Она тоже возвращалась откуда-то с работы. Они не обменялись ни словом. Накинув свой старый пиджачишко, он зашёл на минуту в дощатый барак, где помещалась контора хозяина, скоро вышел обратно, как это делали другие рабочие, и оба медленно тронулись в путь.
Сильно похолодало. Они шли молча, спрятав руки за пазуху, и, достигнув одного из окраинных кварталов, углубились в сеть грязных улочек.
Рабочий шагал, и ему казалось, что он всё спускается вниз по страшной сходне лесов.
Где-то там, впереди, их бедный, потемневший домишко. На пороге стоят трое-четверо бедных ребятишек, устремив нетерпеливый взгляд к повороту улочки. Они не ждут ни ласки, ни подарков. Но они жаждут видеть добрые глаза своей преждевременно состарившейся матери, хмурое лицо кормильца-отца.
Там не загорится в печке животворный огонь и весёлые отблески его не запляшут по стенкам: печку разводить ещё рано. На ужин – немного чёрствого хлеба, брынзы, стручкового перцу, луку. Все жуют медленно, старательно, с уважением к пище.
Работают и отец и мать. Они зарабатывают достаточно. Но боятся тратить. Дрожат. Их страшит будущее. Они полны вечного страха перед ним.
И в этом ожидании неизвестного завтра, которое не сулит им ничего хорошего, испуганные души их утратили всякую радость» [697]697
Елин Пелин, Соч., т. II, М., ГИХЛ, 1962, стр. 233—234.
[Закрыть].
Болгарский писатель со своими переживаниями и настроениями находит тот же способ открытия, о котором пишет и русский автор. Подобный переход от действительности к поэзии, от прямого или косвенного наблюдения к художественному вымыслу мы находим и в других местах «Дневника» Достоевского, например в главе «Столетняя», март 1876 г. Знакомая дама рассказывает Достоевскому о своей встрече со сто четырёхлетней старушкой, которая идёт, отдыхая у каждого дома, на обед к внучкам. Дама передаёт ему и свой разговор с этой старушкой на улице. «Выслушал я в то же утро этот рассказ, – продолжает Достоевский, —… и позабыл об нём совсем, и уже поздно ночью, прочтя одну статью в журнале и отложив журнал, вдруг вспомнил про эту старушку, и почему-то мигом дорисовал себе продолжение о том, как она дошла к своим пообедать: вышла другая, может быть, очень правдоподобная маленькая картинка» [698]698
Ф. М. Достоевский, Дневник писателя, стр. 218—219.
[Закрыть]. И Достоевский излагает эту «дорисованную» мигом и столь правдоподобную для него картинку прибытия старушки к своим внучкам, её разговор там и её неожиданную смерть. Так отходят миллионы людей: живут незаметно и умирают незаметно.
Французский романист Андре Жид вспоминает в связи с этим признание самого Достоевского о его отношении к делу вдовы Корниловой, изложенному в дневнике писателя за октябрь – декабрь 1876 г. Достоевский, живо заинтересованный психологическими предпосылками преступления, совершённого Корниловой (попытка к детоубийству), следит за её судебным процессом и находит возможным оправдать Корнилову, поняв «жизненную правду» путём вживания; он рисует себе возможную сцену прощания между мужем и женой и предполагаемую развязку семейной трагедии. Закончив свою статью, он хочет проверить, насколько его гипотеза приближается к истине. «… Под впечатлением того, что сам намечтал, решил постараться из всех сил повидать Корнилову, пока ещё она в остроге. Сознаюсь, что мне очень любопытно было проверить: угадал ли я вправду что-нибудь в том, что написал о Корниловой и о чём потом размечтался?.. И вот я даже сам был удивлён: представьте себе, что из мечтаний моих, по крайней мере, три четверти оказались истиною: я угадал так, как будто сам был при том… О, разумеется я кое в чём ошибся, но не в существенном…» [699]699
Там же, стр. 477.
[Закрыть]. А ведь именно существенное имеет значение для писателя в его стараниях угадать правду характеров и внутренних кризисов. Внутренние обстоятельства могут варьироваться, не затрагивая силу и правду психологических выводов. «Если с такой наблюдательностью, с таким даром вымысла и воссоздания действительности сочетается ещё и чувствительность, можно стать Гоголем или Диккенсом (может быть, вам вспоминается начало «Лавки древностей», где Диккенс также выслеживает прохожих, наблюдает их, а расставшись с ними, продолжает воссоздавать в воображении их жизнь)…» [700]700
А. Жид, Собр. соч., т. 2, Л., 1935, стр. 410.
[Закрыть].
Стихотворение Гейне «На богомолье в Кевлар» также является ярким примером фантазирования, при котором тем не менее писатель не уклоняется от истины, так как его фантазии связаны с его собственным жизненным опытом.
В послесловии к первому изданию этого стихотворения Гейне сам рассказывает, откуда он позаимствовал его сюжет [701]701
См.: Г. Гейне, Собр. соч., т. I, М., ГИХЛ, 1938, стр. 143—145 и 391—392 (комментарии).
[Закрыть]. В детстве мальчик, его соученик, рассказывал ему, как мать водила его в Кевлар, городок с чудотворной иконой Богородицы, как она однажды принесла Богородице восковую ногу и как после этого исцелилась его больная нога. Потом Гейне долго не встречал этого мальчика и увидел его лишь в последнем классе гимназии. Юноша напомнил ему с улыбкой о том чудесном исцелении и чуть серьёзнее добавил, что надо бы теперь пожертвовать иконе восковое сердце. Позже Гейне узнал, что юноша страдает от несчастной любви. Спустя несколько лет поэт путешествовал по Рейну, между Бонном и Годесбергом, и издали услышал знакомую песню паломников Кевлара с её рефреном: «Мария, господь с тобой!» Всмотревшись в приближающуюся процессию, он увидел своего забытого друга, которого вела под руку мать. Юноша выглядел бледным и больным.
Вот тот материал, из которого строится сюжет. Воображение, разбуженное сценой с паломниками, возвращается к воспоминаниям, потом ищет объяснения единичного факта. Их нетрудно найти. В стихотворении рисуется вымышленная ситуация: мать стоит у окна и смотрит на процессию, идущую в Кевлар, а сын лежит в постели больной. Когда она просит его подняться и посмотреть, он отвечает, что слишком плохо себя чувствует, что не видит и не слышит: он думает о мёртвой Гретхен, и сердце его переполнено страданиями. При повторном приглашении подняться и пойти в Кевлар, где Богородица исцелит его больное сердце, он соглашается. И вот оба в процессии, мать ведёт сына, они идут через Кельн со знакомой песней на устах. Таким образом, поэт использует готовое впечатление, мотивируя быстро, лирически, не очерчивая подробно предысторию. Потом он обогащает сюжет рядом новых элементов, данных посторонними наблюдениями или свободно привлечённых. По наблюдению-воспоминанию дан эпизод праздника в храме: Кевларская Богородица, торжественно украшенная, ждёт своих паломников, пришедших с восковыми руками, ногами и сердцами, и совершает чудеса. Вымысел по аналогии представляет собой появление больного юноши в церкви со слёзами на глазах и с молитвой на устах. Он просит Богородицу излечить его сердечную рану, рассказывает ей, как он страдает по умершей Гретхен, его соседке из Кельна. Таким же вымыслом по аналогии является и завершение стихотворения. Мать и сын спят в комнате. Матери снится, что Богородица тихо вошла, положила руку на сердце сына и потом исчезла. Пробуждаясь, мать обнаруживает, что больной уже мёртв, утреннее солнце играет на его бледных щеках. Она подымает набожно руки и тихо поёт: «Мария, господь с тобой!».
Это стихотворение, где одновременно защищаются взгляды на воспоминание и на вымысел, может дать критерий понимания процессов открытия и в произведениях, в которых фактическое, реальное дано, исходя из косвенного опыта. Как в этом стихотворении поэт дополняет всё психологическое и житейское, недостающее в воспоминаниях, из своего опыта, так в других случаях в образах и сюжетах, подсказанных историей, создатель переносит из настоящего в прошлое массу наблюдений, которые облекают плотью голый скелет сухих фактов и вдыхают жизнь в рациональную схему. Здесь везде воображение приводится в движение вдохновением. Можно сказать и наоборот: прошлое воскрешается как настоящее; сохранив всё, что историческая критика не позволяет модернизировать, автор, погружённый в живое созерцание исчезнувшего, привносит в него жизнь сегодняшних людей, если не свой собственный дух. Так намеревался поступить, например, Яворов, когда собирался работать над своей драмой «Боян-волшебник»: образ героя должен был развивать тему героя его первой драмы «У подножья Витоши» Христофорова, выражавшего во многом мысли самого автора. Если представить себе, что Христофоров, наш современник, пережив кризис, остаётся жить, представить себе его всё с тем же характером, только перенесённого на несколько веков назад, в другую обстановку, – и вот вам Боян, брат царя Симеона [702]702
М. Арнаудов, Към психографията на П. К. Яворов, § 26.
[Закрыть]. Так поступает и Вазов в своём «Паисии». Только у Яворова свободнее рисунок характера и судьбы Бояна, так как эпоха менее исследована и контроль нужен главным образом психологический, у Вазова же более строгие требования исторической достоверности, поскольку фигура Паисия ближе нам по времени и по своему духовному миру, его взгляды более известны из таких документов, как написанная им «Славяно-болгарская история». всё, что в небольшой поэме создаёт исторический колорит, передаёт чувства и мысли историографа середины XVIII в., основывается на точных справках либо Дринова, либо самого Паисия. Особенность же описываемой обстановки и ситуации – дело воображения-вымысла, которое конкретизирует возможную истину. Монах в келье восторжен и бледен, когда пишет, сутулясь, объятый патриотическим пылом, своё сказание, с любовью глядя на завершённый труд, и, перелистывая страницы, произносит свою проповедь. Это вымысел поэта, который представляет себе героя в драматической позе, произносящего страстный монолог, подобно Пимену в «Борисе Годунове» Пушкина.
Всякий исторический роман и историческая драма стоят перед двоякой задачей: изобразить правду жизни и характеры, как они даны в документах, но изобразить их такими, какими документы не могут их воссоздать: раскрыть внутренние мотивы поведения, создать иллюзию реальности прошлого. Известна фраза Талейрана: «Самая совершенная история Англии находится, по-моему, в исторических драмах Шекспира». Точно так же и сентенция Гонкура: «История – это роман, который существовал (qui a été), роман – это история, которая могла бы существовать (qui aurait pu être)» [703]703
Goncourt, Journal, I, p. 305.
[Закрыть]. Следовало бы только добавить: история даёт прошлое во фрагментарном виде, она перегружена событиями, ничего целого и связанного, взаимосвязь прослеживается только умом, история даёт самые общие представления об истине. Роман или драма, наоборот, вносят порядок и последовательность, сближают разъединённое, показывают внутреннее единство событий, концентрируют в немногих образах и типичных ситуациях главные силы эпохи, обладают живостью и выразительностью картин современной жизни.
4. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
Когда поэт покидает царство опыта, истории – всё, что воспринимается умом как действительность, он находит убежище в мечтаниях, пищу для которых дают в первую очередь образы народных сказок. Прозе жизни и грубому реализму искусства противостоит обширная область беспочвенного фантазирования, присущего нашей душе наряду с инстинктом наблюдения. На высшей ступени духовной культуры, на которую может подняться отдельная личность, всё же возникает эта потребность покидать время от времени мир положительного, забывать законы необходимости и позволять воображению сознательно плести сновидения, заполненные призрачными образами, вызывающими страх или восторг. Но в отличие от заколдованного мира первобытного ума, где каприз ассоциаций устраняет всякий элемент правдоподобия, как и всякое более строгое развитие сюжетной линии, в фантастике развитых литературных эпох мы встречаем художественный вкус и чувство правды, полностью удовлетворяющие критическую мысль. Вопреки всему условному мы тем не менее открываем в этом вымышленном мире психологический реализм, способный мирить нас с фантасмагориями: образы и развитие всегда являются осмысленными с точки зрения главной концепции. Нет никакого сомнения, что здесь творит не беспомощное воображение, а планомерная интуиция. Если мы с самого начала смиримся с условностями, то дальше нам останется только удивляться, как в этом мире странного и невероятного сохранены принципы человеческого и как всё происходит в силу тех же основных законов, которые наблюдение открывает в реальной действительности.
Поэзия и живопись часто прибегают к этому виду воображения. Примеры «фантастического реализма» обычны даже в эпохи самого вульгарного натурализма, и часто один и тот же автор, удовлетворяя различные стороны своей духовной природы, после того как известное время практикует социальный реализм, описывая прозу «живого дня», переходит в противоположный лагерь: мистики, фантастики или символизма, подобно Ибсену, Гауптману и Метерлинку. Шекспир разнообразит своё творчество, переходя от исторических драм к драмам-сказкам, таким, как «Сон в летнюю ночь», где искусно переплетены классическая мифология и призраки англосаксонской демонологии. Бёклин, показавший столь развитое чувство ландшафта и человеческой фигуры, вложивший столько наблюдений и воспоминаний в свои композиции, не довольствуется мотивами, подсказанными действительностью, а переходит в царство мечтаний, химер, чтобы воплотить в новых картинах классические мифы или найти самые своеобразные формы унаследованных из прошлого фантастических образов. Оправдывая этот род фантастики наряду с последовательным реализмом, французский романист Робер Франсис пишет:
«Надо понять, что ни в коем случае социальная действительность момента, обстоятельное изложение социального положения (l’etat, civil), о котором говорил Бальзак, создавая «Человеческую комедию», не составляет необходимого условия в искусстве романиста и рассказчика. Сказки Андерсена и братьев Гримм, романы Марселя Эме, комедии Жана Ануйя актуальны, вопреки тому, что разрабатывают вышедшие из моды мотивы, воспевают вечные чувства, особенно трогающие нас благодаря непривычности обстановки… В частности, я нисколько не уверен, что писатели, которые завтра, спустя несколько недель или месяцев, будут иметь наибольшее влияние на читателей, не обратятся к самым старым «мифам» или к ещё более баснословным картинам. Ни одна феерия никогда не умирает совсем» [704]704
Robert Francis, Souvenires imaginairs, 1941, Avant-propos sur le roman et les événements actuels, p. 9—10.
[Закрыть].
О том, как некоторые романтики начала XIX в. односторонне усваивают метод, применяемый Шекспиром в упомянутой драме-сказке, не ограничивая никакими рамками вкуса и разума господство духа фантастики, говорит Людвиг Тик в своей новелле «Жизнь поэта». Своё понимание эстетики он вкладывает в уста современника Шекспира Марло, который так развивает мысли о сущности творчества:
«Когда человек, проникший внутренним взором в неизведанные глубины своей души, узрит повсюду буйное весеннее цветение; когда он увидит, с одной стороны, бурное море с поющими сиренами, с другой – землетрясение и огонь, и переменчивый образ любви, что светит через хаос, и, воодушевлённый, решит опьянённым своим сердцем и скажет: «Я хочу быть поэтом!» – тогда он этим восклицанием вырывается из оков природы, не признаёт её уже не нужные ему законы… и строит себе своё царство, новый мир. Как он живёт в своём уединении, что с ним случается там, как справляется он с собой и с духами, никто не должен спрашивать. Его не волнует людское счастье, он погибший человек, жилище его – преисподняя: добровольно он отдался подземным, загадочным силам; тайные силы служат ему, а он и по истечении срока принадлежит им всем своим существом, как в заколдованном мире сказок, он – Фауст, заклинатель; судьбу свою он вверил этим силам. Но весна, которую он вызывает среди зимы, чудесные образы, послушные его зову, видения, которые возникают из хаоса, помимо законов природы, разбитых смелой насмешкой, и лилейными руками достают ангельские арфы, и сопровождают песнями своих небесных коралловых уст околдованные звуки струн, так что и немые скалы откликаются эхом: эта обновлённая, прояснённая природа, которую бедный человеческий род получает из рук пропащих несчастливцев… это спасение, воскресшее из Элизиума и Тартара, является причиной того, что люди находят смысл жизни. Оно объединяет и связывает государства, прошлое и будущее. Но трижды горько Фаусту… Духи, которые были его услужливыми друзьями, подстерегают его как заклятые враги, мир отталкивает его, небо не признаёт, бездна и хаос зияют, стремясь поглотить его. Как изгнанная Юнона, он постоянно блуждает между землёй и небом и никогда не чувствует себя дома ни в одном из двух царств» [705]705
L. Tick, Dichterleben, 1826
[Закрыть].
Известные английские драматурги времён Елизаветы (Марло, Грин и Пил), захваченные причудливой игрой своего воображения и не сумевшие подчинить своё творчество строгому контролю разума, не в состоянии создать ничего поистине долговечного. Их последователи двумя веками позже в Германии страдают теми же пороками.
Там, где фабула произведения заимствуется из традиции, книжной или устной, усилия поэта направлены на внутренний реализм, который должен мирить нас со всей невероятностью сюжета. Фантастичности приключений противостоит правда характеров и глубокий человеческий интерес того, что происходит. Вольфрам фон Эшенбах, средневековый немецкий эпический поэт, заимствует сюжет своего Парцифаля (ок. 1210 г.) из одноимённой французской поэмы Кретьена де Труа, а тот в свою очередь развивает мотивы устных народных романсов и баллад. Но каким сердцеведом и философом предстаёт Вольфрам! Фантастических рыцарей он описывает, как людей своего времени, вкладывая в них собственную душу, религиозную веру в свои житейские идеалы, так что, привыкнув к рыцарским доспехам, к волшебным замкам Грааля и к чудесам во дворце короля Артура, мы с таким живым участием следим за перипетиями в судьбе Парцифаля, словно это касается современного героя и переживаний, выхваченных из личного опыта. Той же психологической правдой покоряет нас и поэма Готфрида фон Страсбурга «Тристан и Изольда» (ок. 1200 г.). Хотя приключения слишком сказочны и вся сага уводит нас достаточно далеко от подлинно исторического, этот в основе своей любовный роман раскрывает необыкновенно правдиво и поэтически страсть Тристана и Изольды. Готфрид заимствует у своего предшественника сказочный символ – рождение любовной страсти сразу же после вкушения волшебного питья, данного матерью Изольды. Но и без этого чудесного объяснения история нисколько не пострадала бы, так как автор сумел подготовить наиболее естественным способом зарождение преступной любви. Готфрид обладает тонким пониманием движений человеческой души и, встав на позиции художественного реализма в обрисовке характеров, он оказывается таким знатоком женского сердца, какими намного позже, в XVIII и XIX вв., были аббат Прево («Манон Леско»), Гёте («Родство душ») и Толстой («Анна Каренина»). Взяв чисто условный сюжет, он набрасывает редкую по психологическому проникновению картину очаровательного, неудержимого и пагубного любовного увлечения.
Данте в «Божественной комедии» и Сервантес в «Дон Кихоте» идут ещё дальше в искусстве сочетания фантастики и реального. Просто удивительно, как Данте, разделяющий так много богословских, философских и социально-политических идей средневековья и заимствующий у своих предшественников тему путешествия на тот свет со всеми её легендарно-апокрифическими и эсхатологическими подробностями, проявляет такую исключительную оригинальность как психолог-реалист, создаёт такое разнообразие индивидуальностей. «Это первый писатель средних веков, – говорит М. Палеолог, – который видит в человеке не абстрактное существо, состоящее из способностей, добродетелей и пороков, а живую и сложную действительность, личность, у которой желания, страдания, радости играют такую же роль, как и ум или мечтательность» [706]706
М. Paleologue, Dante, p. 194.
[Закрыть]. Нет ничего более правдивого как внешне, так и внутренне, чем образы Уголино, Каччагвиды, Сорделло, св. Франциска Ассизского и др., столь выразительны в своих страстях их характеры, хотя действие и происходит на фоне ада, чистилища или рая. Так и Сервантес, позаимствовав из средневековых рыцарских романов тему странствий и подвигов своего героя, проявляет необыкновенную силу наблюдения и вживания. Как бытописателю и художнику-психологу ему нет равных и позже. Нравы Испании и вечные типы идеалиста и материалиста в их символической противоположности он воссоздаёт с чудесным пророческим умением. Дон Кихот, воплощающий высокие мечты и гуманные чувства, и Санчо Панса, со своим трезвым взглядом и эгоистической жизненной философией, выступают в нашем воображении необычайно отчётливо и живо, вопреки фантастичности некоторых эпизодов, которые воспринимаются как чисто условные.
С учётом эпических произведений, покоящихся на устной народной традиции, не сохраняя её авторского безличия, мы должны сказать: менее наивным и ещё более свободным в истолковании мифа, сказки, фантастического предстаёт современный поэт. Экскурс в мир нереального, как его передаёт воображение простого народа, для поэта является только поводом рассказать что-то о себе самом, прикрыть романтику собственного сердца романтикой коллективного творчества. В своей «лирико-фантастической» поэме Вазов уводит нас «в царство фей», чтобы поставить свою личность в центр пёстрого роя крылатых существ и исчезнувших героев и попутно найти повод для сентиментальных излияний или поэтических рассуждений на злободневные темы. Эти феи, русалки, змеи, которые хорошо известны нам из сказок и песен, теперь гораздо более реальны, и хотя мы несёмся над горами и лесами таинственной ночью, при серебристом свете луны, однако мы видим всё это как бы при ярком дневном освещении. Так воскресают перед нами и легендарные образы Самуила и Крале Марко, внушая тоску о величии и простоте прошлого. Поэт чувствует отвращение к шуму и суете современности, он утомлён напрасными тревогами и жаждет новых сил, обновления души. Перед его очарованным взором мелькает светлое царство фантастической легенды, и он входит туда со своим «пропуском» – вдохновением:
Привет песням простодушным,
Привет сказкам дремлющим,
Вам поверья воздушные,
Вам преданья молчаливые,
Вам загадочные созданья
Фантазии туманной —
Ныне певец кланяется вам,
Царство ваше навещает…
Поэт узнал об этом «беспредельном мире бесплотных образов» ещё в детстве, когда заслушивался чудесными рассказами стариков и когда его сон тревожили смутные видения. Воображение теперь разворошило воспоминания и придало новый блеск поблекшим образам. К этому воображению поэт обращается с приглашением совершить прогулку в далёкий мир, где
Карта для тебя излишня,
И компас тебе не нужен,
Тебе эфир открыт,
Чудное, непостижимое;
Там, где мысль останавливается,
Ты летишь неустрашимо.
И если неумолимые реалисты, люди с сухим и утилитарным складом ума указывают поэту на народные тяготы как на источник вдохновения, требуют от него тенденциозности и сатиричности, Вазов отвечает им: пусть это будет темой вашего творчества, я черпаю вдохновение из другого источника:
В уединении, в лесах,
В творческой мечте народа,
В тайном мраке веков,
В нетронутой природе.
Мы уже показали, каким образом поэт скрывает лиризм своих собственных переживаний и вносит множество субъективных черт в столь иллюзорно «объективный» мир [707]707
См. выше.
[Закрыть]. А то, что вопреки этой двойственности мотивов в иллюзорной картине не чувствуется никакой дисгармонии, говорит только в пользу поэтического дара Вазова. Так и сказочный мир А. Каралийчева вопреки всему наивному и фантастическому, позаимствованному из народной сказки и близкому аффективной жизни ребёнка, отражает строго индивидуальный способ развития сюжета, одухотворение, придающее какой-то особый, магический реализм вещам и лицам. В стилизации и юмористическом освещении характеров, в развитии интриги автор раскрывает в большей степени, чем можно было бы ожидать [708]708
Ср.: М. Арнаудов, Приказният свят на Каралийчев, «Българска мисъл», V, 1930, р. 645.
[Закрыть], свою точку зрения и свой вкус. Подобное творчество с самым смелым преображением коллективного фантастического мира в личное поэтическое видение и с сентиментальным погружением в мистическое созерцание природы достигает вершины в сказках датчанина Андерсена.
Но воображение художника не всегда ограничивается образами народной фантастики и часто действует творчески не только в психологическом, но и в чисто живописном отношении. Классическим примером такой изобретательности может служить Бёклин. Его кентавры, нереиды, тритоны, сатиры и нимфы являются плодом очень пластического и в то же время оригинального воображения, которое населяет моря и леса созданиями, возникающими из личного мифического созерцания. Его наблюдательный глаз воспринимает явления природы с необыкновенной точностью, и когда позже появляется необходимость найти те или иные черты, тот или иной мотив, который более всего подходит для данного замысла, память доставляет их в абсолютно ясных очертаниях. Так этот натуралист в фантастике подбирает материал для своих картин всегда из опыта, и, какими бы странными ни казались его мифические существа, их пропорции или элементы всегда соответствуют действительности. «Во время прогулок он видит образ каждого растения, видит каждую бабочку и птицу в их строении, их движении и их окраске и, в конце концов, настолько способен находить наиболее сложные группы растений или типы животных, что каждый может поверить, что они нарисованы с натуры» [709]709
Fr. v. Оstini, Böcklin, Leipzig, 1913, S. 37.
[Закрыть]. Он рисует на своих картинах цветы, о существовании которых узнаёт значительно позже, или произвольно окрашивает головы морских птиц, и лишь много позже специалисты уверяют его, что в этом нет ничего фантастического и такая окраска существует в действительности. «Подумайте, – говорил по аналогичному поводу ещё Рескин, – что всё то, что эти мужи (великие художники) видят или слышат на протяжении всей жизни, они накапливают в своей памяти как в каком-то складе, схватывая, если это поэты, и самую слабую интонацию слога, услышанную в начале своей жизни, или, если они живописцы, самые мельчайшие оттенки складок ткани или вида листьев и камней; и над всеми этими неизмеримыми сокровищами витает, как во сне, воображение, чтобы каждый миг группировать образы так, как это необходимо» [710]710
Ruskin, Modern Painters, IV, Chap. II.
[Закрыть].
Характеризуя творческую силу поэта и цитируя знакомую максиму «Nihil in intellectu quod non prius fuerit in sensu» [711]711
«Плод разума созревает в душе» ( лат.).
[Закрыть], Реми де Гурмон говорит: «Воображение богаче памяти, но это богатство относится только к новым комбинациям, которые образуются из элементов, доставленных памятью. Человек не может создать ни атома материи, ни атома идеи. Вся литература воображения покоится, как положительная литература, как наука даже, на действительности, но она свободна от всякой заботы об абсолютной точности, будучи подчинённой только той относительной точности, которую мы называем общей логикой, а законы этой общей логики достаточно эластичны, чтобы допускать «Божественную комедию» или «Путешествие Гулливера» [712]712
R. de Gourmond, Le Problème du style, p. 124.
[Закрыть]. Или, как отмечает Андре Моруа: «Художественное творчество не есть творчество ex nihilo. Легко было бы показать, что самые странные рассказы, наиболее далёкие от реального наблюдения, например «Путешествие Гулливера», рассказы Эдгара По, «Божественная комедия» Данте или «Король Юбю» Жарри, созданы из воспоминаний точно так же, как и чудовища Винчи или фигуры на капителях колонн воплощают черты человека и животных…» [713]713
A. Maurois, Tourgueniev, Paris, 1931, p. 196.
[Закрыть].
Оригинальная, индивидуальная фантастика в поэзии следует методу живописи и скульптуры. Она всегда исходит из точно изученных и верно воспроизведённых основных элементов, незаметно для читателя группируя их во всевозможных сочетаниях, которые воспринимаются его воображением как правдивые, или же создавая вначале типы и положения в полной гармонии с действительностью, незаметно отклоняется от нормального или возможного в жизни и вводит сцены, свидетельствующие о любви к гипотетическому, к смелым скачкам и к сенсационному. Чтобы достичь власти над читателем, автору необходимо обладать двумя ценными качествами: с одной стороны, он должен основательно знать человеческую природу и особенно все её исключительные и подсознательные проявления, с другой – обладать воображением, способным придать всему странному и таинственному самый естественный вид, комбинировать отдельные мотивы в сложную историю, действие которой развивалось бы со строгой необходимостью. Несомненно, что этот естественный вид и эта необходимость не выдерживают критики трезвого ума, но именно потому, что ум подчинён настроению, которое поддерживается ожившим в магическом освещении вымышленным миром, у нас не возникает чувства диспропорции или фальши. Читая истории Гофмана или Эдгара По, мы можем убедиться в том, как много рационального имеется в вымысле и какая роль отводится внушению. Гофман всегда исходит из вещей, данных в повседневном опыте, но прежде всего набрасывает картины, отвечающие точному наблюдению. Наглядность образов настолько подкупает воображение читателя, что поэт может в дальнейшем оставить почву действительности и углубиться в царство фантазии. Всё, что происходит здесь, воспринимается как пластические образы, и, поскольку автор воздействует на инстинкты, меньше всего подчинённые разуму, он вскоре заставляет нас следить затаив дыхание, с напряжённым вниманием за невероятными приключениями, например в «Золотом горшке» или в «Эликсире дьявола».
Такая же склонность к гротеску и ужасам видна и в рассказах Эдгара По. Автор «Золотого жука», «Убийства на улице Морг» и «Украденного письма» либо страдает ипохондрией и delirium tremens [714]714
Белая горячка ( лат.).
[Закрыть], либо отличается особой чуткостью ко всему необыкновенному и загадочному как в человеческой душе, так и в природе; у него имеется ярко выраженная тенденция к описанию таинственного. Подготовив почву для воображения с помощью определённых образов или загадочных событий, он планомерно развивает со всем искусством внушения свою задачу: он ведёт нас через головокружительные пропасти, погружается в мистику неодушевлённой природы, описывает чудовищные характеры и, наконец, после того, как любопытство возбуждено до предела, даёт самую простую и естественную развязку. Это как бы галлюцинации, которые имеют своё разумное основание, призраки и случаи, взятые из действительности, – настолько обрисовка и анализ соответствуют тому, что мы привыкли встречать в самых реалистических изображениях.








