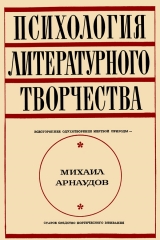
Текст книги "Психология литературного творчества"
Автор книги: Михаил Арнаудов
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 53 страниц)
Михаил Арнаудов
Психология литературного творчества
Биография
Михаил Петров Арнаудов (5 октября 1878, Русе – 18 февраля 1978, София) – болгарский учёный, фольклорист, историк литературы. Академик Болгарской академии наук.
Образование
Окончил государственную мужскую гимназию «Князь Борис» в Русе, Высшее училище в Софии (будущий Софийский университет; 1898), где изучал славянскую филологию, ученик профессора Ивана Шишманова. Специализировался в университетах Лейпцига и Берлина (1898—1900) и Праги (1903—1904), в котором получил степень доктора в области философии, славянской филологии и индологии (тема диссертации: «Български народни приказки»).
Научно-педагогическая деятельность
Был учителем гимназий в Видине, с 1901 – в Софии.
С 1907 – заместитель директора Народной академии в Софии.
С 1908 – ординарный доцент, с 1914 – экстраординарный профессор, с 1919 – ординарный профессор сравнительной литературной истории, в 1921—1922 – декан историко-филологического факультета, в 1935—1936 – ректор Софийского университета.
В 1926 – директор Народного театра.
В 1923—1927 и 1931—1933 – председатель Союза болгарских писателей.
Являлся президентом Болгарской академии наук.
Был членом Украинской академии наук, литературной академии «Пётефи» (Венгрия), доктором honoris causa университетов Гейдельберга (1936) и Мюнстера (1943).
В 1925—1943 – редактор журнала «Българска мисъл». Выпустил библиографическое издание «Болгарские писатели» (тт. 1—6, 1929—1930; 2003—2004).
Автор многочисленных монографий, посвящённых выдающимся деятелям болгарской культуры – Паисию Хилендарскому, Неофиту Возвели, Василу Априлову, Ивану Селиминскому, Георги Раковскому, Любену Каравелову. Исследовал творчество классиков болгарский литературы – Ивана Вазова, Пейо Яворова, Кирилла Христова, Йордана Йовкова, Димчо Дебелянова и др. Занимался изучением народной поэзии, один из основателей современной болгарской этнографии. Сторонник культурно-исторического метода в литературоведении.
Входил в состав масонской ложи «Светлина».
В 1931 году, используя многочисленные свидетельства европейских литераторов, выпустил первое издание книги: «Психология литературного творчества». В 1965 году вышло второе издание, а в 1968 году книга была переведена на русский язык.
Политическая деятельность и репрессии
С 1 июня по 2 сентября 1944 – министр народного просвещения в правительстве Ивана Багрянова. После переворота 9 сентября 1944 арестован. За участие в его деятельности был приговорён так называемым Народным судом в 1945 к 15 годам лишения свободы. В тюрьме занимался переводами с французского языка и подготовкой издания сочинений Ивана Вазова. Освобождён из заключения в 1947. Был исключён из Болгарской академии наук (восстановлен в 1961).
Память об Арнаудове
Именем академика Арнаудова названа средняя школа в Софии. В Русе проходят «Арнаудовские чтения».
От издательства
Предлагаемый [1]1
1) В оригинальном тексте бумажной книги очень много орфографических ошибок, часть исправлена. 2) Текст сносок подробно не выверялся, для кого это важно лучше использовать файл в формате djvu для сверки 3) Добавлено несколько сносок по терминологии.
[Закрыть]вниманию советского читателя фундаментальный труд известного болгарского учёного академика Михаила Арнаудова «Психология литературного творчества» подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Раскрывая те или иные стороны творчества, автор подкрепляет свои мысли огромным фактическим материалом из области литературы, живописи, музыки. Автор широко использует для доказательства своих положений творческий опыт, личные наблюдения, заметки, дневниковые записи классиков мировой художественной литературы, в том числе и выдающихся представителей болгарской литературы.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке он в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Автор решительно отбрасывает как расистские теории, так и идеалистические концепции Фрейда и Ломброзо о характере художественного творчества.
Труд академика Михаила Арнаудова, являющийся своеобразным обзором и многосторонним исследованием художественного опыта прошлого и творческого процесса в его многогранных проявлениях, будет с интересом встречен широкими кругами творческой интеллигенции, литературоведами, искусствоведами, философами, психологами, которым он даёт возможность заглянуть в творческую лабораторию корифеев мировой литературы.
К СОВЕТСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ
Да будет мне позволено высказаться кратко о возникновении и характере настоящего моего труда.
Своим литературным образованием я обязан русским классикам от Пушкина до Чехова, русской критике от Белинского до Писарева и русским историкам литературы из школы А. Веселовского и А. Потебни. Позже я приобщился к западной литературе, и творчество больших писателей XVIII—XIX вв., эстетические взгляды Канта и Гёте, критические анализы Сент-Бева и других мастеров литературного анализа во многом способствовали оформлению моих последовательно реалистических взглядов на искусство вообще. Занимаясь изучением моей родной болгарской литературы и некоторых проблем литературного развития вообще, я попытался несколько десятилетий назад наметить общую теорию художественного творчества, привлекая для построения её психологических основ обильный материал из различных стран.
Одной из особенностей моего метода было то, что я придавал большое значение как непосредственному изучению литературных явлений, так и наблюдениям и свидетельствам самих авторов об их творческом опыте. Ещё Гёте в письме к Шиллеру от 2 марта 1801 г. правильно указывал на необходимость использования при выработке этого опыта «эмпирической психологии».
Априорные мнения о тайнах поэтического творчества ни в коем случае никогда не могут иметь такого значения, какое приходится на долю проницательности и объяснений самих творцов художественных произведений, особенно когда они обладают богатой духовной культурой. Именно в силу этого философ-психолог Ипполит Тэн высказывал в своей книге о «Разуме» (1870) мнение о том, что «каждый живописец, поэт или романист с исключительным ясновидением» должен быть опрошен сведущим исследователем; это даёт возможность составить себе представление о том, как работают мысль и воображение творца. И он сожалел о том, что в своё время не были опрошены такие высоко талантливые писатели, как Эдгар По, Диккенс, Бальзак, Гейне и др. А от них можно было ожидать необыкновенно важного вклада в эмпирическую психологию творчества, о которой мечтал Гёте. В силу этого рода рекомендаций и после моего знакомства с исследованиями Альфреда Бине и других учёных в области так называемой «индивидуальной или дифференциальной психологии», я предпринял ряд опросов своих знаменитых современников в болгарской литературе (П. Славейкова, П. Я. Яворова, К. Христова), чтобы поставить полученные ответы в связь с множеством показаний таких писателей, как Гёте, Шиллер, Флобер, Толстой, данных по различным поводам. Располагая таким обильным материалом, я мог рискнуть, наконец, приступить к выполнению своего плана, к написанию «Психологии литературного творчества».
Сегодня, когда моя книга должна появиться в переводе на русском языке, я чувствую известное смущение, сознавая, что она, может быть, не отвечает в некоторых отношениях высоким требованиям, предъявляемым к такого рода научным синтезам.
При этом я работал при весьма трудных обстоятельствах и не имел возможности дополнить свой труд всей необходимой документацией. Вот почему я прошу принять мой труд как не вполне завершённую попытку решения известного рода проблем, как переходный этап в росте наших знаний о литературном творчестве. Я считал бы себя сколько-нибудь довольным, если всё же сумел бы добраться до некоторых основных истин, не закрывая этим двери новым, более совершенным достижениям в этой области. Всякая наука развивается прогрессивно, и успехи или ошибки различных исследователей не мешают свободному развитию критики в любой области науки, критики, направляющей более молодых учёных к новым путям и новым методам.
Благодаря сердечно издательство «Прогресс» за его инициативу в переводе моего труда на русский язык, я не могу не быть крайне признательным моему любезному товарищу Николаеву Дмитрию Дмитриевичу за вполне удовлетворительный перелив болгарского текста в прекрасную и дорогую для моего слуха русскую речь.
Академик Михаил Арнаудов
ГЛАВА I ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН
1. ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Если психологические проблемы науки о литературе появляются едва ли не последними в её истории и если их удовлетворительное разрешение связано с большими затруднениями, а некоторыми исследователями признаётся даже невозможным, то это не должно казаться нам странным. Вообще наука о душе должна была преодолеть значительные трудности, пока она приобрела себе имя положительной дисциплины и, в частности, попытки выяснения загадки творческой личности сдерживались упорным предубеждением о невозможности познания сущности так называемого «вдохновения», пагубным заблуждением о бесцельности поисков формулы гения, коль скоро он не подчиняется законам, по которым воспринимает, мыслит и действует обыкновенная личность. И хотя в последнее время открываются определённые перспективы для правильной постановки и решения затрагиваемых здесь вопросов, всё же слышатся ещё голоса в защиту взглядов о мистическом происхождении искусства и веры в суетные надежды изучить и растолковать деятельность творческого духа. Даже позитивист в эстетике, каким был Гюйо, мог писать скептически: «В то время как все индивидуумы, сделанные по одному шаблону, представляют нам ум с правильной основой, нити которой можно сосчитать, гений есть спутанный моток, и усилия критиков, с целью распутать этот моток, приводят в общем к результатам совершенно поверхностным» [2]2
М. Гюйо, Собр. соч., т. V, Спб., 1901, стр. 64.
[Закрыть]. Но разве большинство индивидов, действительно, созданы по шаблону и представляют, как иронически выражается один философ, только «фабричный товар природы»? Не вернее ли мыслить обратное, а именно, что здесь царит большое разнообразие и что перед нашим взором открывается бесконечная лестница для восхождения от посредственного ума до наивысших достижений мысли? Если высот возможного достигают лишь немногие, то это не значит, что они не начинают также с самого низа, причём и оставшиеся внизу или где-то посередине способны видеть и понимать достигших вершин. Нельзя отрицать родства, глубокого родства между «гением» и обыкновенными смертными только потому, что многие склонны воспринимать вещи чисто внешне, полностью забывая о единстве человеческого духа в различных его социальных слоях и личных формациях. Раз искусство Шекспира может быть доступно для его современников, людей из народа, и раз это искусство предполагает творчество стольких предшественников, оставивших нам некую смесь из продуктов фабричного производства и искр гения, мы с необходимостью должны прийти к заключению об органической связи между избранником и обществом и о типичном характере внутренних сил, ума, воображения, вкуса и чувствования, отражённых в произведениях этого избранника. И если только отдельные индивиды в состоянии дать наиболее совершенное выражение общих настроений и стремлений, это нисколько не затрагивает закономерного характера «таланта», возникшего как счастливое возвышение обыкновенных добродетелей духа.
Представление о творческой личности как о чём-то полностью исключительном по способу восприятия и воссоздания мира покоится на суеверии, унаследованном от глубокой древности, в силу известного психологического консерватизма, идущего вразрез с научным познанием. Именно здесь, где практически не утрачивается ничего из-за заблуждения, всё ещё может укрепиться популярная идея о художнике как маге и пророке со всеми её фактическими несообразностями и невинными абсурдами. Но что никакая наука не терпит принятия мумий за живые тела и что самый искренний восторг от подвига духа не должен нас удерживать от трезвого объяснения этого духа как закономерного выражения человеческой мысли, это также легко понять. Превращать в теорию и в истину для нашего разума то, что является чувством преклонения перед чем-то возвышенным, красивым и сильным, – значит смешивать две различные категории понимания и оценки. Дистанция, отделяющая простого смертного от «бессмертного» вождя в искусстве, которую всякий может почувствовать, не должна приводить нас к мысли допустить хотя бы на миг, что вождь черпает вдохновение и силу для творчества из каких-то чуждых для обыкновенного смертного источников души.
Догма о непознаваемости творческой тайны, как и авторитет, каким она пользуется в некоторых кругах, имеет большую давность. Уже классическая древность крайне упорно утверждает это.
У Платона, например, мы наталкиваемся на восторженное представление о гении в искусстве, которое и теперь может пленять идеалистически настроенных эстетов. Если Гомер за несколько веков до Платона называл в «Одиссее» рапсода певцом, вдохновлённым богами или музами («Или тебя научила муза, Зевсово чадо, или тебя просветил Аполлон»), если Пиндар также называет поэта пророком муз и посредником между музами и слушателями («Пророчествуй мне, богиня, и я возвещу твои пророчества людям!»), то Платон, воспринимая эти мифологические внушения, строит целую теорию искусства как пути к созерцанию абсолютной красоты и как способа открытия вечных прообразов (идей) вещей через милость богов. Истинный поэт, думает философ афинской академии, ничем не обязан самому себе, своему уму или своему старанию: его видения являются даром свыше так же, как и откровения дельфийской пророчицы или священных сивилл. «Но ведь величайшие из благ, – пишет он в своём диалоге «Федр», – от неистовства в нас происходят по божественному, правда, дарованию даруемого». И там же: «Древние люди, которые названия давали понятиям, не считали неистовство (μανία) ни позорным, ни предосудительным: приурочивая это имя к прекраснейшему искусству, по которому о грядущем судят, не называли бы они его искусством неистовым». И специально о поэтическом прорицательстве Платон говорит как о божественном неистовстве (Φεια μανία), посланном музами или нимфами. «Вдохновение и неистовство третьего рода, от муз исходящее, охватив нежную и чистую душу, пробуждает её и приводит в вакхическое состояние, которое изливается в песнях и во всём прочем [поэтическом] творчестве, украшает бесчисленные деяния старины и воспитывает потомство. Но кто подходит к вратам поэзии без неистовства, музами посылаемого, будучи убеждён, что он станет годным поэтом лишь благодаря ремесленной выучке, тот является поэтом несовершенным, и творчество такого здравомыслящего поэта затмевается творчеством поэта неистовствующего». В том же диалоге мы читаем, как Сократ, высказывая под влиянием вдохновения мысли о любви, замечает Федру: «Поэтому не дивись, если я в дальнейшей речи часто буду охвачен нимфами. И теперь уже речь моя звучит, почти как дифирамб… Или тебе не известно, что нимфы, которым ты умышленно подбросил меня, обязательно вдохновят меня?». В своём диалоге «Ион» Платон сравнивает искусство рапсода с магнитом, который передаёт свою силу всем намагниченным железным кольцам. «Так и муза сама вдохновляет одних, а от этих тянется цепь других вдохновенных. Ведь все хорошие эпические поэты не благодаря умению создают свои прекрасные поэмы, а когда становятся вдохновенными и одержимыми». И Платон сравнивает поэтов, когда они отыскивают гармонию и размер своих песен, с корибантами и вакханками, охваченными исступлением, предавшимися танцам и поверившими, что черпают молоко и мёд из рек… «Поэт, – добавляет философ, – это нечто лёгкое, крылатое и священное; он может творить не ранее, чем сделается вдохновенным и исступлённым и не будет в нём более рассудка». Когда вакханки приходят в себя, они видят себя лишёнными дара творить чудеса; когда поэтом овладевает разум, он уже бессилен мысленно вдохновляться и создавать песни.
Мы привели эти размышления и фантазии древнего философа, поскольку они не утратили своего очарования для посвящённых или профанов и более позднего, и даже новейшего, времени. Разумеется, что-то из этой картины поэтического исступления мы должны признать безусловно верным. Правдиво схвачено внутреннее напряжение, которое мы ныне определяем как «продуктивное настроение» или как «творческий кризис». Всё непредвиденное в данной концепции, вся странная логика образов, вся гипертрофия чувствования, всё мнимое безличие объятого видениями и аффектами – столь реальными и столь естественными для нас – объясняется человеком религиозной фантастики и древней демонологии вмешательством богов и муз. Бессильный иначе воспринять состояние поэта в часы творческого вдохновения, Платон с позиций своей идеалистической философии говорит об одержимости, об исступлении и отрицает личную оригинальность и пережитое поэтом в нормальном состоянии. (Так и у простого народа ныне пророчества и чудесные исцеления приписываются «одержимым», знахарям и духам, вселившимся в них; священное и светлое вдохновение с некоторых пор низведено до презренного фокуснического заклинания.) Там, где мы ясно улавливаем с точки зрения положительной психологии открытия то планомерную концентрацию ума, то спонтанное открытие искомого в силу ряда предварительных усилий по овладению выразительными средствами, там мечтатель древности прибегает к красивой фикции, перетолковывавшей в демонологическом смысле здоровый энтузиазм и нормальное опьянение духа. Важными для достижения образов и стиля оказываются, по его мнению, не постоянные предрасположения (со всем сознательным и подсознательным) творческой мысли, а нечто другое, нечто исключительное и чудесное – священное исступление, божественное просветление (θεία μαιρα). Для Платона не имеют особого значения ни все интеллектуальные факторы (σοφία), ни всякое мастерство (τέχνη), как будто действительно без них, столь мёртвых у других, у не призванных, можно было бы достичь полного художественного воплощения видений и чувств. Но на этом вопросе мы остановимся дальше. Интересным в идеях Платона является то, что как раз из-за этого слияния божественного и человеческого в момент творческого экстаза, как раз из-за этого духовного эндосмоса, точное представление о котором может иметь только меньшинство посвящённых, поэт становится безответственным за свою фабулистику: в момент своей декламации, вызвавшей глубокое волнение у слушателей, он был орудием высших сил, у него головокружение, он не говорит от себя. Когда Фемий разрывает сердце Пенелопы песнями о возвращении греков из Трои, Гомер извиняет его, заставляя Телемаха говорить: «Виновен в том не певец, а виновен Зевс, посылающий свыше людям высокого духа по воле своей вдохновение».
И в новые времена, при устранении религиозно-мифического понимания творчества, мы наталкиваемся на случаи, когда художник пользуется фигуральным языком древних, отрицая возможность естественного и разумного объяснения вдохновения. Разумеется, следовало бы проводить различие между совсем наивным пониманием, которое видит прямое вмешательство сверхъестественных сил в человеческие дела, и более утончённой фантастической теорией, связывавшей высокие идеи поэта с пророческими откровениями в старом стиле. Ни один серьёзный человек не вернётся уже к представлениям сибирских или австралийских шаманов, которые верят в то, что получают от горных и других духов-покровителей свой дар медиумов для предсказания, для нахождения обрядных песен или танцев и для отгадывания в состоянии галлюцинации: подобные пережитки сохраняются только у некоторой части неграмотной крестьянской массы, как, например, в Болгарии у так называемых «нестинаров» с их престарым мистическим культом, экстатическими играми с огнём, пророчествами и верой в осенение духами святыми [3]3
Ср.: М. Арнаудов, Студии върху бълг. обреди и легенди, ч. I—II (1925), стр. 83, 169, и его же «Очерци по българския фолклор» (1934), стр. 616.
[Закрыть]. Однако и высоко культурный поэт иногда склонен ставить видения и аффектации в символические рамки платоновской «мании» и принимать на миг, что чудесные мысли, озаряющие его ум, и слова, звучащие для его внутреннего слуха, – действительно откровения божественного посланца, воздействовавшего основательно на его личное самочувствие. Пушкин, постоянно показывающий такую удивительную способность к самоанализу и самоконтролю, говорит нам о духовной жажде пророка, беря этого пророка как подсказанный традицией образ поэта, с его новыми эстетическими и этическими скрижалями. «Духовной жаждою томим», пророк удалился в пустыню, и там ему явился «шестикрылый серафим». Серафим чудесным образом преобразил его: он коснулся его ушей и зениц, и пророк вдруг внял… «… горный ангелов полёт»; он вырвал его грешный язык из уст и сердце из груди и вместо них вложил «жало мудрыя змеи» и «угль, пылающий огнём»; и будучи оставлен, наконец, как труп в пустыне, пророк был пробуждён божьим гласом для миссии своей:
Любопытным в связи в этой навеянной Библией поэтической исповедью является то, что и некоторые первобытные племена думают, что пророческие дары получают таким же, реально принятым уже, образом; волшебник-жрец удаляется в пустыню, где его навещают духи, которые убивают его и вскрывают его грудь, чтобы вложить в неё маленькую змею – образ магической души [5]5
Ср.: М. Арнаудов, Студии, стр. 174.
[Закрыть]. Пушкин и в другой раз прибегает к подобным мифическим реминисценциям, когда хочет передать нам свою сокровенную мысль о высоком призвании поэта:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружён:
Молчит его святая лира:
Душа вкушает хладный сон…
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы…
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы… [6]6
А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. III, стр. 22.
[Закрыть]
И классический поэт Пиндар сравнивает себя с божественной птицей Зевса – орлом, чтобы подчеркнуть, что всё в его творчестве принадлежит высшей воле. Русский реалист начала XIX в. хочет здесь раскрыть нам контраст между банально-прозаическим и празднично-поэтическим настроением, при котором непосредственно схваченная внутренняя метаморфоза, с художественной целью, связывается с древним мифом об Аполлоне, касающемся слуха поэта «божественной речью». Однако Пушкин никогда не сделал бы теорию из этого рода образов и возвышенных настроений. Как бы сильно ни поддавался он очарованию своих видений, своих иллюзий, они никогда не смешивает гениальное открытие (с его реальной опорой в мысли, опыте и традиции) и какое-то мнимое вдохновение, пришедшее извне, не поддающееся какому бы то ни было рациональному объяснению. Точно так же и друг Пушкина, автор «Мёртвых душ», в своём поэтическом очаровании не доходит до настоящего мифического представления. Гоголь пишет: «… Высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня… Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты…» [7]7
Н. В. Гоголь, Собр. соч., т. 6, ГИХЛ, М., 1953, стр. 297.
[Закрыть]. Но эти «небесные гости» и это «божественное» блаженство созерцания остаются для него чистой метафорой. Не говорит ли подобным же языком и Руссо, человек XVIII в., столь близкий Гоголю во всём напряжении духа? Первый проблеск идеи трактата о науках и искусстве приводит его, по собственному его признанию, «dans une agitation, qui tenait du délire» [в возбуждение, граничившее с бредом], он чувствует себя охваченным «une inspiration subite» [внезапным вдохновением], и он не способен овладеть своим глубоким волнением, схожим с «un etourdissement semblable à l’ivresse» [забытьем, подобным опьянению] [8]8
Rousseau, Les Confessions, p. II, livre VIII (1749); Lettres à Malesherbes, II, 1, 12/1—1762.
[Закрыть]. Это платоновское исступление (delirium) и это опьянение духа повторяются и у некоторых более поздних писателей-мистиков, которые считают, что являются только «медиумами гигантских сил», когда их так непроизвольно охватывает откровение. Но самочувствие в данный момент – одно, а серьёзное объяснение этого состояния – совсем другое.








