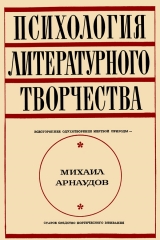
Текст книги "Психология литературного творчества"
Автор книги: Михаил Арнаудов
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 53 страниц)
Максим Горький, типичный русский писатель, вполне самобытный в своём повествовательном искусстве, обстоятельно знакомит нас с прочитанной им литературой, отвечая на вопрос: «Как я учился писать». Поглотив в молодости без разбора не только произведения русских беллетристов-народников Златовратского, Засодимского, Глеба Успенского и др., но и бульварные романы Ксавье де Монтепена, Габорио, Понсон де Терайля и др., Горький познакомился и с классиками французского романа – Флобером, Бальзаком, Стендалем и, как Толстой, был потрясён силой их реалистических картин. Учась писать у них, как и у Гонкуров, Золя, Анатолля Франса и у других новейших авторов, он отлично знал и русских классиков, начиная с Пушкина и Лермонтова. «Большую русскую литературу, – говорит он, – Гоголя, Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Лескова читал значительно позже». Читая этих писателей, он стремился усвоить языковое богатство этих мастеров, как и их технику изложения. А ранее он восхищался умением Бальзака и других французских писателей создавать живые, пластичные, физически осязаемые образы людей [346]346
М. Горький, Собр. соч., т. XXIV, М., ГИХЛ, 1953, стр. 486—487.
[Закрыть].
Йовков мог бы повторить признания русских и западных писателей о благотворном влиянии на него иностранной и отечественной литературы, дополняющей навык наблюдать и непосредственно изучать жизнь. Если в молодости Йовков читает больше художественную литературу, то в зрелые годы он проявляет значительный интерес к другого рода книгам, к научным книгам, способным расширить его непосредственный опыт. «Ныне, – говорит он собеседнику, – читаю с увлечением исторические книги, социологические или мемуарные… Мы стали, очевидно, более мудрыми, покинули иллюзорный мир литературы и вошли в действительный мир». В 1930 г. он был приглашён как офицер запаса присутствовать на больших манёврах. Счастливый, что там во время манёвров изучит «войну», он признаётся: «Этот опыт и наблюдения, которые я сделал, мне очень необходимы для большой работы, в которой хочу изобразить войну в Добрудже и судьбу тамошних болгар во время первой и второй оккупации, со всеми восторгами и унынием населения» [347]347
С. Казанджиев, Златорог, XXIV, 1943, кн. VII, стр. 316—319; а также: «Срещи и разговори с Й. Йовков», 1960.
[Закрыть].
Но не только в качестве сырого материала, но и в качестве прямого источника творческих настроений или готовых поэтических мотивов могут служить и книги других писателей. Здесь чужой опыт усваивается в своей, так сказать, дистиллированной форме, в обработке, которая имеет уже художественные достоинства. Поэтому поэт даже тогда, когда он гениален, в своей технике или в своей изобретательности может прибегать к заимствованию, невольно поддаваясь воздействию родственных творческих натур. Здесь мы имеем дело с творческим прочтением, с вживанием, которое по своей интенсивности и направлению имеет все признаки самостоятельной продукции. Как будто не кто-то другой, а мы сами наблюдали и чувствовали, и как будто по какой-то случайности кто-то другой опередил наши собственные планы.
В 1814 г. Гёте читает лирику персидского поэта Хафиза, его «Диван». Какая-то пелена спадает с его глаз: это – мир образов, которые давно у него мелькают, как его грёзы; ему открывается душа, которая воспринимает и чувствует, как и его душа. То же самое сочетание страстных порывов с мечтой о возвышенном, тот же метод освобождения от тягостного, мучительного через поэтическое воссоздание или через упорную работу над отвлечёнными темами. «Впечатление моё было очень живым…– признаёт Гёте, – и я должен был найти способ для личного отношения. Всё сродное по существу или мысли у меня выступило наяву, и притом с тем большей силой, чем настоятельнее была потребность избежать действительного мира в мире идеальном» [348]348
Goethe, Tagund Jahreshefte, 1815.
[Закрыть]. Он делает усилия сблизиться через поэтический труд с духом персидского поэта и таким образом найти успокоение от неудач в самозабвении творчества и в миросозерцании Востока [349]349
См.: Goethe, Westöstlicher Diwan: «Von Hammer».
[Закрыть].
Аналогичным является случай с Пушкиным. Говоря о том, как великий поэт русской земли проявлял и при знакомстве с произведениями иностранной литературы ту же отзывчивость, какую его друзья с удивлением замечали при его соприкосновении с простым народом, Гоголь останавливается на планах, возникавших под таким влиянием. Испанский герой Дон-Жуан внушает Пушкину идею драмы, в которой с «ещё большим познанием души выставлены неотразимый соблазн развратителя, ещё ярче слабость женщины и ещё слышней сама Испания; «Фауст» Гёте навёл его вдруг на идею сжать в двух-трёх страничках главную мысль германского поэта – и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро; терцины Данта внушили ему мысль, в таких же терцинах и в духе самого Данта, изобразить поэтическое младенчество своё в Царском Селе и т.д.» [350]350
H. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 383—384.
[Закрыть].
Не так ли и Байрон черпает вдохновение для своего «Манфреда» из такого богатого источника, каким является «Фауст» Гёте? В сравнении с этим конгениальным сроднением иным является отношение Тургенева при написании «Накануне» к запискам сентиментального дилетанта Каратеева, прототипа Берсенева в романе. Каратеев переживает нечто подобное тому, что рассказывается в романе, но описывает всё пережитое беспомощно. Перед отъездом в Крым в качестве офицера он в 1855 г. передаёт рукопись Тургеневу со словами: «Возьмите эти наброски и сделайте из них что-нибудь, чтоб не пропало бесследно, как пропаду я!». Тургенев, заинтересованный сердечной историей и особенно образом болгарина Катранова (позже Инсаров), восклицает: «Вот тот герой, которого я искал!». И в течение четырёх лет он основательно перерабатывает труд Каратеева, чтобы дать нам роман, который при всех недостатках носит печать тургеневского гения. Чужое становится вполне своим, несмотря на столь прямые заимствования [351]351
Ср.: A. Mazon, Revue des Etudes slaves, V. 1895, p. 225.
[Закрыть]. В этом направлении творчество Мольера, Расина, Шекспира характеризует, возможно, самое изысканное пересоздание часто посредственных пьес, хроник и новелл, которые не имеют литературно-исторического значения.
Обратный случай имеем, когда начинающие писатели, не лишённые серьёзных творческих способностей, нащупывают свой путь и создают первые свои произведения с помощью равносильных или гораздо более значительных писателей, используя целиком или частично их вещи, темы, технику, стиль и поэтическую атмосферу. Гёте в «Геце фон Берлихингене», Шиллер в «Разбойниках», Гюго в «Кромвеле», Мюссе в «Лорензачо» с большим или меньшим успехом подражают Шекспиру, подобно тому как Ламартин идёт по стопам псевдоклассиков XVIII в., а Пушкин учится у романтиков – Байрона, Жуковского и Батюшкова. Так, собственно, обстоит дело при первых шагах каждого одарённого писателя, когда он, ища собственный способ творчества, подражает уже признанным или модным авторам. Приводя случай с Гюго, который в тридцатилетием возрасте подражает Вальтеру Скотту в «Соборе парижской богоматери», а в пятьдесят лет находится под влиянием Эжена Сю в «Неудачниках», критик Тибоде замечает, имея в виду и некоторые из упомянутых примеров: «Воображение одного зажигает воображение другого. Это – внешнее подражание, какое-то движение сюжета или описание у данного романиста, вдохновившие другого романиста, чтобы тот вложил в свой труд свою душу. Всякое плодотворное подражание есть подражание поверхностное…» [352]352
A. Thibaudet, Réflexions sur le roman, 1938, p. 10.
[Закрыть]Всё зависит от подготовки, таланта и вкуса заимствующего писателя. В одних случаях это касается подражания в композиции, фабуле, метрике, музыкальной оркестровке или выразительных особенностях при сравнительно окрепшем таланте и оригинальной концепции; в других случаях наблюдаются частичные заимствования, усиливающие незавершённый творческий процесс, дающие толчок и полёт личному воображению при родстве в идеях или настроениях; а в третьем случае имеем лишь внешнее усвоение чужих приёмов при отсутствии лично пережитого и подлинной продуктивности. Естественно, что не исключено и скрещивание этих возможностей у одного и того же автора в различные периоды, так что задача критического разбора – увидеть, где прекращается воздействие, ускорившее рождение образов и их кристаллизацию, и где начинается копирование, связавшее умело или грубо, механически своё и заимствованное. У Вазова, например, как нам известно из личных его высказываний [353]353
Ив. Д. Шишманов, Ив. Вазов, стр. 21, 26, 32.
[Закрыть]и как подтверждают некоторые исследования [354]354
П. Христофоров, Творческото развитие на Ив. Вазов, «Годишник на Соф. универс., Ист. – фил. фак.», т. X, 1944, стр. 172, стр. 193; ср.: М. Арнаудов, Към хронологията и характеристиката на първите печатни Вазови стихотворения, сб. «Ив. Вазов», Изд-во Б АН, 1950, стр. 309.
[Закрыть], мы имеем в первый его период, до 1878 г., много тому примеров. Отечественные и иностранные поэты подсказывают ему темы и метры, философское осмысление, эмоциональную окраску, не подчиняя его всюду и не убивая его собственное вдохновение. Французские, русские, румынские авторы помогают ему превзойти более слабую отечественную школу (Славейкова, Чинтулова, Войникова), чтобы найти свою индивидуальность; и позже он испытывает всё столь же сильное плодотворное влияние Гюго, Пушкина или Гейне. Гюго, например, он обязан общим замыслом и некоторыми эпизодами романа «Под игом». «Когда я начал, – говорит он, – писать свой роман, мне хотелось сочинить нечто подобное «Отверженным» Гюго…» [355]355
Ив. Шишманов, цит. соч., стр. 238; P. Christoforov, Ivan Vazov, 1938, p. 129.
[Закрыть]
Но эти и другие подобные им случаи ведут нас уже к вопросу об отношении между традицией или школой в искусстве и личным опытом, и о них было уместно говорить здесь только постольку, поскольку надо было указать на некоторые из общих возможностей использования чужого опыта. Приведённые примеры подсказывают нам правильную идею о тяжёлой предварительной работе поэта или романиста с более широкой культурой, когда он ищет источники своего воображения вне непосредственных впечатлений и переживаний. К этому вопросу мы ещё вернёмся при рассмотрении технической подготовки и сознательного фактора в творчестве.
6. АНТИТИПАЦИЯ
В разрез с фактами, приведёнными до сих пор, и как доказательство какой-то чрезвычайной способности к созданию образов некоторые выдвигают так называемую антиципацию [356]356
Anticipio – принимаю предварительно, anticipatio – предвзятая идея о чём-то ещё не изученном; в логике «антиципирую» – принимаю какое-либо суждение за доказанное, ожидая или ища после обоснования.
[Закрыть]. Это фактор в творчестве, который должен подкрепить мистические взгляды о природе гения, и его особенно ревностно подчёркивают некоторые поэты, когда хотят показать, что для них характерно более высокое сознание, что они обладают пророческим даром угадывать верно вещи, не изучая их предварительно. Если мысль людей, лишённых врождённого чутья к скрытому, движется неуверенно и на ощупь при слабом свете логики и нигде не может открыть более общую основу явлений, великий ум уже предварительно несёт в себе идеи или символы, помогающие уяснить хаотичный мир, и он должен только бросить быстрый взгляд на вещи, лица, общество, историю, чтобы понять законы и причины, воссоздать во внушительных образах неуловимое для других.
С точки зрения подобной теории наука и искусство обязаны своим прогрессом единственно счастливым гениальным прозрениям, а не утомительным наблюдениям и исследованиям, и все усилия обыкновенного ума выглядят жалкими в сравнении с быстрым и властным синтезом призванных обновителей. Антиципация всюду может открыть горизонты, каких ни разу не достигало простое восприятие или связанный с фактическими данными анализ. Она является каким-то сверхопытом, какой-то магической силой в познании и созидании. Художник, обладающий ею, спокойно может оставаться со своим «вдохновением»: оно никогда не изменит ему при изображении времён, характеров, общественных и других отношений, не знакомых ранее до мельчайших тонкостей; оно не нуждается ни в психологических экспериментах, ни в исторических справках, чтобы быть вполне точным. Всякое документирование не даст ему ничего больше того, что ему уже дано ясновидением. Как сказал эстетик Фридрих Фишер: «Гений знает мир, не изучив его (kenut die Welt ohn Weltkenntniss), он находит начала в самом себе и в своих переживаниях и обладает даром отгадывать (divinieren) по ним и то, что у других развивается из них». Как бы мог римский лирик Катулл (I в. до н. э.) изобразить в своём «Атисе» так правдиво душевное состояние поклонника фригийских мистерий, если бы он не обладал именно этой силой отгадывания? – думает историк литературы, приводя слова Фишера [357]357
Gustav Fridrich, Catulli Veronenssis Liber, Leipzig, 1908, S. 295.
[Закрыть]. И наилучшим доказательством реального существования подобной магической силы он считает то, что все такие видения получают подтверждение в результате дополнительных наблюдений или расследований.
Одним из первых, кто заметил в себе эту таинственную силу, был итальянский поэт XVI в. Торквато Тассо. Он верил, что некий дух-покровитель направляет его в творческой работе, ему кажется, что кто-то шепчет ему во время писания. «Это, – думает Тассо, – дух правды и разума, который возносит меня к знаниям, превосходящим мой ум и всё же совсем ясным для меня. Он учит меня вещам, которые не появлялись в моей мысли даже при самом глубоком созерцании, о которых я не слышал ни от одного человека, не читал ни в одной книге» [358]358
R. Hennig, Die Entwickelung des Naturgefühls…, Leipzig, 1913, S. 152.
[Закрыть]. Так высказывается и немецкий поэт, который двумя веками позже воссоздаёт как собственную исповедь трагедию Тассо, видя в его лице своего духовного двойника и тип поэта вообще, с его страстями и с его идеалами. Говоря о возникновении не «Тассо», а своей первой драмы, Гёте отмечает, что он писал своего «Геца фон Берлихингена», будучи двадцатидвухлетним юношей, и десять лет спустя был удивлён правдой своего изображения. Ничего подобного он не переживал, не видел, следовательно, обладал знаниями о разнообразных человеческих судьбах по антиципации. В «Фаусте» он также склонен считать, что постиг пессимизм героя и любовные чувства Маргариты посредством такого дара. И когда его собеседник отмечает, что во всей этой глубокомысленной драматической поэме нет ни одной строчки, которая бы не свидетельствовала о внимательном изучении мира и жизни, он возражает: «Пусть так. Но если бы я с помощью антиципации не носил уже в себе весь мир, мои зрячие глаза были бы слепы, и всё исследование, и весь опыт были бы лишь мёртвыми, тщетными потугами» [359]359
Эккерман, Разговоры с Гёте, М.—Л., 1934, стр. 220.
[Закрыть].
Наконец, и поэт музыки, Рихард Вагнер, считает создания гения удивительными и исключительными потому, что, если другие создают своё мировоззрение всегда на основе опыта, «поэтическое созерцание схватывает, помимо всякого опыта, благодаря своей собственной духовной силе то, что придаёт значение и смысл всякому опыту». В частности, говоря о себе в письме от 19/1—1859 г. к Матильде Везендонк, Вагнер считает, что его замыслы опередили его знания, например, «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Нибелунги», «Вотан», «Летучий голландец» были у него в голове, прежде чем он услышал что-либо о них. Однако люди посторонние, постоянно находящиеся под влиянием впечатлений, пришедших извне, не могли понять особого отношения художника к эмпирическому и всегда были склонны объяснять ясность его образов данными его памяти.
В этих и подобных им высказываниях содержится и субъективная истина, и ошибочная теория. Истина затрагивает некоторые несомненные свойства творческого духа. В моменты самого высокого духовного напряжения у художника возникают зрительные или слуховые иллюзии, отрывающие его от прозаической действительности, он испытывает волнения и желания, чуждые его спокойному сознанию. Опустив занавес перед восприятиями, забыв самого себя и сосредоточившись на предмете, на мотиве своего произведения, он сливается с героями, по крайней мере представляет себя в их обществе, видит их, слышит их, переживает их настроения и умеет нарисовать их так верно, постичь их личное «я» в их мыслях, чувствах и словах. В уверениях поэтов, что они слышали голос какого-то духа или слышали своих героев так ясно, как ясно видели внутренним взором сцены и эпизоды, которые воссоздаются, мы имеем только свидетельства повышенного вживания, к которому отчасти, хотя и в меньшей степени, способны все люди с живым воображением. Ничего странного или, по крайней мере, ничего патологического в этом нет.
Что касается, однако, утверждений некоторых художников, что им удавалось изображение состояний, обстоятельств и вещей, которых они никогда не знали и которые, тем не менее, соответствовали самой истине, здесь мы можем быть скептиками и даже занять отрицательную позицию.
Теория врождённых знаний, вполне сообразная с последующим опытом антиципации, не выдерживает серьёзной критики. В сущности, здесь мы имеем дело с самыми закономерными психическими процессами, а иллюзия чудесных открытий покоится только на недоразумении.
Прежде всего, здесь важны явления подсознательной или скрытой памяти (криптомнезия), о которых мы уже говорили выше. Для подсознательной сферы духа нет абсолютного забвения, а есть только относительное или условное забвение, основанное на нарушении ассоциаций. Психолог Флурнуа с полным правом утверждает, что случаи с вызовом воспоминаний, которые личность считает чем-то новым и неизвестным, гораздо более часты, чем обыкновенно считают. Он пишет: «И простые смертные, и самые великие гении подвержены этим lapsus памяти, которые имеют значение не для её содержания (так как именно оно возникает с точностью, которая иногда является мучительной и вероломной), а для местных и хронологических связей этого содержания (или о его характере чего-то «уже виденного»), которые бы заставили нас опознать его, как таковое, какое оно есть, и помешали бы нам невинно кичиться павлиньими перьями» [360]360
Flournoy, Esprits et mediums, p. 13, цит. no: G. Geley, De l’ Inconscient au Conscient, p. 92.
[Закрыть]. И он приводит любопытные примеры, как Елена Келлер, известная слепая и глухонемая, сочинила сказку, которая, как оказалось, была прочитана тремя годами раньше, или как Ницше включил в своего «Заратустру» некоторые подробности из работы Кёрнера, которую философ читал, когда ему было 12 или 15 лет. Так не однажды «открывали» или «познавали» по псевдоантиципации, когда источники скрываются глубоко в нашем подсознании.
Но тут имеет значение и так называемое продолженное наблюдение, сущность которого мы уже отмечали, когда говорили о воображении как творческом принципе. В силу своей большой впечатлительности и глубоко запавших в душу видений поэт легко может возобновлять свои хорошо осознанные воспоминания и на их основе экспериментировать и комбинировать. По данным чертам характера он заключает, по аналогии со своим опытом, о других людях, о необходимых мыслях, чувствах и делах, хотя они и не даны уже непосредственно, как воспоминание. Он опирается, с одной стороны, на самонаблюдение, а с другой – на внутреннюю зависимость между отдельными свойствами человека. Ибо, как отмечает Гёте (по поводу своей антиципации о лицах), в характерах лежит «известная необходимость, известная последовательность», так что рядом с той или иной основной чертой идут некоторые вторичные. Раскрыть их и поставить в связь со словами и поступками нетрудно для наблюдательного. Не свидетельствуют ли и высказывания Гёте, Додэ, Бальзака или Гоголя о том, как по частично схваченным разговорам и когда под рукой есть ряд внешних признаков, свидетельствующих о внутреннем состоянии, писатель может составить себе представление о характере, интересах и общественном положении человека? Дальше уже нетрудно вывести необходимые в данном случае следствия. Такой драматург, как Франсуа де Кюрель, ясно представляет себе лица и ситуации, а затем заставляет своих героев вести воображаемый разговор, при котором автор как бы присутствует только как зритель, и так возникает весьма естественно диалог его социально-философских драм [361]361
См.: A. Binet, L Année Psychologique, I, p. 122.
[Закрыть]. Таким же образом изображение характеров достигается и драматургом Фридрихом Геббелем, он любил выдумывать и в частной жизни, в обычной беседе. «Часто я рассказывал, – пишет он, – истории, которые никогда не случались, вкладывал в уста людей слова, каких они никогда не употребляли, и т.д. Это происходило не от злости или от любви ко лжи; наоборот, это – проявление моего поэтического таланта. Когда я говорю о людях, которых знаю, особенно когда хочу представить их другим, у меня происходит тот же процесс, какой наступает, когда я письменно изображаю характеры; мне приходят на ум слова, которые открывают самое сокровенное в этих людях, и к этим словам тут же естественнейшим образом приплетается какая-нибудь история» [362]362
Fr. Hebbel, Tagebücher, I, S. 120.
[Закрыть]. Об этом же свидетельствует и романист Моруа:
«Если я сумею восстановить в своей памяти характер какой-нибо женщины во всех подробностях, которые напоминают мне её улыбка, её меланхолия, то я буду в состоянии предвидеть волнения и поступки этой пленительной личности, так как всё, что их предопределяет, дано уже в духовном образе, который я ношу в самом себе и который является частью меня самого. Верно, что тогда моё отгадывание идёт дальше и быстрее, чем логическое обдумывание».
Это обдумывание, безусловно, необходимо при творческой работе. «Но какое логическое терпение, – замечает Моруа, – какое тайное обсуждение лежит в основе всякого отгадывания! Сердце не делает излишним метод» [363]363
A. Maurois, Dialogues sur le comandement, p. 108—109.
[Закрыть].
Художник, который не в состоянии производить эти умственные эксперименты, у которого наблюдение не столь проницательно, чтобы вести к импровизации в часы тихого созерцания, должен ограничиться только самым субъективным лиризмом; о широких картинах жизни, где приходят в соприкосновение всевозможные типы, каждый со своей индивидуальностью, не может быть и речи в его произведении. Потому что эти картины подсказаны столь же прямым наблюдением, сколь и его мысленным продолжением, предвидением, которому сопутствует вживание в характеры. Бальзак с полным правом требует от каждого реалиста в искусстве не только житейского опыта, но и дара прозрения (pouvoir de seconde vue), то есть умения отгадывать истину во всех возможных случаях, изобретать истину по аналогии [364]364
См.: Бальзак, Собр. соч., т. 24, М., 1960, стр. 238—243.
[Закрыть]. Своему двойнику Луи Ламберу он приписывает воображение, настолько развитое посредством постоянного упражнения, что он мог иметь точное представление и о вещах, узнанных только из прочитанных книг. Читая описание битвы при Аустерлице, Луи Ламбер переживает всё как в действительности: видит поле сражения и полёт снарядов, слышит крики солдат и ржание коней, слышит запах пороха, ужасается, как перед картинами из апокалипсиса [365]365
См.: Бальзак, Собр. соч., т. 19, стр. 233—243.
[Закрыть]. Не только внешнее поведение, но и внутреннее состояние романист постигает по аналогии с переживаемым собственным душевным состоянием, по аналогии со своим характером, так что он с правом вкладывает в уста доктора Бенаси из романа «Сельский врач» следующие слова: «Те, кто больше всего узнал пороки и добродетели человеческой природы, являются лицами, изучившими их в самих себе. Отправной точкой является наша совесть. Мы идём от себя к людям, а не от них к себе» [366]366
Бальзак, Собр. соч., т. 17, стр. 193.
[Закрыть]. Таким образом, именно опираясь то на наблюдения над действительностью, над объективно доступным, то на субъективные переживания и вероятные догадки, наши воображение и мысль могут напасть на целую цепь убедительных возможностей. Однако и в том и в другом случае это касается только закономерного интеллектуального подхода, интуиции, исходящей из определённых данных, а не сверхъестественных сил духа, чудесной и необъяснимой антиципации. Катулл может так правдиво изобразить мистическую экзальтацию в культе Аттиса только потому, что в Риме его времени поклонение всевозможным восточным культам было чем-то обыкновенным. В частности, этот фригийский бог, любимец Кибелы, который в своём бешенстве отнимает мужскую силу, умирающий и воскресающий, был почитаем с церемониями, которые включают пост, самоистязание, проливание крови и безумную радость от возрождения бога [367]367
См. об Атисе: J. G. Frazer, The Golden Bough, p. IV, 1907, p. 219; М. Арнаудов, Студии върху бълг. обреди и легенди, I—II, 1924, стр. 189.
[Закрыть]. У поэта должны были быть только глаза, чтобы видеть экзотические торжества на улицах, устраиваемые жрецами, и дух, способный проникнуться религиозной атмосферой своего времени, чтобы воспроизвести переход от скорби к экстазу в весенний праздник возрождённой природы.
Как раз так стоит вопрос и при чисто научных достижениях, например при открытиях в математике. Какими бы неожиданными ни были эти открытия, они всегда старательно подготовлены, так что «антиципация» шла, в сущности, по хорошо известным и проторенным тропам. Изучение метода работы знаменитых математиков нашего времени [368]368
Ср.: «L’Enseignement mathématique, VIII, 1906, p. 310.
[Закрыть]показывает, что никогда открытия, большие или малые, не рождаются внезапно, через «génération spontanée», но предполагают почву, усеянную предварительными знаниями, и мысль, хорошо подготовленную посредством сознательной и несознательной работы. То, о чём свидетельствует видный геометр Амедей Мангейм, относится ко всякому математическому открытию: «Я не верю ни в случайность, ни во вдохновение. Только когда человек поглощён исследованием, рядом с сознательной, осмысленной работой идёт другая, несознательная, и как раз результат этой последней, как только он выявится, оценивается как случайность или вдохновение» [369]369
Ср.: «L’Enseignement mathématique, гл. XI, 1909, стр. 165.
[Закрыть]. Так и математик Пуанкаре настойчиво подчёркивает роль обдумывания, последовательных усилий и подготовку, которые потом, в непредвиденный час, ведут к просветлению, к результату, которого не было раньше налицо или который не был вполне осознан [370]370
См. гл. VII, «Несознательное».
[Закрыть]. И в гуманитарных науках можно установить ту же совместную работу сознательного соображения и несознательного угадывания. Гротефенд, например, применяет для успешной расшифровки таинственных клинообразных надписей Ассирии и Вавилона сложную систему предположений, подкреплённую счастливой догадкой. Смысл буквенных знаков, доступных в весьма ограниченном числе, раскрывается не потому, что все данные налицо, а потому, что пытливое воображение учёного комбинирует различным образом отрывочные показатели, пока не проступит наконец убедительная правда. Правда поэтического открытия идёт по тому же пути, и её подтверждение мы ищем в сопоставлении своих наблюдений о реально испытанном с возможностями из круга, знакомого нам.
Следовательно, антиципация в искусстве, когда речь идёт о некоторых чисто психологических проблемах, есть явление вторичного порядка, которому предшествуют конкретные знания и впечатления. Без предпосылок в восприятиях и в воспоминаниях немыслимо никакое верное изображение данного характера. Там же, где речь идёт о предметах точного знания, о лицах или исторических событиях, там мы непременно должны предполагать какое-то изучение, причём нередко условия этого изучения не были полностью осознаны писателем. Гёте не отрицает, что не вредно для человека знать, как выглядят дела в суде, в парламенте или при коронации: правда, их описания покоятся на прямом наблюдении или на точных свидетельствах других. Сам он исходит не из врождённых взглядов, а из живого созерцания природы, когда пишет в «Фаусте» о восходе луны:
Как грустно, восходя, краснеет запоздалой
Луны недовершённый круг.
Восход луны здесь прямо воспринят и почувствован. Но признавая этот естественный способ документирования при создании образов видимого мира, допуская, что о настроениях природы и о виде луны может говорить только тот, кто когда-то видел это собственными глазами, Гёте считает, что не так это было при изображении средневековых отношений, описывая которые он не располагал достоверными историческими данными о времени и об идеалах Геца фон Берлихингена. В сущности, здесь Гёте поддаётся самообману. Он «не пережил и не видел» в молодые годы ничего из судьбы своего героя, но 74-летний старец как будто забывает, когда говорит об антиципировании средних веков, свой опыт молодости, указания на который находим в письмах и других свидетельствах времён его первой драмы. Достаточно нам только вспомнить его юридические и государственно-политические занятия, его увлечения алхимией, его восхищение готикой и его воспоминания о старом Франкфурте, чтобы понять, что он не является совсем неопытным, когда рисует жизнь и угадывает дух прошлого [371]371
Ср.: R. М. Meyer, Goethe, I, Berlin, 1905, S. 120; E. Geiger, Aesthetik der Lyrik, Halle, 1905, S. 44.
[Закрыть]. В частности, создавая главного героя драмы, он имел в своём распоряжении два богатых источника: автобиографию самого Геца, с любовью читанную и перечитанную, и свою собственную жизнь в эпоху титанических и революционных устремлений. Перенося огонь своей молодости в грудь героя и вживаясь через его исповедь в его страсти, он может понять так же верно дух Геца, как через старинные памятники своего родного города, археологические и юридические знания может создать в общих линиях безошибочную картину реформации. Следовательно, мнимая антиципация оказывается то мыслью, порождённой «соображениями», как бы сказал Гоголь, которая исходит из достаточно и хорошо усвоенных в прямом и косвенном опыте фактов, то транспозицией в прошлое духовных черт, схваченных через личное переживание или через наблюдение сходных темпераментов современников, что предполагает максимальную степень поэтической «симпатии», потенциальную готовность к «чувствованию».
Как раз здесь можно хорошо применить правильный взгляд известного русского философа и историка П. Лаврова. Подчёркивая, как романтическая эстетика была склонна приписывать поэтам и художникам какие-то «пророческие способности провидения прошедшего, настоящего и будущего в их истинном значении и смысле», и, противопоставляя ей понимание современной реалистической психологии, отрицающей всякую «способность доходить до понимания вещей и событий вне метода тщательного аналитического их изучения и осторожного систематического построения», он находит средний примирительный путь. Именно для него правдоподобным является то, что даже и при сравнительно слабом познании объективно данного и при недостаточно научном проникновении лица с развитым воображением всё же обладают в некоторых случаях чутьём на трудно уловимую связь между вещами и на некоторые самые характерные особенности. Оба теоретических взгляда не исключают друг друга в абсолютном смысле:
«Может быть, истинная роль художественного угадывания заключается между этими крайностями. Художник и поэт так же часто ошибаются и даже прямо искажают истину, как всякий другой смертный, не опирающийся на науку и последовательную критику. Но его способность улавливать характеристические черты образов и настроений, им воспринимаемых из окружающего его мира, иногда позволяет ему, даже при очень недостаточном умственном и нравственном развитии, угадывать комбинации явлений, которые ускользают от методического анализа учёного критика… Угадывание художника, – замечает он, – важно нам не в тех областях, которые видны всякому летописцу литературы, а в тех, где характеристические черты выступают во множестве мелочей, едва заметных или вовсе незаметных для подобного летописца, сливаясь более в общее настроение лица и общества, чем в определённые события и действия» [372]372
А. Г. Горнфельд, Пути творчества, Пг., 1922, стр. 217—218.
[Закрыть].
Лавров имеет в виду в данном случае «глубокое поэтическое угадывание» Лермонтова, но его теория могла бы быть применена и к вопросу о Гёте. Она поясняет, во всяком случае, почему Белинский, проницательный критик, мог настолько восхититься романом Достоевского «Бедные люди», что просит Некрасова скорее привести к нему молодого, незнакомого ещё писателя, которому так пламенно говорит: «Да вы понимаете ль сами-то, что вы такое написали… Вы только непосредственным чутьём, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали?.. Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали…» Но истина в том, что молодой писатель мог и в двадцать лет с помощью своего опыта и своей счастливой интуиции вникнуть в смысл общественной жизни, которую другие улавливали только абстрактно или поверхностно. «Мы, публицисты и критики, – продолжает Белинский перед смущённым Достоевским, – только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертою, разом, в образе выставляете самую суть, чтобы ощущать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно». Очевидно, художественная, наглядная правда в состоянии сильнее воздействовать на воображение и таким образом производить впечатление открытия для людей прозаической или теоретической мысли.








