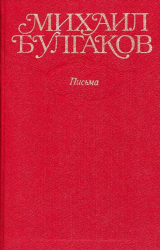
Текст книги "Том 10. Письма. Дневники (с иллюстрациями)"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Тяжкие месяцы все прогрессировавшей болезни Михаил Афанасьевич проводил как подлинный герой. Картину своей болезни он наблюдал острым вниманием писателя и мог бы ее использовать в качестве творческого материала подобно Мольеру. Жизнелюбивый и обуреваемый припадками глубокой меланхолии при мысли о предстоящей кончине, он, уже лишенный зрения, бесстрашно просил ему читать о последних жутких днях и часах Гоголя. Мысль его не падала, а обострялась. Она могла затуманиваться (болезнь, от которой умер Михаил Афанасьевич, часто у других кончается прямым умоисступлением), но тем ярче она вспыхивала в моменты просветления. В дни сильнейшего недомогания он продолжал править свой роман, который ему заботливо перепечатывала и читала вслух его жена, Елена Сергеевна, окружавшая его неизменным вниманием. Михаил Афанасьевич говорил, лежа на смертном одре, что нужно продолжать работу, пока не лишишься сознания. Последний месяц организм не воспринимал пищи. В результате уремии Михаил Афанасьевич скончался 10 марта 1940 года, оставив после себя богатое литературное наследие и унесши с собой в могилу не менее богатое достояние неразвернувшихся замыслов: уже в разгар болезни он мысленно составил план новой пьесы, предназначавшейся для Художественного театра.
«Покойся, кто свой кончил бег», – невольно вспоминаются слова Жуковского, те слова поэта, которыми Михаил Афанасьевич озаглавил одно из значительнейших своих драматических произведений. Беспокойный, трудный путь писателя, пройденный с таким напряжением и неоскудевавшей энергией, путь жизни и творчества, на который было затрачено столько сил, работы и душевных мук и который оборвался так рано и несправедливо, дает право писателю на безмятежную оценку его писательского труда и на глубокую и вечную признательность за незабываемый вклад, внесенный им в сокровищницу русской литературы.
Е.С. Булгакова ― И.В. Сталину [1001]1001
Письма. Полный текст письма публикуется и датируется по машинописной копии с подписью-автографом (ОР РГБ).
[Закрыть]
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
В марте 1930 года Михаил Булгаков написал Правительству СССР о своем тяжелом писательском положении. Вы ответили на это письмо своим телефонным звонком и тем продлили жизнь Булгакова на 10 лет.
Умирая, Булгаков завещал мне написать Вам, твердо веря, что Вы захотите решить и решите вопрос о праве существования на книжной полке собрания сочинений Булгакова. Наступившая вскоре война задержала выполнение его последнего желания.
После смерти Булгакова в 1940 году, постановлением Президиума Союза советских писателей была создана комиссия по литературному наследству Булгакова. Эта комиссия не сделала ничего.
В то же время Издательство «Искусство» включило в свой план издание сборника шести пьес («Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», «Иван Васильевич», «Пушкин», «Дон Кихот»), но в дальнейшем Издательство вычеркивало последовательно по пьесе, так что остался нетронутым один «Дон Кихот», и сборник не вышел.
«Дни Турбиных», пьеса, в которой впервые проявились блестящие таланты советского поколения мхатовских актеров, сыгравшая огромную роль в истории Художественного Театра, прошедшая во МХАТе около тысячи раз, – снята и не разрешается к возобновлению.
О пьесе «Бег» Горький на прослушивании в Театре сказал: «Это превосходнейшая комедия с глубоко скрытым сатирическим содержанием. Твердо убежден: „Бегу“ в постановке МХАТа предстоит триумф, анафемский успех» («Красная газета», 10.Х.1928 г., вечерний выпуск).
МХАТ дважды начинал репетировать «Бег», и дважды репетиции запрещались в середине работы.
Пьеса «Мольер», тоже одобренная Горьким (отзыв которого прилагаю), получила визу Главного Репертуарного Комитета, и Театр, после четырехлетней работы над ней, выпустил пьесу с большим успехом. После седьмого представления «Мольер» был снят.
Комедия «Иван Васильевич» была снята после генеральной репетиции в Театре Сатиры, хотя до этого Репертуарный Комитет разрешил Театру постановку этой пьесы.
И, наконец, говоря о пьесах Булгакова, я не могу не сказать о последней его пьесе «Батум», которую он писал с таким увлечением и которую так хотел поставить МХАТ.
Роман «Белая гвардия» не вышел полностью до сих пор. Две трети романа были напечатаны в журнале «Россия», №№ 4 и 5, 1925 г.
«Жизнь господина де Мольера», биография, написанная Булгаковым в 1933 году по заказу редакции «Жизнь замечательных людей», также не была издана.
Из всего его литературного наследства:
четырнадцать пьес,
романы, повести, рассказы, оперные либретто,
наброски и подготовительная работа для учебника истории СССР, – не печатается ничего, а на сцене идут: пьеса «Последние дни (Пушкин)» и инсценировка «Мертвые души», но в одном только Художественном Театре, причем спектакль о Пушкине Театр не имеет права ставить по субботам и воскресеньям и более двух-трех раз в месяц.
Булгаков не держал в руках гранок 15 лет, с 1926 года по день смерти, – хотя каждая строчка его произведений написана им для своего театра, для своей страны.
Дорогой Иосиф Виссарионович, я прошу Вашего слова в защиту писателя Булгакова. Я прошу именно Вашего слова – ничто другое в данном случае помочь не может.
Сейчас, благодаря Вам, Советская Россия вспомнила многие несправедливо забытые имена, которыми она может гордиться. Имя Булгакова, так беззаветно отдавшего свое сердце, ум и талант бесконечно любимой им родине, остается непризнанным и погребенным в молчании. Я прошу Вас, спасите вторично Булгакова, на этот раз от незаслуженного забвения [1002]1002
Трудно сказать, дошло ли письмо до Сталина, хотя передавалось оно непосредственно А.Н. Поскребышеву, секретарю Сталина. Сохранилась копия письма Е.С. Булгаковой А.Н. Поскребышеву следующего содержания:
Многоуважаемый Александр Николаевич!
Надеясь на Ваше благосклонное отношение к творчеству Булгакова, обращаюсь к Вам с большой просьбой передать прилагаемое письмо товарищу Сталину.
Елена Булгакова.
Москва, 7 июля 1946 года.
Сохранилась также записка Е.С. Булгаковой, приложенная к копии письма А.Н. Поскребышеву. В ней говорится, что письмо се к Сталину было рассмотрено в ЦК, принято положительное решение и ей рекомендовано «связаться с издательством „Искусство“ на счет издания пьес Булгакова».
[Закрыть].
Вдова писателя Булгакова
Елена Булгакова.
Москва, 7 июля 1946 года.
Е.С. Булгакова ― С.Я. Маршаку [1003]1003
Письма. Печатается и датируется по машинописной копии с подписью-автографом (ОР РГБ).
[Закрыть]
Дорогой Самуил Яковлевич, простите, что на машинке, но так будет легче и для Вас и для меня, – привычка, я и детям и маме пишу всегда на машинке.
Я нарочно пишу Вам, а не звоню по телефону, потому что, когда я слышу Ваш больной голос, я не могу ничего толком сказать Вам, мне делается стыдно, что и я затрудняю Вас своими делами. Но сказать мне необходимо, так как Вы – единственный человек, с которым я могу говорить об этом. К Александру Александровичу [1004]1004
Речь идет о А.А. Фадееве.
[Закрыть], к моему великому сожалению, я не могу позвонить.
Что же касается Леонова, Федина, которых я знаю мало, или Суркова, Поликарпова, которых я совсем не знаю, то к ним я не могу звонить. Да и кроме того, если Федин мог сказать Вам, что «это трудное дело, ведь вот Горьким не продлили» – о чем тогда говорить?
Сравнивать мое положение с положением наследников Горького, – это походит на издевательство, – хотя это и не похоже на Федина. Казалось бы, что Федин или любой другой настоящий человек, настоящий писатель должен был бы сказать Вам в ответ: – конечно, мы должны этого добиться.
А если бы этот человек был еще и искренен и мужественен, то он должен был бы добавить: – мы все виноваты перед Булгаковым.
Все знают, что Булгаков исключительно талантлив, что литературная жизнь его была так тяжела, так невыносимо тяжела, что и умер он в результате всех своих потрясений. Так говорили Булгакову в лицо все лечащие его врачи.
Все знают, что Булгаков всего себя отдал (если говорить громкими словами) родине, родному искусству, родному театру. Он отказался от заграницы, когда ему это предложил Сталин. Он работал без передышки, без отдыха 20 лет, бросив свою профессию врача в 1919 году для того, чтобы стать писателем. И он, действительно, стал замечательным писателем. А кроме того, он все время еще работал то актером, то режиссером, то газетным работником, то консультантом-либреттистом. Он работал каждую минуту, не щадя себя, не отдыхая. Когда в 1936 году, в один день у него полетели три пьесы сразу (Мольер, Пушкин, Иван Васильевич), он принялся за учебник истории. Это был человек несгибаемой воли и мужества.
И Вы хотите, чтобы я сейчас звонила к людям, равнодушным людям, мало мне знакомым, и просила их о милости. Нет, родной мой, тогда не нужно ничего!
Я считала, что если есть у нас справедливость, то она должна, наконец, быть распространена и на Булгакова, пасынка в своем отечестве. Я думала, что если я обращусь к двум близким мне людям, к Вам и Александру Александровичу, с дружеской просьбой помочь мне добиться этой справедливости, то Вы избавите меня от унизительной роли вдовы-просительницы.
Я надеялась, что, имея письмо Литературной Комиссии (которая, не в укор ей будь сказано, так ничего и не сделала за 15 лет, прошедших со дня смерти Булгакова), письмо из МХАТа и мое официальное заявление в ССП, – я верила, что Вы все, такие всесильные с моей точки зрения люди – в моем деле – добьетесь справедливого удовлетворения моей просьбы.
Что нужно для этого (казалось мне): час времени для того, чтобы написать горячее, заинтересованное, убедительное ходатайство в Правительство, и согласие какого-нибудь более свободного, чем Вы оба, писателя поехать с этими бумагами и проявить настойчивость для получения ответа, возможно более скорого. Я пишу об этом, так как с 1 января все мои наследственные права уже закончились.
Я понимаю, что все это отнимает у Вас время, но что мне делать, ведь случай этот единичный, ведь если бы по отношению к такому талантливому и работоспособному писателю, как Булгаков, была проявлена раньше справедливость, – ведь мне не пришлось бы просить о продлении.
Я предполагала, что, может быть, Тихонов, бывший друг, или Михалков, который очень хорошо относился к Булгакову, согласятся сделать это.
Простите меня, дорогой Самуил Яковлевич, если это письмо доставит Вам неприятные минуты. Ужасно то, что Вы, все Вы, никогда не поймете меня, так же, как сытый никогда не поймет голодного. Когда я слышу по радио (теперь, в последнее время, особенно часто) или читаю в газетах, как перечисляют всех, кого будут издавать в 1955 году, я почти всегда дохожу до слез, иногда впадаю в ярость. Ведь я дала ему клятву перед его смертью, что я добьюсь издания. Перечисляются все: талантливые и бездарные, свои и чужие, искренние и лживые, нужные и ненужные, такие, которые были, есть и будут любимы и уважаемы всегда, и такие, о которых, через год или через 10 лет, скажут что-нибудь вроде как о Сурове... [1005]1005
Суров Анатолий Алексеевич – советский драматург, член Союза писателей СССР. Автор пьес «Далеко от Сталинграда», «Рассвет над Москвой» и др.
[Закрыть]– словом, все.
Нет только одного имени, светлого, чистого имени Булгакова.
В чем вина Булгакова? В бесстрашной правде, которую он считал своим писательским долгом говорить прямо, – больше ни в чем. Кажется, Эренбург сказал на съезде: – воображаю, как бы встретили на улице Воровского Маяковского с его первыми стихами! – А я добавлю: – и Салтыкова-Щедрина и Гоголя!
Разве не доказали «Дни Турбиных», что они нужны людям? Разве не было на самом деле «Зойкиных квартир»? Разве не проделывал Репертком того, о чем написано в «Багровом острове»? Разве ошибался Горький, превознося «бег», который гораздо сильнее ставит точку на белом движении, гораздо беспощаднее обнажает людей белого движения, чем «Дни Турбиных»? Разве не имел Булгаков писательского права на своего Мольера, которого он любил и о котором изучил все, что написано нами и французами? Разве не удивительно, что в 31 году, когда и слова об атомной войне не было, – у Булгакова появилось видение перед глазами – будущей войны, и он написал «Адама и Еву»? Разве не достойно уважения, что Булгаков изучал испанский язык, чтобы лучше почувствовать Сервантеса, и сделал труднейший фокус – превратил в пьесу гениальный, но трудный роман о Дон Кихоте? Разве не доказали себя на деле слова Булгакова, что нельзя показывать на сцене Пушкина и Лермонтова? И, наконец, кто еще так угадал Сталина, как Булгаков в своем «Батуме»?..
Роман «Белая гвардия» правдив с первого до последнего слова, но – что еще важнее – он написан большим художником, и – еще важнее – бесконечно любящим свою родину. Роман «Жизнь господина де Мольера» не издается, а «Бальзак» Н. Рыбака [1006]1006
Рыбак Натан Семенович (1913―1978) – украинский советский писатель, автор историко-биографического романа «Ошибка Оноре де Бальзака».
[Закрыть] издается. Это было бы смешно, если бы не доводило до слез. А «Дьяволиада»? Я не собиралась просить о ее переиздании, но разве Вы не видели всего этого тогда в жизни? Он видел, бегал по Москве – в старой шинели, в башмаках, подошвы которых были привязаны веревочками, – в поисках материала для газеты.
Булгаков избрал трудный путь сатирика, но кто же обвинит человека, избравшего трудный путь?
Сейчас булгаковскую судьбу решают трусливые редакторы из издательства «Искусство». А почему не читатель? Если бы объявить подписку на Булгакова и напечатать столько экземпляров, на сколько будет сделана подписка?
А почему издательство «Советский писатель» не хочет издавать Булгакова?
Пишу Вам ночью, потому что мысли меня одолели и мне не спится. Только Вы мне не звоните по телефону, а лучше напишите. Я не могу говорить обо всем этом без слез, а потом проклинаю себя ночами за это.
И последнее – если все мои предположения, все мои надежды на Вас обоих ошибочны, то, прошу Вас, верните мне все эти бумаги, я проделаю последнюю попытку добиться справедливости, написав письмо Правительству. Я не могу медлить, все сроки прошли!
Обнимаю Вас.
Ваша Елена Булгакова.
В ночь на 6 января 1955.
Из писем Е.С. Булгаковой к Н.А. Булгакову [1007]1007
Письма. Публикуется и датируется по автографу (ОР РГБ)
[Закрыть]
(Из Москвы в Париж)
1. 17 октября 1960 года(...) На глазах у всех Миша стал успокаиваться, как-то, если можно так выразиться, расцветать внешне, к 1939 году он был прелестен и внешне и душевно. Так что все его обычные разговоры о скорой смерти (а он их вел всегда в самой юмористической форме за столом с друзьями – и все, глядя на его актерские показы и слушая его блестящий текст, не могли удержаться от смеха). Но так как он их вел всегда, то раз в год (обычно весной) я заставляла его проделывать всякие анализы и просвечивания. Все давало хороший результат, и единственно, что его мучило часто, это были головные боли, но он спасался он них «тройчаткой» – кофеин, фенацетин, пирамидон. Но осенью 39-го года болезнь внезапно свалила его, он ощутил резкую потерю зрения (это было в Ленинграде, куда мы поехали отдыхать), – и профессор, обследовав его глазное дно, сказал: «Ваше дело плохо. Немедленно уезжайте домой». Эта докторская жестокость повторилась и в Москве – врачи не подавали ему надежды, говоря: «Вы же сами врач, и вы понимаете». Миша всегда, с самого первого дня, когда попросил, чтобы я была с ним, взял у меня клятву, что я не отдам его в больницу, что он умрет у меня на руках, – предупреждая о том, что с ним будет все, как с отцом, Афанасием Ивановичем. И даже год сказал – 1939-ый. Врачи мне тоже говорили, что это вопрос трех-четырех дней. Но Миша прожил после этого 7 месяцев, как он говорил: потому, что верю тебе. А я клялась ему, что он выздоровеет. Когда все это было, я думала, что страшнее этого в моей жизни ничего не будет. Но через 17 лет все это повторилось, как это ни странно, с моим старшим сыном, 35-летним человеком. Простите за тяжелое письмо, но Вам же надо все это знать. Вы так любите Мишу, и он Вас любил невероятно сильно. Николка в «Днях Турбиных», в «Белой гвардии», в рассказе «Красная корона», в одном черновике романа, все это посвящено Вам...
2. 5 декабря 1960 года[...] После всего тяжкого горя, выпавшего на мою долю, я осталась цела только потому, что верю в то, что Миша будет оценен по заслугам и займет свое принадлежащее ему по праву место в русской литературе.
3. 5 января 1961 года[...] Теперь хочу рассказать Вам подробнее о смерти Миши, как это мне ни трудно делать. Но я понимаю, что Вам надо это знать. Когда мы с Мишей поняли, что не можем жить друг без друга (он именно так сказал), – он очень серьезно вдруг прибавил: «Имей в виду, я буду очень тяжело умирать, – дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках». Я нечаянно улыбнулась – это был 32-ой год, Мише было 40 лет с небольшим, он был здоров, совсем молодой... Он опять серьезно повторил – «поклянись». И потом в течение нашей жизни несколько раз напоминал мне об этом. Я настаивала на показе врачу, на рентгене, анализах и т. д. Он проделывал все это, все давало успокоение, и тем не менее, он назначил 39-й год, и когда пришел этот год, стал говорить в легком шутливом тоне о том, что вот – последний год, последняя пьеса и т. д. Но так как здоровье его было в прекрасном проверенном состоянии, то все эти слова никак не могли восприниматься серьезно. [...] Потом мы поехали летом на юг, и в поезде ему стало нехорошо [...] Это было 15 августа 1939 г. Мы вернулись в тот же день обратно из Тулы (я нашла там машину) в Москву. Вызвала врачей, он пролежал несколько времени, потом встал, затосковал, и мы решили для изменения обстановки уехать на время в Ленинград. Уехали 10 сентября, а возвратились через 4 дня, т. к. он почувствовал в первый же день на Невском, что слепнет. Нашли там профессора, который сказал, проверив его глазное дно: «Ваше дело плохо». Потребовал, чтобы я немедленно увезла Мишу домой. В Москве я вызвала известных профессоров – по почкам и глазника. Первый хотел сейчас же перевезти Мишу к себе в Кремлевскую больницу. Но Миша сказал: «Я никуда не поеду от нее». И напомнил мне о моем слове. А когда в передней я провожала проф. Вовси [1008]1008
Вовси Мирон (Меер) Семенович (1897—1960) – советский терапевт, академик АМН СССР.
[Закрыть], он сказал: «Я не настаиваю, т. к. это вопрос трех дней». Но Миша прожил после этого полгода. Ему становилось то хуже, то лучше. Иногда он даже мог выходить на улицу, в театр. Но постоянно ослабевал, худел, видел все хуже [...]. Мы засыпали обычно во втором часу ночи, а через час-два он будил меня и говорил: «Встань, Люсенька, я скоро умру, поговорим». Правда, через короткое время он уже острил, смеялся, верил мне, что выздоровеет непременно, и выдумывал необыкновенные фельетоны про МХТ, или начало нового романа, или вообще какие-нибудь юмористические вещи. После чего, успокоенный, засыпал. Как врач, он знал все, что должно было произойти, требовал анализы, иногда мне удавалось обмануть его в цифрах анализа, – когда белок поднимался слишком высоко.
Люди, друзья, знакомые и незнакомые, приходили без конца. Многие ночевали у нас последнее время – на полу. Мой сын Женечка перестал посещать школу, жил у меня, помогал переносить надвигающийся ужас, Елена [1009]1009
Имеется в виду сестра М. Булгакова – Елена Афанасьевна.
[Закрыть] тоже много была у нас, художники В. Дмитриев и Б. Эрдман (оба теперь умершие) каждый день приходили, жили Ермолинские (друзья), сестры медицинские были безотлучно, доктора следили за каждым изменением. Но все было напрасно. Силы уходили из него [...] Ноги ему не служили. Мое место было – подушка на полу около его кровати.
Он держал руку все время – до последней секунды, 9-го марта врач сказал часа в три дня, что жизни в нем осталось два часа, не больше. Миша был как бы в забытьи. Накануне он безумно мучился, болело все. Велел позвать Сережку, положил ему руку на голову. Сказал: «Свету!»... Зажгли все лампы. А девятого, после того как прошло уже несколько часов после приговора врача, очнулся, притянул меня за руку к себе. Я наклонилась, чтобы поцеловать. И он так держал долго, мне показалось – вечность, дыхание холодное, как лед, – последний поцелуй. Прошла ночь. Утром 10-го он все спал (или был в забытьи), дыхание стало чаще, теплее, ровнее. И я вдруг подумала, поверила, как безумная, что произошло то чудо, которое я ему все время обещала, то чудо, в которое я заставляла его верить – что он выздоровеет, что это был кризис. И когда пришел к нам часа в три 10-го марта Леонтьев (директор Большого театра), большой наш друг, тоже теперь умерший, – я сказала ему: «Посмотрите, Миша выздоровеет! Видите?» – А у Миши, как мне и Леонтьеву показалось, появилась легонькая улыбка. Но может быть, это показалось нам... А может быть, он услышал?
Через несколько времени я вышла из комнаты, и вдруг Женечка прибежал за мной: «Маменька, он ищет тебя рукой», – я побежала, взяла руку, Миша стал дышать все чаще, чаще, потом открыл неожиданно очень широко глаза, вздохнул. В глазах было изумление, они налились необычным светом. Умер. Это было в 16 ч. 39 м. – как записано мной в тетради. Во время болезни я стала сначала записывать предписания врача, потом прибавилась полная запись дня: когда и какие лекарства принимал, что ел, когда и спокойно спал. Потом – его слова, потом, в последнее время его ухудшение состояния, – тяжелые минуты потери памяти (очень редкие), галлюцинации, и наконец, подробные записи последних дней его страданий, что его почти нельзя было узнать. Я с ужасом думала – никогда не увижу Мишу, каким знала. А после смерти лицо было успокоенным, счастливым почти, молодым. На губах – легкая улыбка. Все это не я одна видела, об этом с изумлением говорили все видевшие его [...].
Он умирал так же мужественно, как и жил. Вы очень верно сказали о том, не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы, со своим невероятным талантом, жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание, пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник – правдивый, честный. Писать ом мог только о том, что знал, во что верил. Уважение к нему всех знавших его или хотя бы только его творчество – безмерно. Для многих он был совестью. Утрата его для каждого, кто соприкасался с ним, – невозвратима.








