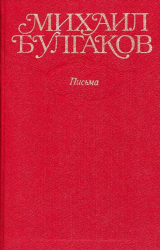
Текст книги "Том 10. Письма. Дневники (с иллюстрациями)"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц)
Михаил Булгаков. Собрание сочинений
Том 10
Письма
О «Письмах» М. Булгакова и о нем самом
В последние годы имя Михаила Афанасьевича Булгакова прочно вошло в сознание русских читателей, привлекло внимание всего читающего мира. Огромен интерес не только к творчеству, но и к судьбе, личности художника. Пока, к сожалению, в удовлетворении этого интереса гораздо более преуспели заграничные издатели, чем соплеменники знаменитого писателя. Но сколько в этих заграничных изданиях неточностей, а то и просто ошибочных сведений. Сколько здесь всяческого вымысла и домысла, рассчитанных на сенсацию. Одни представляют Булгакова как жертву культа личности, искажают факты, чтобы представить его несчастным мучеником 30-х годов. Другие стремятся выпятить его имя в литературе тех лет настолько, что оно заслоняет других выдающихся художников того времени...
Казалось бы, после публикации «Мастера и Маргариты» (1966 – 1967) наступила пора трезвого осмысления личности и творчества М.А. Булгакова, сразу обретшего мировую славу. И действительно, в наши издательства «посыпались» предложения издавать его сборники рассказов, повестей, фельетонов, пьес, издавать монографии о его творчестве. Но кому-то из «державных» людей показалось, что слава писателя наносит ущерб нашему государству. И вот – издатели попадали в зависимость от вышестоящего чиновника, слово которого всегда оказывалось решающим...
Но это время прошло и сейчас началась кропотливая работа по собиранию и реконструкции фактов жизни великого русского писателя.
В жизни Булгакова было много действительно драматического. Чаще всего к этим фактам его биографии и привлекают внимание исследователи. Но были ведь и счастливые годы. Да и в годы тяжкие жизнь не замыкалась кругом страданий. В частности, вспомним май 1931 года. В письме Генеральному секретарю ВКП(б) И.В. Сталину Булгаков со всей откровенностью перечисляет все, что им сделано за последние два года. Сделано немало. Здесь же он признается в том, что устал от многолетней травли, говорит о переутомлении, о надрыве. И это все так, соответствует фактам его биографии. Но вот проходит месяца два после письма Сталину, и Булгаков пишет своей приятельнице Н.А. Венкстерн: «План мой: сидеть во флигеле одному и писать, наслаждаясь высокой литературной беседой с Вами. Вне писания буду вести голый образ жизни: халат, туфли, спать, есть... Расскажу по приезде много смешного и специально для Вас предназначенного... Буду сидеть как Диоген в бочке».
В письме Сталину Булгаков правдиво рассказал о своем положении в обществе и о своем душевном состоянии. Положение, конечно, ужасное. Но жизнь полна неожиданностей, контрастов, противоречий. И читатель, прочитав письма, может себе представить его жизнь во всей ее многогранности.
Предлагаемый десятый том представляет современникам возможность познакомиться с эпистолярным творчеством выдающегося русского художника нашего века, его дневниками, автобиографиями.
Письма родным, брату Николаю Афанасьевичу Булгакову в Париж, письма Сталину, Горькому, Станиславскому, Вересаеву, писателям Евгению Замятину, Юрию Слезкину, другу Павлу Попову, наконец, жене Елене Сергеевне Булгаковой... Сколько неповторимых подробностей запечатлено в этих документах, сколько деталей быта, примет времени, сиюминутных настроений и забот, сколько страданий и радостей, творческих достижений и несбывшихся надежд... Читаешь письма Михаила Булгакова, подлинные, без всяких вольных усекновений, которые позволяют себе авторы многих монографических трудов о нем, – и вспоминаешь прекрасные слова Герцена о сокровенности письма: «Письма больше чем воспоминания: на них запеклась кровь событий, это – само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное». В письмах настоящего сборника предстает подлинный Булгаков, который даже в самые трудные и критические годы жил полной жизнью, много работал, любил женщин, умных, обаятельных, прекрасных в своей неповторимости, поигрывал в карты, играл в теннис, биллиард, много страдал, но и много смеялся, познал шумный успех, но и изведал горе одиночества... Работа порой беспощадно захлестывала его, заставляя торопиться, спешить с ее исполнением, но потом что-то менялось в планах заказчиков, и что-то сразу рушилось – тут же расторгали договор, требуя возвращения аванса, уже, как обычно, истраченного, прожитого; но тут же возникали новые предложения и новые договоры, заставлявшие вновь и вновь спешить и торопиться с исполнением заказа. И снова беспощадная к самому себе, изнурительная работа – работа на износ. Так продолжалось все двадцать лет его творческой жизни. Он работал много, самозабвенно и самоотверженно. Брался порой за вещи, за которые мог бы не браться, если б не нужно было зарабатывать на жизнь.
Письма, публикуемые здесь, намечают пунктиры биографии М.А. Булгакова с 1914 года по 1940-й, год его кончины. Они, за редким исключением, расположены хронологически и дают представление о важнейших этапах его судьбы и творчества. Здесь собраны разные письма как по своему значению, так и по своему содержанию. Есть просто записки, написанные, как говорится, на скорую руку. А есть письма, в которых раскрывается душа художника, его внутренний мир, его убеждения, суждения, его эстетическая программа.
Конечно, при чтении писем М. Булгакова необходимо помнить, в какое сложное и противоречивое время он жил и работал... Уже в самом начале своего творческого пути М. Булгаков опасался полной откровенности, а потому предупреждал свою сестру не доверяться целиком белому листу бумаги: он опасался перлюстрации писем. Но бывало и так, что его холодная осторожность уступала бурным признаниям, и он подробно и откровенно изливал свое самое наболевшее. Так было и в письмах Советскому правительству, в письмах И.В. Сталину, П.С. Попову, В.В. Вересаеву, Н.А. Булгакову... Время требовало порой осмотрительности, приспособленчества, угождения власть имущим, но читатели увидят, что М.А. Булгаков не внял этим требованиям и остался самим собой, беспощадно правдивым и бескомпромиссным.
При чтении писем Булгакова родным необходимо знать, что Н.А. Земская, сестра Михаила Афанасьевича, публикуя их частично (1976), кое-что весьма существенное опустила. Купюры были сделаны по охранительным соображениям – Н.А. Земская не решилась оставить те фразы, которые свидетельствовали о мыслях М.А. Булгакова покинуть пределы России. Еще в феврале 1921 года в туманных выражениях он писал двоюродному брату Косте: «Во Владикавказе я попал в положение „ни взад ни вперед“. Мои скитания далеко не кончены. Весной я должен ехать или в Москву (может быть, очень скоро), или на Черное море, или еще куда-нибудь...» (подчеркнуто мною. – В. П.) Выделенные слова при публикации Н. Земской были опущены. Такие же намеки содержались и в других письмах писателя тех лет к родным.
Здесь читатели познакомятся с двумя автобиографиями М.А. Булгакова, 1924 и 1937 годов, прочитают письма выдающихся деятелей культуры того времени Е.С. Булгаковой, в которых глубоко и зримо показано значение М.А. Булгакова как художника, раскрыты черты его характера, масштабы его личности...
Что ж сделал он в русской культуре? Об этом много говорилось в предыдущих томах. Но ...
Перелистаем страницы его произведений. Напомним лишь некоторые, как нам представляется, ключевые факты его биографии. Подведем некоторые итоги: здесь неизбежны повторения полюбившихся автору мыслей.
«Мне сразу стало ясно, что передо мной человек поразительного таланта, внутренне честный и принципиальный, очень умный, с ним, даже тяжело больным, было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно на самом деле, то в этом нет ничего удивительного, хуже было бы, если бы он фальшивил» (письмо Л.А. Фадеева к Е.С. Булгаковой от 15 марта 1940 г.).
Если к этим словам Фадеева, довольно точно передающим сущность творческой личности Михаила Булгакова, приобщить высокие отзывы о нем Горького как о прозаике и драматурге, напомнить восторженные оценки Станиславского его режиссерского и актерского таланта, если рядом с этими оценками привести воспоминания о Булгакове его близких и знакомых, то перед нами предстанет облик не только всесторонне одаренного художника, но и очень своеобразного человека с добрым и бескорыстным сердцем, человека благородного, мужественного и принципиального, умеющего даже в самые тяжелые для него времена смотреть на жизнь с оптимизмом, с юмором, с верой в доброе и светлое.
Булгаков – художник, оставивший богатое литературное наследство почти во всех жанрах: начинал он с фельетонов, создал несколько драматических шедевров, повестей, рассказов, кончил творческий путь глубокими по содержанию и блестящими по форме романами «Мастер и Маргарита» и «Записки покойника» («Театральный роман»).
Булгаков – человек сложной, трудной, трагической судьбы. Сейчас к нему пришло признание, заслуженная слава. А было время, когда он был лишен того, что по праву ему, как большому художнику, принадлежало, лишен был главного – живого и непосредственного общения с читателем, зрителем; вокруг его имени создавали нездоровый интерес, каждую новую его вещь встречали подозрительно и часто видели в ней то, чего там вовсе не было.
Трудно жилось, трудно писалось Булгакову, но он всегда оставался верным своему народу, своему Отечеству. Резко протестуя против искажений текста пьесы «Зойкина квартира», допущенных в переводе ее на французский, М.А. Булгаков писал своему брату Н.А. Булгакову: «Прежде всего я со всей серьезностью прошу тебя лично проверить французский текст „Зойкиной“ и сообщить мне, что в нем нет и не будет допущено постановщиками никаких искажений или отсебятины, носящих антисоветский характер, следовательно, совершенно неприемлемых и неприятных для меня как гражданина СССР. Это самое глазное». «Русский писатель не может жить без родины» – таков главный смысл его ответа на вопрос Сталина, не хочет ли он покинуть Россию. Глубинные истоки творчества Булгакова питались его кровной связью с Россией, которую он беспредельно любил.
В каждой строчке своих произведений он исповедуется в любви к Отечеству. Любви не созерцательной, а активной, подобной той, заинтересованной в судьбе народа любви, которая сделала Гоголя и Салтыкова-Щедрина великими сатириками. Верность традициям русской классики, особенно традициям Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого,– вот то главное, что присуще Михаилу Булгакову как художнику советского времени, художнику, который противопоставил свое творчество, свою индивидуальность некоторым заметным молодым писателям начала 20-х годов, отказывавшимся от национального культурного наследия. Булгаков избежал этого пагубного поветрия. И вместе с тем его творчество предстало перед нами как принципиально новое художественное явление.
В «Дьяволиаде», «Записках на манжетах», «Похождениях Чичикова», «Роковых яйцах» Булгаков создал фантастический мир, полный противоречий, больших и малых конфликтов, возникающих всякий раз, когда человек, по личному заблуждению, оказывается не на своем месте. Одновременно с этим в его «Белой гвардии», «Мольере», «Пушкине», «Дон Кихоте», «Театральном романе» изображен другой, реальный мир с его нравственными исканиями, утверждением человечности в человеческом бытии, опутанном многими искусственными путами. В «Мастере и Маргарите» эти два мира, как бы до сей поры существовавшие отдельно, слились в один, полномерный и многогранный. В этом, последнем своем романе, писатель решает одну из центральных проблем своего времени – проблему гуманизма, ратует за незыблемость гуманности, дает критику античеловечности, жестокости, несправедливости.
Булгаков обладал редким даром гармонического миросозерцания: он с одинаковой остротой видел и изобличал отрицательное в жизни и одновременно, следуя своему душевному складу, воплощал в художественных созданиях образы светлые.
Булгаков создал свой, особый, неповторимый мир, нанося художническим воображением свои материки и реки, свои моря и океаны; он населил эти материки созданными им людьми, наделил их неповторимым складом души, столкнул их с неотвратимыми случайностями и парадоксами жизненных обстоятельств.
Почему же так случилось, что столь талантливого писателя не признавали, а в конце 20-х и в начале 30-х годов беспощадно травили?
Некоторые исследователи жизни и творчества М.А. Булгакова отвечают на этот вопрос просто: виноват Сталин, диктатор, восточный деспот, погубивший множество честных людей... В нашей же истории все было гораздо сложнее, противоречивее. Нужны документы, публикации архивов, исследования историков, исследования неподкупные и объективные...
Современному читателю трудно понять причины этой травли, если он незнаком, хотя бы поверхностно, с литературной обстановкой 20—30-х годов.
В то время острой атаке подвергалось культурное наследие русского народа, все великие завоевания мировой культуры. В известном стихотворении В. Кириллова «Мы», которое часто цитируется историками литературы, прямо говорилось: «Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля, // Разрушим музеи, растопчем искусства цветы». Это стихотворение было опубликовано во втором номере журнала «Грядущее» в 1918 году. И здесь лишь «поэтическое» воплощение целой идеологической платформы.
Ожесточенные споры вокруг культурного наследия пролетариата возникли еще до Великого Октября. В частности, некоторые «теоретики» марксизма признавали Шекспира «исполином», но только «в рамках своего времени»: «С точки зрения нашего времени» его царственные «герои» «кажутся марионетками» и вызывают «чувство досады».
Уже в то время (1910—1912) появлялись мысли, будто «пролетариат должен отвергать всякое искусство, тенденции которого не находятся в согласии с его мировоззрением» (Лежнев А. Вопросы литературы и критики. М.—Л., 1926. С. 18). Эти мысли в разных вариациях высказывались «напостовцами», «лефовцами», «пролеткультовцами».
«Изучение памятников искусства, – поучал Осип Брик, – не должно выходить за пределы научного исследования... Пролетариат, как класс творящий, не смеет погружаться в созерцательность, не смеет предаваться эстетическим переживаниям от созерцания старины» (Искусство коммуны. 1919, № 5).
В 20-е годы находились такие горячие головы, которые заявляли, что революция переплавила прежний быт, что самый уклад жизни подвергся уничтожению или коренному переустройству. А если не удастся переплавить, то все прежнее «надо перепахать». «Литература прошлых эпох была пропитана духом эксплуататорских классов» (Вардин. На посту. 1923, № 1), а раз это верно, то творчество Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Гоголя годится только для музейного изучения.
По отношению к культурному наследству у В.И. Ленина и его сторонников была четкая и ясная позиция. В «Декрете о государственном издательстве» партия и правительство призывали немедленно приступить к широкой издательской деятельности: «В первую очередь должно при этом быть поставлено дешевое народное издание русских классиков» (О партийной и советской печати. М, 1954. С. 174). «Необходимо открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные на основе эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключительном распоряжении эксплуататоров» (там же, с. 197). Этой четкой и ясной ленинской позиции противостоял и Троцкий и троцкисты.
В письме ЦК РКП (б) «О пролеткультах» говорится: «...В пролеткульты нахлынули социально чуждые нам элементы, элементы мелкобуржуазные, которые иногда фактически захватывают руководство пролеткультами в свои руки. Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из родов буржуазной публицистики и философии стали кое-где заправлять всеми делами в пролеткультах».
В тот год, когда М. Булгаков заканчивал работу над повестью «Дьяволиада» и романом «Белая гвардия» (1923), вышел первый номер журнала «На посту». Об этом необходимо напомнить, потому что «напостовцы» много сделали для того, чтобы исказить подлинный смысл булгаковского творчества.
Первый принципиальный пункт напостовской программы:
«Прежде всего, пролетарской литературе необходимо окончательно освободиться от влияния прошлого и в области идеологии и в области формы». В передовой «От редакции» говорилось об «упадочной полосе русской литературы последних лет и десятилетий(?) перед революцией», говорилось о намерении бороться против тех, кто старается «построить эстетический мостик между прошлым и настоящим» (На посту, 1923, № 1. С. 6—7).
В своей литературной практике «напостовцы» руководствовались идеей Троцкого, писавшего, что «Октябрь вошел в судьбы русского народа, как решающее событие, и всему придал свой смысл и свою оценку. Прошлое сразу отошло, поблекло и обвисло, и художественно оживить его можно только ретроспекцией от того же Октября. Кто вне октябрьских перспектив, тот опустошен, насквозь и безнадежно» (Правда, 1922 г.).
Известно, что Троцкому принадлежит и термин «попутчик». Логика его удивительно проста: раз писатель идет из деревни и пишет о деревне, то он не может осознать, уловить «революционную алгебру в действии», «...первостепенная черта, идущая не от деревни, а от промышленности, от города...» – «ясность, реалистичность, физическая сила мысли, беспощадная последовательность, отчетливость и твердость линии, – эта основная черта Октябрьской революции чужда ее художественным попутчикам». «И оттого они только попутчики. И это нужно сказать им – в интересах той же ясности и отчетливости линии революции».
К. Федин, Л. Леонов, Вс. Иванов и многие другие принимали участие в революционных событиях, работая в армейских газетах, в советских учреждениях, но они были зачислены всего лишь в «попутчики». Сергеев-Ценский, А. Толстой, Пришвин, Чапыгин, Есенин и многие другие навсегда связали себя с новой Россией, а их относили к разряду новобуржуазной литературы, что равносильно реакционной, контрреволюционной. Грубая, предвзятая характеристика давалась Горькому, который назывался «бывшим главсоколом, ныне центроужом».
Здесь же, в первом номере «На посту», Г. Лелевич оценивает творчество Маяковского как «поэзию деклассированного интеллигента, заядлого индивидуалиста». Г. Лелевич, исходя из того, что «с изменением экономического базиса меняются и идеологическая надстройка, и потребности читателей», в статье «Отказываемся ли мы от наследства?» приходит к выводу: литература прошлого только объект «серьезнейшего научного изучения» «как продукт определенной классовой идеологии и в определенной исторической обстановке», «пролетарий в то же время строит свою литературу, совершенно отличную от прошлой, как по содержанию, так и по форме» (На посту, 1923, № 2—3. С. 50).
Лелевича поддержал А. Тарасов-Родионов в статье «Классическое и классовое»: попутчик, «как бы доброжелательно к пролетариату он ни настраивался, – пока мы его не поставили прочно на коммунистическую точку зрения, – он все равно никаких объективных ценностей в целом создать для нас не может» (На посту, 1923 № 2—3. С. 92).
Характеризуя положение на литературном фронте, А. Чапыгин писал Горькому (1926): «Молодые писатели МАППа—ВАППа, ЦАППа и других ассоциаций густо невежественны, в этом их смерть. Один со мной пространно рассуждал о том, что-де „психология – это штука буржуазная, и мне – пролетарскому писателю – она не нужна...“» (Горький и советские писатели. Неизданная переписка, М., 1963. С. 646). Даже Федор Гладков, позиция которого значительно отличалась от чапыгинской по ряду вопросов, в 1928 году сообщал тому же Горькому: «...Наши шустрые пострелы и казенные писаря из „На литературном посту“ невыносимо пустозвонят с репетиловской развязностью о вещах, в которых они ничего не смыслят. Все эти Волины, Зонины, Авербахи, Ермиловы, Фатовы и К0, не имеющие никакого отношения к литературе, изо всех сил лезут в „вожди“ и „идеологи“ и с апломбом невежд и бесстыдников пророчествуют об „органически гармоническом человеке современности“, о „живом человеке в художественной литературе и т. п.“ (там же, с. 104).
Булгаков осознавал себя продолжателем великих реалистических традиций русской литературы. По выражению самого писателя, „Дни Турбиных“, „Бег“, „Белая гвардия“ – это „упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране“. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях „Войны и мира“. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает, несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми – аттестат белогвардейца-врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР» (Октябрь, 1987, № 6).
Леонид Леонов, задумываясь над вопросом, почему некоторые писатели не могут написать о своей эпохе так, чтобы «каждая строчка жгла», видел одну из причин этого в том, что критики усматривают в любом просчете писателя «либо бессилие творческое, либо явную злонамеренность»: «Существуют в литературных краях этакие добровольные аргусы, которые мгновенно свешивают это на весах советской благонадежности и, буде окажется, что процент „уклона“ превышает процент „добродетели“, сразу начинается самая похабная травля писателя» (Печать и революция, 1929, № I).
Остро поставленный вопрос «кто кого?» был механически перенесен в область литературы и искусства. Раз социалистическое строительство в своем поступательном движении вызывает сопротивление враждебных социализму социальных групп, то и «своеобразие современного этапа художественного развития в том и состоит, что враждебные пролетариату стремления обнаруживаются с особой силой» (Печать и революция, 1929, № 4). В связи с этим называются прежде всего имена Сергеева-Ценского и Булгакова. Л. Авербах в статье «Классовая борьба в современной литературе» (Звезда, 1929, № 1, с. 148) писал: «Буржуазная литература носит самый различный характер. С одной стороны, она носит характер контрреволюционного памфлета, как у Сергеева-Ценского, затем идеализация патриархальной старой деревни, как у Сергея Клычкова... и с другой стороны, если не идеализация, то во всяком случае оправдание белогвардейщины, как в „Днях Турбиных“ Булгакова и в „Беге“, произведении, еще более реакционном, чем „Дни Турбиных“».
Русская литература издавна славилась психологизмом, глубоким и тонким постижением человеческой души. Вот почему выступали и против психологизма: если враг будет изображен во всем многообразии и полноте своего характера, со всеми своими человеческими переживаниями, то может стереться граница между другом и врагом, тогда все смешается в «густой душевной мешанине», тогда психологизм «становится контрреволюцией». Отсюда и оценка «Белой гвардии».
Другие теоретики, выступавшие против «психологизма», ссылались на то, что «психология рабочего достаточно проста, ясна, что поэтому никаких сложных переживаний у рабочего нет, что всякие разговоры о психологизме являются интеллигентскими выдумками».
Не одного М. Булгакова подвергали разносной критике. В том же 1927 году А. Чапыгин в письме Горькому просит за Клюева: «Очень вас прошу написать в Москву кому-либо из власть имущих о Клюеве, – его заклевали и он бедствует, а между прочим, поэт крупный и человек незаурядный – пусть ему как-нибудь помогут. Не печатают его, и живет он по-собачьи. Жаль будет, если изведется!» (Горький и советские писатели. С. 656).
Ю. Тынянов пренебрежительно отзывался и о Сергее Есенине, не видя в его стихах ничего нового, оригинального: «В сущности Есенин вовсе не был силен ни новизной, ни левизной, ни самостоятельностью... Наивная, исконная и потому необычайно живучая стиховая эмоция – вот на что опирается Есенин». Стихи Есенина, по мнению Ю. Тынянова, – стихи для легкого чтения, и они в большей мере перестают быть стихами. Теоретик «формальной школы», цитируя, пожалуй, лучшие есенинские строчки, видит в них только «банальности», «слова захватанные», «ежеминутные». И все дело в том, что Есенин желает «выровнять лирику по линии простой, исконной эмоции» (Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Прибой, 1929. С. 544—547).
Б. Эйхенбаум публикацию сборников стихов А. Блока считал анахронизмом. «Блок увел нас от подлинного искусства, но не привел нас к подлинной жизни» (Б. Эйхенбаум. Сквозь литературу. Сборник статей. Л., 1924. С. 215—232).
В. Шкловский не принял роман Горького «Жизнь Клима Самгина»: «Горький – жертва установки на „великую литературу“»...
П. Незнамов дал резко отрицательный отзыв о романе Леонова «Вор» по той же самой причине: «Леонов... просто переписывает Достоевского» (там же, с. 139).
Леонид Леонов не выдержал и возмутился. «Следует разумно, – писал он, – использовать литературу для построения нового общества, следует всячески способствовать расцвету ее живых и здоровых сил, а не стандартизировать циркулярами художественную мысль» (Печать и революция. 1929, № 1, с. 69). Критики, которые стояли, как им казалось, на правильных позициях и поносили Горького, Сергеева-Ценского, Чапыгина, Есенина, Клюева, Клычкова, Шолохова, Андрея Белого, Федора Сологуба, Евгения Замятина, Булгакова, Леонова, Федина и др., как раз и способствовали своими циркулярами стандартизации художественной мысли. Сергеева-Ценского, Замятина, Булгакова называли «писателями новой буржуазии», «так как общая картина общественной жизни, которую они дают в своих произведениях, показывает их отрицательное отношение к современной действительности» (Саянов В. Современные литературные группировки. Л., 1930. С. 34).
В конце 20-х годов глава конструктивистов К. Зелинский, как бы подводя итоги этой нигилистической «переоценки ценностей», писал: «Да, не повезло русскому народу просто как народу... Мы начинаем свою жизнь как бы с самого начала, не стесняемые в конце никакими предрассудками, никаким консерватизмом сложной и развитой старой культуры, никакими обязательствами перед традициями и обычаями, кроме предрассудков и обычаев звериного прошлого нашего, от которого мысли или сердцу не только не трудно оторваться, но от которого отталкиваешься с отвращением, с чувством радостного облегчения, как после тяжелой неизлечимой болезни».
Самые прозорливые деятели того времени чувствовали, что «перебрали» с нигилистическим отрицанием культурного наследия народа, и предупреждали, что необходимо унять этот пафос. А.В. Луначарский на совещании в Отделе печати ЦК нашей партии в мае 1924 года, отвечая лидерам «напостовства», сказал: «Если мы встанем на точку зрения гг. Вардина и Авербаха, то мы окажемся в положении кучки завоевателей в чужой стране».
Даже в эти кризисные годы, при всей оригинальности дарования, при всей его неповторимости, Михаил Булгаков был верен национальным традициям. Он всегда был верен самому себе, взглядам, чувствам, тому, что обычно называют миросозерцанием. Не изменил себе художник и после того, как за короткий срок на него обрушилось 298 «враждебно-ругательных» отзывов о его творчестве. Он делал аккуратные вырезки этих публикаций, наклеивал их в альбом или вывешивал на стены комнаты, как рассказывали Л.Е. Белозерская, Е.С. Булгакова, явно издеваясь над всей шумихой недоброжелателей. В Отделе рукописей Российской Государственной Библиотеки имени В.И. Ленина хранится этот примечательный альбом – он стоит того, чтобы внимательно перелистать его, вчитываясь в то, что писали тогдашние критики. Иначе как коллективным доносом это и не назовешь. А много лет спустя Е.С. Булгакова извлекла из альбома все фамилии и составила список.
«Вспоминаю, как постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны М.А., а попутно истощалась и нервная система писателя: он становился раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал дергать плечом и головой (нервный тик). Надо только удивляться, что творческий запал (видно, были большие его запасы у писателя Булгакова!) не иссяк от этих непрерывных грубо ругательных статей. Я бы рада сказать критических статей, но не могу – язык не поворачивается» (Л.Е. Белозерская).
И, наконец, М. Булгаков, больной от недобрых предчувствий, издерганный постоянной травлей, обратился с письмом к Правительству СССР 28 марта 1930 года. А меньше чем через месяц ему позвонил Сталин (см. комментарии на с. 170—174).
Л.Е. Белозерская вспоминала, что к этому телефонному звонку прислушалась вся литературная и театральная Москва: «В скором времени после приезда из Крыма (лето 1930 года.– В. П.) М.А. получил вызов в ЦК партии, но бумага показалась Булгакову подозрительной. Это оказалось „милой шуткой“ Юрия Олеши. Вообще Москва широко комментировала звонок Сталина. Каждый вносил свою лепту выдумки, что продолжается и по сей день»...
Читатели, конечно, обратят внимание на письма М.А. Булгакова Енукидзе, Горькому, Вересаеву, Правительству СССР, Сталину, брату Николаю Афанасьевичу в Париж, в которых он описывает свое положение после того, как все три его пьесы, поставленные в театрах, были сняты с репертуара, а законченные «Бег» и «Кабала святош» не разрешены Главреперткомом. В этих письмах чувствуется безысходность, отчаяние, но они полны так же благородства и достоинства. Читатели прочитают эти письма и комментарии к ним и поймут, в каком положении оказался писатель и кто был в этом виноват.
Положение М.А. Булгакова было действительно тяжелейшим. И телефонный звонок Сталина, пообещавшего хорошо оплачиваемую работу в любимом театре, действительно вернул его к творческой жизни.
Примем во внимание, что 1930 год – это год «великого перелома», бурная пора повсеместной коллективизации... Лишь в январе 1932 года, как свидетельствуют очевидцы, Сталин снова вспомнил о Булгакове, подивившись, что «Дни Тубиных», одна из его любимых пьес, не идет в театре. Таковы очевидные факты, которые необходимо учитывать, читая письма Михаила Афанасьевича этого времени. О своих переживаниях, связанных с возобновлением спектакля, Булгаков подробно рассказывает П.С. Попову.
Так что же происходило в жизни М.А. Булгакова за это время – от телефонного звонка Сталина до возобновления «Дней Турбиных»?










