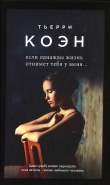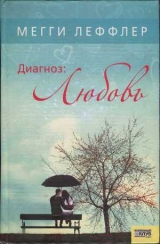
Текст книги "Диагноз: Любовь"
Автор книги: Мегги Леффлер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Глава 2
Три укола
Не стоит винить больного в том, что он болен.
Оксфордский учебник клинической медицины
Прошло около восьми месяцев – вот уже середина апреля, тридцатый день непрерывного дождя, – а я все никак не могу приблизиться к тому, чтобы дать ответ на этот вопрос… Пока моя пациентка Клара Шторм не помогает мне понять саму себя, со мной не все в порядке и, вполне возможно, не будет в порядке до тех пор, пока я не уеду из Питтсбурга.
Я стояла возле стойки дежурной сестры в отделении интенсивной терапии, экспромтом отвечая на вопросы секретаря относительно того, что нужно сделать с телом из 305-й палаты, если нам не удастся связаться с родственниками умершего пациента. Как только я собралась посоветовать секретарю следовать обычным правилам обращения с мертвым-телом-при-отсутствии-родственников, Ширли, наша раздражительная сиделка, которая отдыхает от забот о пациентах с аппаратами искусственного дыхания, куря одну сигарету за другой, сказала, что реанимация только что отзвонилась. Там отказывались принять назад пациента из 305-й.
– В конце концов, это ведь не стандартная процедура, правда? Разве умерших посылают обратно в реанимацию? – спросила я.
– Ну, держать покойника в отделении интенсивной терапии – это тоже не стандартная процедура, – отрезала Ширли.
– У него был пульс! – возразила я.
Дело в том, что пациент из 305-й палаты едва ли был жив, когда его привезли из больницы в Виргинии к нам в реанимацию. Его грудь посинела, конечности были сведены в трупном окоченении, расширенные зрачки не реагировали на свет. В таком состоянии он уже пробыл около сорока пяти минут, однако его сердце продолжало работать, хотя пульс был очень слабым, нитевидным. Мы использовали электрошок, лекарства, снова электрошок, надеясь на то, что сердечной мышце удастся вернуться в нормальный ритм. В итоге, после часа в реанимации, электрошока и кислородной подушки, после бесполезных попыток оживить умершее тело, сердце прекратило работу.
Я определила время его смерти: три часа сорок две минуты пополудни. Никто не возразил, но я услышала, как чей-то голос прошептал, что нам давно следовало бы остановиться. Эта фраза заставила меня задуматься: неужели врачи и в самом деле могут отступиться от пациента, даже если его сердце все еще бьется? Впрочем, удивляться было некогда – остановившееся сердце пациента внезапно заколотилось со скоростью фейерверка в День Независимости. Грудная клетка отчетливо двигалась в такт сердцебиению, поэтому я объявила, что он жив, и приняла решение доставить пациента обратно в 305-ю палату. Было ясно, что попытки оживить его будут продолжаться до того самого момента, как мне удастся связаться с кем-нибудь из членов его семьи и сообщить мрачное известие – у пациента нет ни малейшей надежды на восстановление нормальной жизнедеятельности. Однако на полпути из реанимации в палату его отчаянно бившееся сердце вновь остановилось, и теперь медсестры из отделения интенсивной терапии злились на меня за то, что пациент не был объявлен мертвым еще в реанимации: из-за этого им приходится возиться с мертвым телом и оформлять кучу разнообразных бумаг.
– Милая, в следующий раз, если сомневаешься в чьей-то смерти, зови меня. – Вторая сиделка, Ванда, ободряюще положила руку мне на плечо. – Я быстро определю его состояние.
Я была ей благодарна. Мне повезло, что Ванда оказалась среди медсестер, везущих пациента из реанимации в 305-ю палату. Повезло, потому что в тот момент я запуталась и не понимала, что же такое на самом деле смерть. Мужчина был холодным, синюшным, не реагировал на раздражители, однако он не так уж отличался от леди из 311-й палаты, чей мозг давно погиб, но семья настояла на том, чтобы «было сделано все возможное», и теперь оплачивает аппарат жизнеобеспечения. Точно так же выглядел пациент из 306-й палаты, который третью неделю оставался практически в том же состоянии, в котором его обнаружили на скамейке в парке – гипотермия и гипогликемия. Мужчина, которого я направила в 305-ю, был таким же синюшным, разве что температура его была ниже, и я продолжала бы его везти, если бы Ванда – совсем как тот мальчишка, увидевший, что король-то голый, – не воскликнула: «Да ведь он же окочурился!»
Я люблю Ванду за ее длинные ногти, раскрашенные, словно маленький американский флаг. Я люблю Ванду за то, что она знает, когда нужно остановиться. Или, что важнее, когда нужно начать, как в случае с Кларой Шторм, в палату которой Ванда меня и подталкивает.
– Забудь о 305-й и пошли со мной в 302-ю, – говорит она. – Кларе нужно поставить капельницу. А она их терпеть не может.
Клара Шторм не была похожа на остальных пациентов нашего отделения. В том смысле, что она была в полном сознании и вовсю этим пользовалась, требуя, требуя и требуя… Несмотря на то что ей сделали трахеотомию и подключили к аппарату искусственного дыхания, Клара продолжает шевелить губами, беззвучно выражая свое отношение к происходящему. Клара говорит, что ей надоела ее пневмония, надоел вот этот «надувной матрас, который издает звуки автомобильного двигателя», надоели программы, которые показывают по телевизору. А я размышляю над тем, справлюсь ли я со своей будущей работой в качестве семейного врача и смогу ли выдержать год практики по специальности, когда закончится – через два с половиной месяца – моя здешняя практика. В последнее время я предпочитаю пациентов, которые не могут жаловаться и говорить о своих проблемах.
Состояние Клары таково, что артериальные вливания просто необходимы. Поэтому игла для них должна быть введена в ее запястье. Я говорю Кларе, что нам нужно регулировать ее артериальное давление, что измерение его с помощью манжеты не дает правильных показателей и что я не «ловлю кайф», издеваясь над ней. Потом я пытаюсь убедить пациентку, что это спасет ее от множества других уколов, поскольку мы сможем брать анализ крови прямо из иглы, находящейся в артерии. Клара смотрит с сомнением. Она поднимает вверх указательный палец и одними губами произносит:
– Одна игла. Один укол. Не больше.
Ванда тоже смотрит с недоверием. Клара не только весит полтора центнера, ее запястья разбухли от множества предыдущих инъекций. Тогда я коротко говорю:
– Я постараюсь.
Пока я дезинфицирую запястье Клары, по телевизору, закрепленному под потолком, начинается выпуск новостей. Сообщают, что в Окленде, около бензоколонки Эккстон, на углу Форбс-авеню и МакКи, произошла перестрелка. Я подняла взгляд от йодного кружочка на рыхлом, бледном запястье Клары и взглянула на экран. Репортеры из группы горячих новостей мокли под дождем на тротуаре.
– Во второй половине дня мужчина, которого опознали как Роберта Колмана из Пенн-Хиллз, вошел в Квик-Март и застрелил свою бывшую подругу, Элани Винтер, тоже проживавшую в Пенн-Хиллз, – сообщил довольно привлекательный чернокожий репортер, ведущий выпуск. Как я заметила, его всегда посылали в самые горячие точки города.
– Преступник также убил доктора Габриэля Лизнера из Нью-Йорка, после чего застрелился сам, – продолжил репортер. – Мисс Винтер внезапно поссорилась с мистером Колманом. Эта ссора произошла сегодня утром. Доктор Лизнер не имел отношения ни к жертве, ни к убийце. Согласно полученным данным, он был приглашен Питтсбургским медицинским университетом для прочтения курса лекций и оказался на линии огня случайно – просто зашел в магазин, чтобы купить бутылку воды.
– Господи Иисусе! Вот уж точно оказался не в то время и не в том месте, – комментирует Ванда, нажимая своими американскими флажками на кнопки монитора, стоящего у койки Клары.
Я снова взглянула на экран, надеясь увидеть фотографию застреленного доктора, которого я, вполне возможно, знала, но они показывали выжившего свидетеля, работника магазина. Ему удалось выжить, спрятавшись за стеллажом с кофе, который он на тот момент протирал. Репортаж закончился обещанием репортера подробно рассказать о случившемся в шестичасовом выпуске. Сам выпуск новостей включал в себя еще одно важное событием: в Питтсбурге открылся новый магазин «Крипси Крим Донат».
– Эй, это разве не твоя невестка? – Ванда ткнула пальцем в Алисию Акстелл, которая стояла у входа в магазин, крутила свой разноцветный зонтик с надписью «Live!» и брала интервью у клиентов, расспрашивая, как им нравится идея нового магазина.
– Еще не невестка, – отозвалась я. Затем, не меняя интонации, сказала Кларе: – Одна маленькая иголочка.
Одновременно с этим я ввела иглу в запястье пациентки. Клара открыла рот, чтобы закричать, но, к счастью, она была не в том положении, чтобы воспользоваться своими вокальными данными. Вместо крика получилось одно лишь шипение, вырывающееся из трубки в ее трахее.
– Держись, милая. Ты прекрасно справишься, – подбодрила ее Ванда, стоящая с другой стороны койки. – Так когда же свадьба? – снова обратилась она ко мне.
– Они еще не назначили дату, – ответила я, пытаясь найти в руке Клары нужную мне лучевую артерию и попасть в нее иглой. Господи, ну где же ее нитевидный пульс? Куда он мог подеваться? Клара смотрела на меня, по ее щекам катились слезы.
– А колечко уже есть, – заметила Ванда, поглядывая на экран. Она спокойно стояла рядом со мной, готовая подсоединить иглу к монитору, если я, конечно, когда-нибудь попаду в эту артерию.
Ванда говорила о кольце моей матери, квадратном изумруде, оправленном в платину. Тот факт, что Алисия носит его, заставлял меня нервничать сильнее, чем обычно. Это кольцо должно было достаться мне, а не Бену. По правде говоря, у меня уже и так были гранатовые серьги и прекрасный браслет с сапфиром, но как только я вспоминаю изумруд – или вижу его по телевизору каждый вечер между пятью и одиннадцатью, – я представляю мамины глаза, похожие на этот зеленый кристалл. Не важно, берет ли Алисия интервью у типа, обвиненного в педофилии, или предупреждает о дружелюбном звереныше по имени Мистер Милашка, который сбежал из зоопарка, она стоит, сжимая микрофон, и зеленый мамин глаз подмигивает мне с кольца на ее левой руке.
Наконец-то! Вишнево-красная кровь ползет по трубке – я попала в артерию Клары. Какое это удовольствие – подсоединить трубку катетера к сосуду и аппарату!
– Все получилось, Клара. С первой попытки. Вы великолепно держались, – говорю я, однако, если быть честной, делаю комплимент не столько ей, сколько себе.
Ванда прикрепила катетер к трубке и промыла его физраствором. На мониторе появилась линия, отображающая кровяное давление Клары, показатели которого были весьма обнадеживающими. Я улыбалась ровно до тех пор, пока мой взгляд не скользнул по экрану телевизора, где Алисия продолжала рассказывать историю «Крипси Крим»-мании.
Потянувшись за стерильной швейной иглой, которой нужно было прикрепить артериальную пробу к руке Клары, я вспомнила, что не предупредила ее о второй игле. Не особо раздумывая, я решила пришить пробу без предупреждения.
– Клара, мне придется снова уколоть вас, чтобы игла и трубка не выпали, – сказала я.
– Не-е-е-ет! – Она кричала беззвучно, и это было жутко, словно фильм ужасов с выключенным звуком.
– Клара, это необходимо, – настаивала я.
– Приклей ее, – беззвучно прошептала она.
– Я не могу ее приклеить. Нужно пришить ее, чтобы игла не сместилась и не выпала. Хорошо? – Я пропустила швейную иглу сквозь кожу пациентки прежде, чем она смогла запротестовать.
– Все, Клара, уже все. Все закончилось. Это был последний укол, – быстро произнесла я, стараясь не обращать внимания на ее слезы.
В дверях появилась Ширли и сообщила, что у нас возникла проблема. Внезапно объявился сын пациента из 305-й палаты; он позвонил и заявил, что хочет попрощаться с отцом.
– Так в чем проблема? – спросила я, поднимая взгляд от запястья Клары, с которым я все еще возилась, пытаясь завязать узел на нитке, державшей иглу. Это самый сложный для меня этап, более сложный, чем умение удержать на месте артериальный катетер. Необходимость пришивать что-либо, пусть даже пуговицы к одежде, всегда пугала меня больше, чем сам вид катетера в запястье.
– Тело уже отправили в морг, – ответила Ширли и вопросительно посмотрела на меня.
– Ну так направьте и сына туда же, – сказала я.
– Это что, «CSI»[4]4
«CSI» – известный сериал о расследованиях, в которых участвуют медики-паталогоанатомы.
[Закрыть] города Питтсбурга? – вмешалась Ванда, внезапно повысив тон, отчего ее голос зазвучал особенно пронзительно. – Он собирается проводить тут опознание тела?
– Мы обычно не пускаем родственников в морг, – ответила Ширли. – К тому же после пяти часов вечера там нет никого из персонала. Нельзя позволить этому сыночку просто так разгуливать среди мертвых тел.
– Тогда верните тело, – предложила я.
– К жизни? – громко ухмыльнулась Ванда.
– В 305-ю палату, – продолжила я. – Пусть сын спокойно с ним попрощается.
– Мы не возвращаем тела из морга в отделение интенсивной терапии, – ехидно протянула Ширли.
– О, великолепно. Только после официального приказа, – ответила я.
– Эй, ты все еще здесь? Как насчет того, чтобы очистить помещение от септических личностей? – спросила Ванда.
Ширли развернулась и исчезла в коридоре, ответив на вопрос нарочито громким вздохом. Что означал этот вздох для пациента из 305-й палаты, я так и не поняла. Однако Ванда сегодня – определенно моя героиня, поскольку избавила нас от присутствия Ширли.
– A теперь нам нужно поговорить о капельнице, – сказала Ванда, как только я закончила завязывать узел и стерильными ножницами отрезала остаток нити. – Каждый раз при инъекции у нее рвутся вены. Нужно ставить подключичную.
– Ой-ой, – произнесла я, поскольку обещала Кларе всего один укол, потом последовал второй, а теперь…
– Что происходит? – беззвучно произнесла Клара, испытующе глядя на меня.
Я придвинулась ближе, чтобы шум аппарата искусственного дыхания и воздушного матраса не мешал мне объяснить, что у нас нет возможности ставить ей капельницы. Клара напомнила, что я минуту назад ввела иглу в ее руку. Я ответила, что артериальный катетер служит для измерения кровяного давления, а для капельниц нужен совсем другой.
– Мы не можем вводить лекарства в вашу артерию, – объяснила я. – Для того чтобы лекарства попадали в вашу кровь, нам нужно ввести еще одну иглу в вену.
– Вы мне обещали, – напомнила Клара, – только один укол.
– Я имела в виду иглу артериального катетера. Я не знала, что вам потребуется еще и венозный.
– Вы обещали.
– Я ничего вам не обещала! – вспылила я.
Ванда подалась вперед и положила руку на плечо Клары. Голос ее стал медовым, и у меня возникло чувство, что она не столько успокаивает Клару, сколько пытается успокоить меня.
– Клара, милая, вы же знаете, что каждый раз, когда я ставлю вам капельницу в руку или сгиб локтя, ваши вены рвутся. Позвольте доктору Кэмпбелл поставить вам центральный катетер, он прослужит гораздо, гораздо дольше.
– Клара, мы не можем вводить вам антибиотики или обезболивающее без капельницы, – добавила я.
– Вы меня просто уговариваете. – Клара была недовольна.
– Я не уговариваю вас, я пытаюсь вам помочь! – закричала я, заглушая шум аппарата и шорох матраса. Звуки, из-за которых создавалось впечатление, будто мы находимся в заводском цеху…
Губы Клары на этот раз двигались медленнее, и я отчетливо прочитала по ним: «Не вини меня за то, что я болею».
– Милая, никто вас ни в чем не винит, – сказала Ванда, поглаживая ее по плечу.
Это была ложь. Клара была права. Я действительно обвиняла ее. В том, что она посмела чувствовать.
Вот так я и поняла, что мне пора уезжать из Питтсбурга.
– Все в порядке, доктор Кэмпбелл? – прозвучал дружелюбный вопрос со стороны дверей. Это был Мэттью Холемби.
Я опустила рукава халата и предупредила Клару, что скоро вернусь, поскольку наш разговор еще не закончен.
– Может, я смогу чем-то помочь? – спросил Мэттью, когда я вышла из палаты и мы направились в сторону стола дежурных медсестер.
– Кларе Шторм нужно ставить капельницу, – ответила я, пробегая пальцами по прядкам волос, выбившимся из моего хвоста. – А у нее постоянно рвутся вены.
– Не проблема, – он произнес это тоном настоящего английского джентльмена. – Хочешь, я это сделаю?
– Я и сама могу это сделать, вот только она не разрешает. – У меня сорвался голос. Боже, еще немного, и я расплачусь от расстройства. Ну почему все сильные эмоции – раздражение, удовольствие, страх, вина – моментально доводят меня до слез?
Мэттью остановился и положил руку мне на плечо.
– Может, доверишь это дело мне? Вдруг я смогу ее уговорить?
Я пожала плечами, мол, пожалуйста, пусть пытается, я не против. Благодаря английскому акценту Мэттью может уговорить кого угодно. И нашим медсестрам, даже Ширли, этот парень сразу понравился именно благодаря акценту. Кроме всего прочего, пластиковый мешок с телом пациента из 305-й только что привезли из морга, а я не могу пребывать в двух местах одновременно.
– Куда посылочку сгружать? – спросил санитар таким тоном, словно доставлял мебель из Поттери Барн.
– Вон туда, дальше по коридору. – Я указала на дверь 305-й палаты. – На кровать, пожалуйста. И вытащите его из мешка. – Оглянувшись на Ширли, я добавила: – Можно накрыть его одеялом? – Ширли в ответ уставилась на меня, и я пояснила: – Он совсем холодный.
– Ага, холодный, надо же какая неожиданность, – пробормотала она, проходя мимо.
Сквозь стекло двери 302-й палаты я видела, как Мэттью подошел к кровати Клары, а та кивнула головой, вместо того чтобы шевелить губами. Он убедил ее так же быстро, как договорился со мной.
Последний месяц мы с Мэттью вместе «проводили время». Когда бабушка Ева поинтересовалась, можно ли наше «проводим время» понимать как серьезные отношения, я ответила, что не уверена. Я сказала, что мы действительно вместе проводим время, хоть бабушке и не нравится, как это звучит.
– Но ты же девушка, а он парень, – раздраженно заявила мне бабушка. – Каким это образом вы вместе можете проводить время?
Я просто перечислила то, что она хотела от меня услышать: совместные обеды и ужины, походы в кино и все такое прочее. Но не упомянула, что чаще всего мы настолько устаем, что не возникает даже мысли куда-то пойти и сил хватает лишь на то, чтобы сидеть на диване и разговаривать. Или молчать.
– То есть у вас все-таки серьезные отношения, – вынесла вердикт бабушка Ева.
– Нет, – упрямясь, ответила я. – По крайней мере, не так официально.
– Что ж, тогда ты готовишься к брачному союзу, – подытожила Ева, и это прозвучало столь же романтично, как новость о вступлении в профсоюз. Пусть так, все равно это «вступление в профсоюз» воспринималось мною лучше, чем «серьезные отношения». Я решила больше не спорить с ней.
– Порядок, – сказал Мэттью, возвращаясь из палаты Клары. – Ванда, принеси четвертый набор и все, что необходимо для капельницы. Холли, можешь отправляться домой.
– Правда? – обрадованно спросила я.
– Придешь сегодня? – спросил он, понизив голос, что одновременно и нравилось мне, и немного напрягало. Похоже, Мэттью уже готов на большее, чем просто «проводить время», и он был бы рад уговорить меня… Но моя жизнь – это работа, а моя работа достаточно нервная и напряженная, исключающая разнообразные драмы, без которых не обходятся серьезные отношения между мужчиной и женщиной. Я оглянулась, проверяя, не слышал ли кто последних слов Мэттью, но Ширли все еще укладывала на кровать пациента из 305-й палаты, а Ванда готовилась к третьему уколу несчастной Кларе.
– Вечером мне нужно будет зайти в прачечную, – ответила я, и это была чистая правда. Вся моя квартира, заваленная грязной одеждой, уже стала похожей на склад пожертвований для Армии спасения.
– Почему бы тебе не воспользоваться стиральной машиной в моем подвале? За это и платить не придется, – предложил Мэттью.
Он снимает старый домик в Хайленд-парке, а я живу в хорошей квартире на Шейдисайд, что стоит мне на три доллара дороже. Честно говоря, я не хочу к нему ехать по одной глупой причине, которую даже озвучивать стыдно: я боюсь его подвала – сырого, темного, с клочками паутины на сушилке.
– Если ты возьмешь мой ключ, то сможешь поехать прямиком туда и покончить со своей стиркой, – добавил Мэттью.
– Я не смогу покончить со стиркой, поскольку моя одежда у меня дома. – Я вежливо оттолкнула его руку с протянутым мне ключом. Ширли наверняка подсматривает за нами из 305-й палаты, а больше мне и не нужно: медсестры уже получили новую тему для разговоров. Я представляю, как из ничего рождаются сплетни, – например, если мы не отвечаем на телефонный звонок с первого раза. «Трахаются в ординаторской», – сразу решают они. Официально заявляю: я не занимаюсь сексом ни в ординаторской, ни в какой другой комнате. В колледже я решила хранить девственность до свадьбы, в медицинской школе я берегла себя для подходящего момента, а с тех пор как началась практика, мне приходится беречь себя только для сна.
– Можем заказать пиццу… или что-то из китайской кухни, – продолжил он.
Горячая еда, независимо от национальной кухни, вдруг кажется мне прекрасным предложением.
– Хорошо, – чуть помедлив, ответила я.
– Великолепно, – произнес Мэттью и улыбнулся. Его зубы точно не знали пластинок или каких-нибудь других достижений стоматологического выравнивания. Они выглядят необычно, словно клавиши пианино во время исполнения какой-то композиции.
Я сказала ему, чтобы он позвонил, когда доберется домой, а если я сразу не отвечу, то, значит, отмокаю в ванне.
На дорогу с работы до моего дома уходит около сорока минут: Баум-бульвар заполнен машинами так же плотно, как мой мозг – размышлениями. «Не вини меня за то, что я болею», – сказала или попыталась сказать Клара. Эти слова заставили меня промокать слезы, наворачивающиеся на глаза. Кем нужно быть, чтобы обвинять пациента в том, что он посмел заболеть? Когда не стало мамы, я ловила себя на том, что, если мне жалуются на боль в груди, я не размышляю, инфаркт миокарда это или эмболия сосудов, а думаю: «Ну почему? Почему именно сейчас ты лезешь ко мне со своими проблемами?»
А потом были мысли о пациентах нашей клиники, и я вспоминала их, двигаясь по Центральной авеню и Южной Айкен. Они крадут мои силы, вьются вокруг меня, облучают своими проблемами, как радиацией. Их отчаяние угнетает меня. Я привыкла к учебникам и мертвым телам в анатомичке, где никто и никогда ничего не требует. Покойники не беспокоятся по поводу справки о нетрудоспособности из-за грибковой инфекции или покраснения глаз, вызванного приемом наркотиков, они не просят промываний желудка для того, чтобы сбросить вес. Покойники не ждут сочувствия, не злятся на меня, если я не могу им помочь, не возмущаются, когда я трогаю, смотрю, изучаю, нюхаю их раны. Покойники лежат себе тихонько и словно бы говорят: «Вот он я. Можешь разрезать меня. Можешь разобрать меня на части. Можешь делать со мной все, что тебе вздумается». Похоже, я почти ничем не отличаюсь от покойника. Кроме того что я – асексуальный циник, жаждущий иной жизни, заполненной мужчинами и шоколадом.
Подъехав к дому, я заглушила мотор, уперлась лбом в руль и попыталась отговорить себя от прекрасной идеи – выспаться на заднем сиденье. Внезапно путь от парковки до моей квартиры на первом этаже показался туристическим маршрутом по Большому Каньону и обратно.
«Дома хорошо», – уговаривала я себя, пытаясь выбраться из машины.
Каждый раз, открывая дверь своей квартиры, я удивляюсь тому, как человек, практически здесь не бывающий, умудряется устроить такой беспорядок. Грязная одежда валяется везде: на полу, на журнальном столике, на спинках стульев. Тарелки грудой лежат в раковине, поверх них образовалась зеленая лужайка плесени. К радости домовых, такая же лужайка покрывает кастрюли на плите. Я бросила свою врачебную сумку на столик и попыталась включить музыку, но коробочки для дисков оказываются либо пустыми, либо в них вставлены совсем не те диски. Не зная настоящего положения вещей, можно подумать, что на мою квартиру был совершен налет. Одной мысли об этом достаточно для того, чтобы я остановилась и внимательно огляделась вокруг. Мусорил ли здесь кто-то еще? Нет, все выглядит так же, как вчера, как позавчера.
Замусоренная или нет, квартира все равно остается моим любимым убежищем. Я сбросила на пол свой белый халат и вытащила из холодильника пиво. В моем доме нет страшных подвалов с вещами, брошенными из чувства вины или спрятанными в темных углах, как мужчина из 305-й палаты. Вместо этого есть роскошная спальня с одной кроватью, высоким потолком, деревянным полом, встроенными шкафами и книжными полками. А еще есть ванна со старомодными ножками, к которой я сейчас направляюсь. Положив «Инглинг» и журнал американской академии семейных врачей на крышку унитаза, я выскользнула из униформы, включила горячую воду и забралась в ванну. В тот же момент зазвонил телефон, заставив меня застонать от отчаяния. Это Мэттью, кто же еще. Господи, неужели я не могу ни минутки побыть в одиночестве?
Впрочем, мне не стоит на него сердиться. В конце концов, он мне действительно нравится, причем нравится гораздо больше, чем мне бы этого хотелось. «Интересно, как он умудрился стать моим пунктиком?» – подумала я, нежась в горячей воде. Телефон продолжал звонить.
Началом нашего «союза» стал один из мартовских понедельников, когда проводились семинары по теме «Принятие решений». На той неделе как раз была моя очередь вести дискуссию на предмет результативности обучения интернов, основанного на опросе больных и данных статистики. Если это на самом деле результативно, то мне, честно говоря, придется кое-что пересмотреть в своей практике и образе жизни.
Мэттью появился в аудитории примерно на половине моей лекции и занял место в последнем ряду. Я решила, что он просто пришел спокойно поесть, поскольку обычно практиканты-хирурги не заскакивают на обеденные лекции семейных врачей. Но вместо того чтобы быстро перекусить, делая вид, что занят конспектом, Мэттью поднял руку и прервал мою лекцию.
– Чепуха, – заявил он, заставив всех обернуться. Многие слушатели улыбнулись, увидев нарушителя спокойствия, которого все знали как Бадди Холли (это прозвище он получил сразу же по прибытии в Сент Кэтрин за свои специфические очки). – Чем вы это докажете? – Мэттью действительно было интересно.
– Прошу прощения? – Я скрестила руки на груди. Лежавшие в нагрудном кармане ручки, судя по ощущениям, скользнули мимо бюста и впились прямо в ребра.
– Если вы верите, что это исследование проведено на должном уровне и его конечное утверждение правдиво, то тем самым признаете нулевую гипотезу, – сказал Мэттью.
– Признаю нулевую гипотезу? – повторила я. В его исполнении это прозвучало как обвинение в атеизме, хотя сам факт, что я не считаю Библию истиной в последней инстанции, – это ведь не доказательство того, что я не верю в Бога.
– Статистический анализ – это философия случайностей, – продолжил Мэттью, поднимаясь со своего места и подходя к доске, на которой я делала маркером пометки во время лекции. Мои глаза непроизвольно расширились от такой непосредственности. – В нашей жизни не бывает абсолютов. Даже достаточно достоверный статистический анализ не сообщит нам правды, его результат говорит лишь о том, что с определенной степенью вероятности правда будет находиться где-то между этим местом, – сказал Мэттью, правой рукой дотрагиваясь до моего плеча, – и вот этим. – Левую руку он положил себе на грудь.
Я уставилась на упомянутое пространство между нами.
– Теперь, если позволите… – Мэттью вытащил маркер и начал писать на доске, комментируя свои пометки: – Нулевая гипотеза утверждает, что экспериментальное отношение между объектом X и объектом Y является результатом случайности, – именно это экспериментатор и пытается опровергнуть. Он стремится доказать, что это больше чем случайность, он хочет с помощью статистики определить шанс подобных отношений. – Мэттью подчеркнул последнее слово. – В результате экспериментатор либо отказывается от нулевой гипотезы, либо опровергает ее, но никто и никогда с ней не соглашается.
Мне внезапно стало интересно. Может, он имеет в виду нечто большее, чем тема лекции, а именно… нас?
– Эй, это же перманентный маркер, – раздался с первого ряда голос Мери Ворсингтон.
Мэттью лизнул палец и попытался стереть свое творчество с доски, но даже сейчас, месяц спустя, надпись все еще красуется на ней.
– Господи, я прошу прощения.
– Хирургия задолжала нам новую доску, – добавил кто-то из аудитории.
– Заметано, – с готовностью ответил Мэттью, кивнув слушателям.
Однако, несмотря на показную уверенность, он, вернувшись на свое место, скромно просидел весь остаток дискуссии и не пытался больше выступать с собственным мнением.
После занятия я поймала его в коридоре и спросила, о чем, черт побери, он пытался рассказывать у доски.
– Для тебя это, должно быть, действительно важно, раз ты не побоялся испортить нашу доску. – Я улыбалась, искренне надеясь, что он больше заинтересуется мной, нежели предложенной темой. Однако Мэттью остался серьезным, ответив так, словно мы обсуждали политическое шоу или атипичную пневмонию.
– В авторских методиках всегда существует одна и та же ошибка. Я имею в виду ту самую критическую ошибку, к которой люди уже привыкли, – ответил он. – Автор исследования берет одну контрольную группу и использует ее снова и снова для самых разных сопоставлений. Меня такой подход просто бесит. Результаты потом оглашаются, а ведь они полностью бессмысленны.
– Почему бессмысленны? – поинтересовалась я.
– Потому что нельзя случайным образом отобрать группу людей и решить, что данная выборка является репрезентативной в любом из возможных случаев. Все необычное отсекается контролем как неподходящее, остальное сравнивается с контрольной группой и на основании совпадения начинает считаться нормой. Таким образом, конечный результат всегда получается извращенным.
– Понятно, – ответила я, хотя на самом деле понимала лишь то, что у него густые ресницы, зеленые глаза и недюжинный темперамент.
– Как бы там ни было, нужно всегда иметь два независимых параметра и искать истину где-то между ними, – закончил Мэттью.
Внезапно на меня нахлынули непонятные чувства – надежда, отчаяние, головокружение, усталость? – и я поняла, что именно этого момента ждала так долго. Момента, который сведет двух разных людей вместе и станет для них знаковым. Мэттью и я – два абсолютно независимых параметра, и, вероятно, истина окажется где-то рядом.
Поэтому прямо там, в коридоре, я пригласила его на обед. В тот вечер, и в следующий, и весь последний месяц мы выкраивали время для того, чтобы немного побыть вместе.
Вспомнив о том памятном дне, я села в ванне и решила, что трубку все-таки стоит поднять, прежде чем звонящему надоест ждать меня. Однако я не успела, и через секунду выяснилось, что на другом конце провода был не Мэттью, а Бен. Голос брата заполнил всю квартиру, и я подумала, что в будущем придется снижать громкость автоответчика до минимума. Наверное, все соседи слышали сквозь стены истерические вопли моего брата-близнеца.