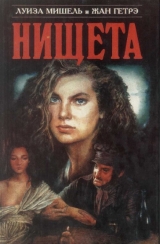
Текст книги "Нищета. Часть первая"
Автор книги: Луиза Мишель
Соавторы: Жан Гетрэ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 39 страниц)
Глава 29. Сумасшедший
После ухода Мадозе Валентина, забыв о прерванном обеде, в полном изнеможении опустилась в кресло, но Матье, появившись в дверях, доложил, что маркиз чрезвычайно возбужден и угрожает разбить себе голову о стену.
Госпожа де Бергонн тотчас вернулась к мужу. Увидев ее, Гюстав перестал расхаживать по комнате и вызывающе спросил, скрестив руки на груди:
– Кто осмеливается утверждать, будто солнце не погасло? Уж не ты ли? Впрочем, ведь у каждого свое солнце, – добавил он запальчиво. – Мое солнце сияло в прекрасных глазах одной женщины. Лишь через эти прелестные оконца лились на меня и свет, и тепло. Xа-ха-ха!..
Частенько женщина меняется,
Безумец тот, кто ей вверяется!
– Бездельник, написавший эти строки, безусловно, прав. Ах, если б я мог своим каблуком раздавить сердца всех женщин сразу! И пусть из них вытекло бы целое море вероломства и лжи, – клянусь честью, я сделал бы это, и поступил бы хорошо!
– Вы поступили бы дурно, сударь, – возразила Валентина. Иногда ей удавалось, мягко споря с безумцем, урезонивать его. – Да, это было бы злое дело.
– Злое? Не существует ни добра, ни зла: все это – выдумки дьявола или Бога, неважно чьи. Подобно тому, как свет не может быть без тени, не бывает и добродетели без порока.
– Остерегитесь! Вы богохульствуете. Ведь Господь благ.
– Зачем ты называешь его благим? Такого бога я не знаю, даже если он и существует. Я верю лишь в Бога карающего.
– Но он ежедневно являет нам свою благость.
– О да, бесспорно! Разве не он создал бесчисленное множество тварей, пожирающих друг друга, и человека, поедающего их всех? Все живое страдает, мучается, умирает…
– Все должно возродиться и жить вечно.
– Ты веришь в это? А между тем ветер жалобно воет, и под твоей ногой гибнет какая-нибудь букашка… Ты не можешь и шагу ступить, не раздавив трепещущее живое существо!
– Замолчите! Вы говорите ужасные вещи!
– Ужасные? Что ж, ты права. Все на свете ужасно. Ведь вера – обман, добродетель – вздор, а любовь – азартная игра, в которой всегда кто-нибудь да проигрывает…
Чтобы отвлечь помешанного от тягостных мыслей, Валентина спросила:
– Хотите, я вам спою?
– Пожалуй, – глухо ответил ее муж, – спой мне что-нибудь такое же мрачное, как мои думы, а я буду тихонько подпевать речитативом жалобу Иова. Подобно ему, я скажу старому чудовищу, именуемому Богом: «Зачем тебе являть свое могущество перед соломинкой, которую уносит и ветерок?»
Валентина вздрогнула.
– Тебя пугают мои слова? Ха-ха-ха! Ты страшишься, что они прогневают твоего Господа? Но я не боюсь его! Ему не удастся прибавить ни капли горечи в ту чашу, что я испил! О, древние греки поступали мудро, изображая Бога извергом, пожирающим своих детей[122]122
…древние греки поступали мудро, изображая бога извергом, пожирающим своих детей… – Согласно древнегреческой мифологии, Крон, отец Зевса, страшась предсказанной ему гибели от руки сына, проглатывал своих детей, лишь только они рождались.
[Закрыть]… Жестокий отец! Тех, кого он не пожрал, он натравливает друг на друга, а если им удастся избежать гибели в братоубийственной схватке, то для них припасены женщины! Да, женщины и дети!
Как радостно считать себя отцом!
Мы с нетерпением минуты этой ждем…
Маркиз заскрежетал зубами и повторил, злобно усмехнувшись:
– Считать себя отцом! Ну, не смешно ли? Как глупцам нравится, когда на сцене или на страницах романа разыгрывается фарс из их собственной жизни!
Он стал напевать:
В лесу ль все рогачи живут?
Они средь нас – и там, и тут…
– Мужчина рождается под знаком Минотавра[123]123
Мужчина рождается под знаком Минотавра… – В древнегреческой мифологии Минотавр – чудовище с телом человека и головой быка. В тексте намек на то, что всем мужчинам суждено стать рогоносцами.
[Закрыть], – продолжал он, – участь его заранее решена, черт побери! Предначертания исполнятся, и судьба его свершится, как бы он ни пытался ее избежать: жена изменит ему.
– Изменившая вам жестоко наказана, – промолвила маркиза, судорожно сжимая руки.
– Изменившая мне? – угрюмо повторил Гюстав, опустившись в кресло и впадая в свою обычную прострацию. – Как ее звали? Ах да, Валентина де ла Рош-Брюн… Я женился на ней, потому что… Дай Бог памяти! Почему я на ней женился? Ах да! Потому что она была красива и казалась мне доброй и честной.
Маркиза не могла удержаться от слез. Гюстав продолжал:
– Она была как дерево в цвету – крепкое, молодое, сильное. И я, слабый плющ, хотел обвиться вокруг него, чтобы подняться над растениями, стлавшимися по земле. Но однажды молния ударила в дерево и оторвала от него плющ… Потом солнце закатилось в кровавом тумане и больше не взошло. И цветы этого дерева, увянув, опали один за другим, и ветер смел их в канаву, на дне которой бурлил мутный поток. А плющ? Он засох… Видите, сударыня, это очень грустная история – о дереве, что погибло, едва успев расцвести, и о плюще, потерявшем свою опору…
Безумец разучился плакать. Но инстинктивно желая вызвать слезы, он щурил глаза, тер веки, глухо стонал и всхлипывал, словно актер, репетирующий трагическую роль. Это зрелище раздирало сердце Валентины. И, хотя она уже много раз за минувшие семнадцать лет слышала печальную притчу и много раз присутствовала при этой тяжелой сцене, являясь одновременно ее зрительницей и участницей, все же она не могла совладеть с волнением и вышла, поручив Матье присмотреть за несчастным.
Гаспар ожидал мать в соседней комнате. Увидев, что она плачет, он нежно обнял ее и воскликнул:
– Дорогая мама, неужели ты никогда не примиришься с этим неисцелимым недугом?
– Неисцелимым? – возразила маркиза. – Кто тебе сказал? Раз безумие отца, перемежающееся, значит, он может поправиться. Только злые люди, чтобы привести нас в отчаяние, могут утверждать противное.
– Успокойся, мама, я никогда не говорю об этом с посторонними. Смирись, утешься, хотя бы ради меня: ведь ты – мое единственное счастье!
Он держал в своих руках руки матери, покрывая их поцелуями и орошая слезами.
– Ну, можно ли так горевать? Будь ты повинна в безумии моего несчастного отца, тогда понятно…
Маркиза не ответила. Побледнев еще больше, она отвернулась, чтобы ее лицо оставалось в тени.
– Да, – продолжал юноша, – если бы беда случилась по твоей вине, то скорбь твоя была бы оправдана. Но ведь ты всегда была ангелом-хранителем своего мужа. Ни одна женщина не могла бы вести себя так самоотверженно.
Валентина с трудом сдержала стон.
– О, теперь, когда я понимаю все величие твоего самоотречения, когда я знаю, что ты всем пожертвовала ради отца, я не только люблю тебя как мать, но и поклоняюсь тебе как святой!
Маркиза откинула голову на спинку кресла, закрыла глаза и спросила, пытаясь говорить равнодушным и даже насмешливым тоном, хотя в голосе ее сквозила тоска:
– Ну, а если б… это была я?
– То есть?
– Если б я была причиной…
– Причиной чего?
– Безумия твоего отца.
Гаспар насторожился.
– Если бы оказалось, что это ты навлекла на нас роковую катастрофу?
– Да…
– Это немыслимо.
– А если ты ошибаешься?
– Мама! Если бы на твоей совести лежал большой грех, то ради искупления его я пошел бы в монастырь и молился бы за тебя до конца моих дней. Впрочем, к чему эти скверные загадки и нелепые подозрения? Разве я не знаю, что не может быть ни лучшей жены, ни лучшей матери, чем ты? Если бы я усомнился в тебе, я бы умер, вот и все.
«О, Господи, неужели я недостаточно наказана? – подумала маркиза. – Если он узнает, какова его мать, он умрет!»
– Не будем больше говорить об этом, – продолжал Гаспар. – Какой смысл предполагать явную нелепицу? Лучше я расскажу тебе, где был сегодня. Хочешь?
– Хорошо, – с болью в сердце ответила Валентина, – поговорим о другом. Куда же ты ходил?
– К учителю рисования.
– К какому?
– Знаешь, к тому, чья жена дает уроки пения.
– Да, ты как-то говорил мне, что они опытные учителя.
– Насколько они опытны – не знаю, но эти люди с большими причудами.
– Почему ты так думаешь?
– Представь себе, они отказались давать мне уроки без письменного разрешения Жана-Луи. Они в чем-то сомневаются.
– Быть не может!
– Однако это так. И учитель, и его жена смотрели на меня так странно, что я был озадачен. Словом, супруги Артона произвели на меня довольно странное впечатление.
– Артона? – воскликнула маркиза, схватив Гаспара за плечи. – Артона? Ты был у них? Кто тебе позволил?
– Ты сама, милая мама.
Несчастная женщина старалась скрыть смущение.
– Я… я знала, что его фамилия…
– Артона?.. Но какое имеет значение, зовут ли его Артона или как-нибудь иначе?
– Да, конечно, ты прав, – ответила мать, принужденно смеясь, – это решительно все равно.
– Оказывается, ты с ним знакома? – спросил удивленный Гаспар. – Разве это не порядочный человек? Почему при одном упоминании о нем ты так волнуешься?
– Да, – едва слышно ответила маркиза, он бесчестный человек. Не ходи больше к нему, я запрещаю.
– Но, может быть, это не тот, кого ты знала? – настаивал Гаспар.
– Действительно, я могу ошибиться.
– Он высок, один из самых красивых людей, каких я только видел, тип настоящего художника…
– Довольно, замолчи! – воскликнула маркиза вне себя. – Я не желаю больше слышать о нем ни единого слова!
К счастью, приход Матье прервал этот разговор. Маркиз хотел, чтобы Гаспар почитал ему.
– Иди, – сказала мать, довольная, что сможет наплакаться вволю, – поди к отцу. Ухаживай за ним хорошенько, замени меня на сегодня. Я совсем разбита… Завтра я посижу с ним.
Глава 30. Отец и сын
Гюстав ожидал Гаспара, сидя на кровати и подперев голову руками; он уже забыл о своем желании послушать чтение вслух.
Молодой человек уселся за стол, где лежало несколько книг, и начал было их перелистывать; затем, сам того не замечая, впал в глубокое раздумье. Беседа с матерью потрясла его; он мысленно повторял все, что было ею сказано. Царила полная тишина, не нарушаемая ни одним посторонним звуком.
– Ну же! Ведь я просил мне почитать! Ты что, забыл? – вдруг резко крикнул маркиз.
Гаспар вздрогнул.
– Что именно вам угодно послушать?
– Неужели во всех книгах, которые ты перелистывал, нет ничего подходящего для бедного помешанного старика? Ведь я действительно помешан… Совсем помешан!
Редко бывает, чтобы у душевнобольных не сохранялось никаких проблесков разума. Маркиз почти всегда понимал, в каком состоянии он находится, и даже во время самых тяжелых приступов безумия у него, как это нередко случается с сумасшедшими, вырывались слова, свидетельствовавшие об испытываемой им душевной боли.
– Да, я помешан, – продолжал он, – и как же может быть иначе? Ведь у меня же нет сердца! Я же не человек, а только плющ, который лишился опоры и высох в ту холодную ночь, когда ветер сорвал все цветы с дерева, подымавшего меня высоко над землей…
Бедняга пригорюнился и сделал знак, что не желает слушать чтение. Истощив силы, он замолчал и закрыл глаза. Одеяло на его груди вздымалось от тяжелого прерывистого дыхания. Гаспар подошел ближе и с искренним сочувствием стал глядеть на больного; по щекам юноши текли слезы.
Вдруг маркиз привстал.
– Тебе жаль меня, да? Наверно, у меня плачевный вид, если даже слуги не могут смотреть на меня без слез…
– Разве моя жалость оскорбительна для вас?
– Она удивляет меня. Если ты учился чему-нибудь, ты должен знать, что за деньги можно купить все, даже счастье. А разве у меня мало денег? Ведь я – один из богатейших людей Оверни, один из самых счастливых… – Он рассмеялся. – С чего ты взял, будто маркиз де Бергонн несчастен? Если я намекнул тебе на это, забудь мои слова. Я не хочу, чтобы меня жалели: жалеть меня – значит обвинять человека, которого я не хочу винить. Кто тебе сказал, маленький слуга, что я страдаю?
– Вот кто, – ответил Гаспар, приложив руку к сердцу.
– Ну, дружок, сердце может лгать не хуже, чем уста, и даже еще лучше. Если оно было взволновано рассказом о злополучной судьбе твоего хозяина, значит тебе наговорили, я уверен в этом, всяких гнусностей, которые существуют лишь в воображении злых или ненормальных людей.
– Мне сказали только, что вы несчастны.
– Вот как? Значит, тебе не сообщили, что прекрасная маркиза, моя законная супруга, и мой названный брат, милейший Артона, столкнулись с целью опозорить мое имя и подарить мне наследника? Хе-хе-хе!
Как радостно считать себя отцом!
Сжав кулаки, сверкая глазами, Гаспар бросился к больному.
– Вы оскорбляете святую женщину! – крикнул он. – Замолчите, маркиз, замолчите! Вы меня заражаете своим безумием! Меня охватывает желание избить вас! Я сам схожу с ума!
– Сходишь с ума? Храни тебя Господь! Сойти с ума – значит заживо попасть в ад… изливать свою скорбь, смеясь… хулить то, что любишь… боготворить то, что презираешь… Сойти с ума – значит отдать себя во власть ночных призраков, которые вонзают в твое сердце когти, топчут внутренности, вырванные из твоей утробы…
«Боже мой, Боже мой, – вздыхал Гаспар, – что он говорит? Вот почему маму так взволновало имя этого Артона! Вот чем объясняется странный вопрос: что бы я стал делать, если б она оказалась виновной в несчастье отца?»
И юноша с печалью в сердце повторял: «Отца… моего отца… Да отец ли он мне?»
Низвергнуть кумира с пьедестала тяжело в любом возрасте, но когда вам шестнадцать лет и кумир – ваша мать, это поистине ужасно! Напрасно Гаспар убеждал себя, что его отец – умалишенный и не стоит обращать внимания на слова, слетавшие с его уст в очередном припадке безумия: юноша никак не мог избавиться от тягостного впечатления, произведенного на него именем Артона. Когда он сопоставлял слова матери с тем страхом, который овладел ею при известии, что сын посетил художника, Гаспару становилось ясно, что это не было случайным стечением обстоятельств, изобличавших маркизу. Бедняга начинал догадываться, что в прошлом их семьи кроется какая-то позорная тайна и болезнь маркиза каким-то образом связана с рождением у него сына.
Роковая ошибка Валентины, усугубленная неблагоприятным ходом событий, грозила лишить ее единственной утехи, остававшейся в ее безрадостной жизни…
Порой Гаспару казалось, что его мучит кошмар; но, бросая вокруг беспокойный взгляд, он убеждался, что все это грустная явь. Он видел маркиза, бледного, откинувшего голову на спинку кресла, и действительность представала перед юношей в увядших чертах этого несчастного, которого он больше не решался называть отцом. И этого человека довела до безумия его, Гаспара, мать…
Первые лучи солнца застали юношу на коленях. Когда маркиз после нескольких часов сна открыл глаза, он увидел, что тот, кого он принимал за слугу молится. Приступ миновал, и г-н де Бергонн находился в полном сознании.
– Ты молишься? – спросил он. – Это хорошо. Счастлив тот, кто может молиться! Значит, он верит, а вера утешает во всех горестях… Сомненье же – яд, отравляющий радость. Ах, почему я не могу молиться. – Заметив, что молодой человек взволнован, он добавил: – У меня был длительный припадок, не так ли? Я, наверное, буйствовал и напугал тебя? Прости! Я побраню Матье за то, что он заставил тебя провести здесь всю ночь…
– Пожалуйста, не делайте этого, сударь! Маркиза оказала мне честь, разрешив заменить ее у вашей постели.
– Хороша привилегия! Не нужно было ею пользоваться, и маркиза освободила бы тебя от ночного дежурства, если бы ты ее попросил. Пусть во время припадков за мной ухаживает Матье. Бедняга, тебя утомила бессонная ночь? У тебя измученный вид. Не правда ли, тяжело видеть человека с помутившимся рассудком?
– Да, сударь, в особенности когда любишь этого человека.
– А ты любишь меня, Гаспар?
– Всей душой, сударь, и отдал бы свою жизнь, чтобы доказать вам это.
– Странно, – прошептал маркиз, прислушиваясь к удаляющимся шагам мнимого слуги, – странно! Мне казалось, что сердце мое давным-давно омертвело, а между тем оно трепещет при виде этого славного паренька… Впрочем, вполне естественно, что человек, у которого нет сына, привязался к юноше, у которого нет отца. Когда природа отказывает нам в счастье иметь детей, то приемный сын может заменить родного. Не будь я так тяжело болен, я мог бы, пожалуй… Но для чего?..
Глава 31. Призвание сына
Возвращаясь к себе, Гаспар прошел мимо покоев маркизы, но войти не решился. На миг он преклонил колени у порога, прижался к нему губами и прошептал:
– Виновата или нет, ты – моя мать!
Оросив слезами то место, где, казалось ему, он видит следы материнских ног, юноша прошел в коридор, повернул ручку потайной двери, ведшей в его каморку, быстро переоделся в обычное платье и вышел из дому.
Утренний шум уже раздавался на улицах городка. Стояло начало октября – пора сбора винограда. Телеги развозили по окрестным холмам деревянные чаны, из которых торчали головы возбужденных, ликующих ребятишек. За телегами сновали мужчины и женщины, взрослые и молодежь, с корзинами за спиной или в руках. Все смеялись, пели. Утренний ветерок доносил аппетитный запах жирной капустной похлебки. Всюду раздавались шутки, задорные возгласы, царило чисто деревенское веселье и радостный шум. Это был праздник изобилья: виноградари пожинали плоды своей работы за год. Весь городок участвовал в этом пиршестве природы и труда. Не были обойдены и бедняки: их радушно встречали на всех виноградниках, где им разрешалось вдоволь рвать тяжелые черные гроздья; их щедро угощали остатками доброго старого вина, чтобы поскорее опорожнить бочонки и дать место вину нового урожая.
Гаспару стало грустно от этого веселья. Он предпочел бы, чтобы жизнь в городе умерла, подобно его иллюзиям… В памяти юноши мелькали различные эпизоды его короткой жизни. Вот он озорным ребенком играет на обширном дворе рош-брюнской мельницы, кормит кур, лазает по деревьям, вольный, как птица… Его огорчало только то, что крестная Нанетта плакала, когда он посещал ее в старом замке, чьим единственным обитателем и сторожем она являлась. В те времена мальчик любил бывать и на виноградниках, куда дядя Жан-Луи носил его за спиной в корзине… Эта беззаботная жизни сменилась унылым прозябанием в Сент-Антуанском тупике, где ничто не отвлекало его от книг, и лишь любовь к матери – перед нею он преклонялся – скрашивала тоскливые дни, целиком посвященные занятиям.
Дойдя до предместья, Гаспар вошел в небольшой белый домик с окнами без ставень, увитыми дикой лозой. Он миновал коридор, пересек узенький дворик, где бродили куры, и постучал в дверь кухни. Не получив ответа, он решил, что служанка аббата Донизона (это был его дом) тоже отправилась на сбор винограда. Толкнув калитку, юноша вошел в садик, цветущий уголок, где бывший сен-бернарский кюре проводил большую часть времени. Уход за растениями, думы о прожитой жизни, научные занятия помогали доброму аббату забыть о том, что его лишили сана за сочувствие социалистическим идеям. «К счастью, – сказал епископ „недостойному“ священнослужителю, – к счастью и в назидание всем верующим, нечестивой затее воспрепятствовала всемогущая десница того, чьим сыном нам заповедано: „Бедные да пребудут всегда среди вас!“».
Аббат сидел на терраске, откуда открывался вид на обширную долину Лавора, окаймленную лентой Алье, с возвышающимися над рекою холмами Лагранж. У ног хозяина лежала старая собака, а на столике перед ним – евангелие и «Георгики»[124]124
«Георгики» – поэмы римского поэта Вергилия (I в. до н. э.), описывающие сельскую жизнь.
[Закрыть] – две книги, выражавшие то главное, что характеризовало Донизона как священника и человека: чувство долга и любовь к природе.
Гаспар медленно шел по дорожке, обсаженной тимьяном и щавелем. Собака, повернув голову к посетителю, дружески заворчала и вильнула хвостом, после чего приняла прежнюю позу у ног почтенного аббата. Последний, будучи всецело поглощен созерцанием расстилавшегося перед ним ландшафта, не услышал шагов юноши и продолжал беседовать сам с собой, как это свойственно многим мыслителям, привыкшим к одиночеству.
– О природа, – восклицал он, – живой прообраз неизменности всего сущего, ты единственный, последний друг мудреца! Ты все та же: такою я любил тебя в дни моей весны, когда молодость, словно волшебная призма, все преображала, на все кидала свой чарующий отблеск; такой же ты являешься очам моим и на склоне лет!
Гаспар, услышав эти слова аббата, бросился в объятия своего старого друга и наставника, воскликнув:
– Как проникновенно вы говорите о природе, отец мой! Печально, что я не таков. Мне больно смотреть на безоблачную лазурь небес; лучше бы они были покрыты тучами и предвещали бурю.
– Значит, буря назревает и в твоей душе, – ответил старик. – Подобно всем людям, ты склонен к эгоизму и хочешь, чтобы небо тоже походило на тебя, становилось пасмурным или сияющим, в зависимости от твоего настроения.
– Не знаю; но сейчас, когда мне нужно решить, кем быть, я не могу отделаться от чувства тревоги.
– Кем быть? – с удивлением переспросил аббат. – Я думал, что ты давно сделал выбор.
– Мои намерения изменились.
– Ну что ж, если медицина, к которой тебя влекло благоговение перед наукой, перестала тебя интересовать, перед тобой открыты иные пути.
– Дорогой учитель, стать врачом мне хотелось лишь для того, чтобы попытаться вернуть рассудок господину де Бергонну, но теперь мне кажется, лишь чудо может вылечить этого несчастного.
Аббат задумался. Взгляд его, недавно такой спокойный, погрустнел. Долго и молча Донизон смотрел на юношу, чье выразительное лицо также не могло скрыть душевной печали.
– Я решил стать священником, – проговорил наконец Гаспар.
– Священником? – переспросил старик. – Ты хочешь стать священником? Бедняга! Зачем тебе взваливать на свои плечи это бремя? Знаешь ли ты, что у священника не должно быть иной семьи, кроме человечества, иного главы, кроме папы, иных интересов, кроме интересов церкви, идущих порою вразрез с велениями совести? Помнишь ли ты о том, что все счастье твоей матери в тебе?
– Помню.
И настаиваешь на своем решении?
– Настаиваю.
«Он все узнал! – подумал аббат. – Очевидно, в припадке отец выдал себя. Только время способно заставить Гаспара отказаться от необдуманного решения». И Донизон сказал:
– Каковы бы ни были причины, побудившие тебя избрать новое поприще, я уважаю их и готов, когда понадобится, помочь тебе.
Но отсрочка не входила в расчеты Гаспара: молодость не любит мешкать.
– Я хочу тотчас же поступить в духовную семинарию. Пожалуйста, подготовьте маму к предстоящей разлуке.
– Ну, нет! Если это твое истинное призвание, оно со временем только укрепится, и я помогу тебе, как обещал. Но, не зная еще, выбрал ли ты этот путь по велению сердца или же по разумному стремлению каждого свободного человека к той деятельности, к которой предназначила его природа, зачем неосторожно, без настоятельной необходимости причинять горе бедной женщине, перенесшей столько испытаний?
В сущности, Гаспар был еще ребенком и пользовался всеми преимуществами того счастливого возраста, когда невзгоды кажутся преходящими, когда гибель одной иллюзии тотчас же возмещается рождением другой, когда душа полна веры в благую силу дружбы, помогающей исцелять сердечные раны… Отбросив всякую дипломатию, юноша кинулся на шею аббату.
– Ведь это из-за нее, из-за матери, я хочу стать священником!
– Бесполезная жертва! – покачал головой Донизон.
– Бесполезная? Кто может это знать?
– Я знаю и беру небо в свидетели искренности моих слов. Повторяю, что природой, – он подчеркнул это слово, – ты предназначен быть врачом, а не священником. Моими устами говорит голос крови, прислушайся к нему!
«Значит, я – сын господина де Бергонна!» – подумал Гаспар, уверенный в том, что старый аббат не стал бы лгать даже из гуманных побуждений. Юноше показалось, словно он опять обрел потерянную было мать… Мысль, что она согрешила, потонула в потоке горячей жалости и возросшей сыновней любви.
Гаспар поступал как свойственно людям с чувствительным сердцем; раскаиваться в содеянной ошибке им куда приятнее, чем сознавать свою невиновность. Добродетельный человек никогда не узнает, как мучается тот, кого постигла заслуженная кара. Гаспару хотелось поскорее увидеть мать и хотя бы молча попросить у нее прощения; хотелось нежностью и лаской загладить мелькнувшее у него намерение расстаться с нею. Одновременно в его сердце росла любовь к отцу, и юноша вернулся домой, полный самоотверженных помыслов.
Но ему не удалось тотчас же свидеться с маркизой: она была чем-то занята и запретила ей мешать, а вечером не вышла к ужину, так как ее лихорадило. Гаспар лег спать в тревоге. Ночью, преследуемый кошмарами, он кричал и плакал во сне. Тягостные думы не давали уснуть и Валентине; услыхав рыдания сына, она вскочила и прибежала к нему.
– Мама, мама! – звал он, точно пытаясь настичь ускользающий призрак. – Ах, это ты! – воскликнул он, пробудившись и обвив руками шею матери. Он покрывал ее лицо поцелуями, повторяя: – Это ты!.. Мне снилось, что ты умерла, ненаглядная, обожаемая мамочка. Ты лежала в гробу, вокруг тебя горели свечи… О, как это было страшно! Я чувствовал ледяной холод твоих пальцев, державших веточку плюща. На ней оставался лишь один листок, и этот листок напоминал собою человеческое лицо…
– Молчи, молчи! – повторяла бедная Женщина, судорожно обнимая сына. – Не плачь! Ты делаешь мне больно!
– О, как это было ужасно!
Он крепче обнял ее и разрыдался. Ей стоило больших усилий его успокоить.
– Ты снова со мной, дорогая мама! Не обращай внимания на мое ребячество. Я ничего не могу с собой поделать, это сильнее меня. Ведь разница между сном и явью лишь в том, что сон – мимолетнее… Я потерял тебя на час, и сердце мое едва не разорвалось…
Маркиза сама с трудом сдерживала слезы.
«Господи, – промолвила она мысленно, – Господи, да минет меня чаша сия! Спаси меня, позволь мне жить ради моего ребенка! Но нет, он умрет, узнав о моем позоре, он сам сказал это… Я обречена…» Она уходила, потом возвращалась снова, склоняясь к сыну, обнимала его, гладила его волосы, целовала руки, не в силах уйти.
Остаток ночи Гаспар провел в тяжелом забытьи, томимый смутными видениями; казалось, его кошмар продолжался. Рано утром он встал и надел ливрею. Маркиз сидел на террасе с непокрытой головой, обернувшись лицом к востоку. В лучах зари оно не казалось застывшим, как обычно. «О, если бы кинуться в его объятия! – подумал юноша. – Умолить вернуться к жизни из любви ко мне и к маке, крикнуть ему: „Я – твой сын!“, чтобы его сердце затрепетало от радости!»








