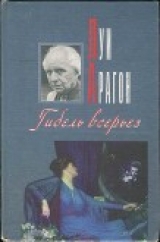
Текст книги "Гибель всерьез"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Да, я следил. Более или менее. Хотя Кристиан grosso modo[31] повторял то, что написал я сам, только и всего. И все же я следил, потому что хотел понять, к чему он клонит, что припас на закуску, какой следующий шаг готовит… дальше… еще дальше. Я заметил ему, что идею о двоящихся людях ни в коем случае нельзя приписывать автору, как бы лестно мне это ни было. «Высказывается герой романа, понимаешь? Уверяю тебя! Да еще какой герой! Жозеф Кеннель, банкир». Кристиан настолько увлекся своей трактовкой, что, кажется, забыл об этом. Так я ему и сказал: «Ты исходишь из своих представлений, то есть из представлений Кристиана Фюстель-Шмидта, принадлежащего к клану лотарингских стеклозаводчиков… От классового подхода никуда не денешься». Он только пожал плечами. И продолжал рассуждать. Что ж, людей надо принимать такими, какие они есть. Кристиан далек от марксизма. Было бы нелепо требовать, чтобы он сообразовывался с марксистскими принципами. Бог с ним. Послушаем, что он скажет дальше. Если две силы, положительная и отрицательная, порождают ток, значит, соответствующие этим силам полюса удалены друг от друга, но тогда должен быть кто-то, понимаешь, кто-то еще, кто их удерживает. Ни Стивенсон, ни ты не разглядели третье лицо, посредника между добром и злом; стоит ему задремать, как зло душит добро или наоборот. Это противовес. Третья внутренняя ипостась человека. Нейтральный, понимаешь? Нейтральный элемент. Создатель пары Джекиль-Хайд представлял расщепление как результат воздействия на человеческий организм некой химической субстанции, отделяющей доброе начало от злого. В 1885 году, когда Роберт Льюис писал историю доктора Джекиля и мистера Хайда, уровень естественных наук и философии был таков, что трудно было вообразить что-нибудь иное, кроме волшебства, традиционного зелья, или, как сказано в повести, снадобья. Ему и не снилось, что такое расслоение личности может произойти без всякой отравы, без всякого стимулятора… что добро и зло могут существовать параллельно, физически обособленно: Джекиль и Хайд в таком случае могут жить независимо друг от друга, и Джекилю не обязательно исчезать, чтобы появился Хайд… Ты слушаешь? Но это предполагает наличие третьего…
Тут меня дернуло сострить: но если так, дорогой мой, твой человек, выходит, уже не двоится, а троится.
Однако Кристиан ничуть не обиделся. Напротив, он потрепал меня по плечу. Он был в восторге от моей понятливости. Ладно, Кристиан, хватит морочить голову. Да нет же, он вполне серьезно. Это просто невероятно, что я так быстро его понял. Вот в чем заключалась тайна маленького Фюстель-Шмидта: он не потерял свое отражение, а наоборот, нашел целых три. Ни больше, ни меньше… В нем одном было три человека, и трехстворчатое зеркало выявляло их. Он давно замечал сложность, противоречивость своей натуры, но прежде, до того, как однажды, по чистой случайности, не оказался во время таких раздумий перед зеркалом, он усматривал в себе – нарочно, что ли, ты подобрал такое словечко? – причудливое сочетание разных свойств и считал, что в зависимости от настроения в нем преобладали то одни, то другие. По его словам, это «прежнее» состояние было подобно детству; все эмоции взрослого человека заложены в ребенке, но он еще не осознает их смысла. Взять хотя бы жестокость: почему ребенок отрывает мухе крылья, а потом вдруг, охваченный жалостью к своей жертве, тащит из аптечки йод, чтобы ее вылечить… ты, конечно, увидишь здесь сходство с мистером Хайдом и доктором Джекилем, а между тем… Пока я не стал различать свои три отражения, пока не понял, что во мне существуют три разных индивидуума с разными представлениями и разными характерами, они словно дремали во мне, как дремлют в маленьком ребенке зачатки сексуальности – психолог уже выявил бы их, но сам ребенок только смутно ощущает нечто неопределенное.
Трехстворчатое зеркало служило Кристиану этаким множительным аппаратом, чтобы вычленять элементы, отделять наложенные друг на друга изображения, в общем, выполнять работу, обратную составлению фоторобота, когда собирают воедино несколько описаний одного и того же человека, или созданию какого-нибудь обобщенного портрета, например, «среднего француза». И этот аппарат посвятил нашего приятеля-денди в таинство человеческой Троицы. Суть ее так же необъяснима, как суть Троицы Божественной. Но при посредстве трех зеркал таинство становится зримым и даже до некоторой степени управляемым. Тот Кристиан, которого я знал, больше всего походил на среднее, центральное, отражение – он сам называл его Нейтральным. Таким он в общем представлялся и самому себе, таким видел себя в простых зеркалах, в которые заглядываешь, чтобы посмотреть, в порядке ли платье или что за прыщик вскочил на носу, – словом, чтобы найти ответ на невиннейшие вопросы, не зная, что зеркала отражают не только лицо, но и душу. Именно это отражение утратил Антуан, именно им – так, во всяком случае, считается – обладаем мы все. В нем доктор Джекиль и мистер Хайд уравновешивают друг друга, оно являет собой математический феномен, опрокидывающий наши элементарные и безусловные представления о том, что один плюс один равняется двум: на самом деле один и один дают в сумме нечто такое, что не заключалось ни в одном из слагаемых, а появилось при их сложении, то есть из знака «плюс», так что один плюс один равняется трем, иначе говоря, противостояние разноименных полюсов, Джекиля и Хайда, порождает персону Нейтрального. Того, кого Стивенсон проглядел в туманах Лондона или Эдинбурга, кто занимает промежуточную позицию между законами преступного мира и законами викторианской морали. Понимаешь?
Я понимал довольно смутно, но сгорал от желания увидеть воочию составляющие части известного мне Кристиана, присутствовать при демонстрации в зеркалах трех образов разъятой личности, из которых один, Нейтральный, был только коромыслом, на котором подвешены чаши весов. Но Кристиан не спешил предоставить мне такую возможность: то ли чего-то опасался, то ли не хотел выставлять на обозрение свои компоненты. Во всяком случае, заметив, что я так и дрожу от любопытства, он тотчас же пошел на попятную: дескать, он велел перевезти трюмо в одно из своих имений, в провинцию, – что ты! в холостяцкой квартире на улице Фридланда его уже давно нет… В общем, повел себя так странно, так уклончиво, что я засомневался: может, передо мной уже не Нейтральный, а кто-то другой? Так или иначе, но после столь откровенных признаний Кристиана я, казалось бы, мог рассчитывать получить ответы на некоторые прямо относящиеся к делу вопросы. Однако моя настойчивость привела к тому, что он еще больше замкнулся в себе, и мне невольно пришло на ум сравнение с устрицей, которая сжимает створки раковины, едва капнешь в щель между ними лимонного сока. Допустим, устрица охраняет тайну изготовления жемчужины, ну а Кристиан?
Он вдруг заговорил совсем иначе: забросил доктора Джекиля и мистера Хайда, которые не сходили у него с языка, пока он излагал свою теорию, и успели мне изрядно надоесть; стоило же мне теперь коснуться этой темы хотя бы слегка, как я сразу чувствовал, что собеседник расценивает мои попытки как некую бестактность и, не произнося вслух, дает понять, что есть вещи, которые человек может сказать о себе сам, но которых в высшей степени неделикатно касаться посторонним. Что ж, я оставил Джекиля и Хайда в покое. Видимо, Кристиану было неприятно думать, что я мог увидеть в одном из его образов чудовище, злодея, ведь он с самого начала постарался растолковать мне, что это грубое разделение человека на светлую и темную половину – всего лишь упрощенная метафора, на самом же деле оппозиция доброго и злого начал в чистом виде лишь в самых общих чертах соответствует строению человеческой личности.
Такое схематичное представление о человеке бывает только в романах, которые даже он, Кристиан, не относит к реалистическим, делая мне честь хоть в этом разделять мои взгляды, – в романах, где есть только очень хорошие и очень плохие герои. Я прервал его и попросил уточнить, что он хочет сказать. Оказывается, по его мнению, в каждой из основных ипостасей двойного или, если угодно, тройного человека могут быть вкраплены еще и побочные образы, своего рода вторичные отражения других ипостасей: нет такого воплощенного Добра, которое не содержало бы хоть малую толику Зла, и наоборот. Иначе говоря, если уж пользоваться теологической терминологией, Бог-Сын в какой-то степени является и Отцом, и Святым Духом. Я заметил, что это сравнение попахивает ересью, он же с невинным видом парировал: «Скажи еще, что оно идет вразрез с марксизмом!» Да нет, я просто имел в виду, что если «аппарат» действует наподобие решета, отсеивая одни качества от других, как песок от золота… Но тут уже он перебил меня: как я не понимаю, человеческая натура – совсем не то, что мертвая материя, и к ней неприменимы всякие грубые механические методы! Ну вот, теперь меня записали в вульгарные материалисты! Кристиан улыбнулся: «Я ведь разговариваю с писателем, а не с партийным деятелем…» Тут бы мне придраться, сказать, что человеческая натура не терпит такого разделения на писателя и, как ты выразился, партийного деятеля… и так далее, но я промолчал. И только малодушно заметил, что не следует путать меня с Антоаном. Кристиан же снова пустился в рассуждения о сложном строении отражений, высказав массу блестящих мыслей, которые я, увы, забыл, и в конце концов вернулся к Р. Л. Стивенсону, которому снова досталось за схематизм. Правда, Кристиан сказал ему в оправдание, что этот упрек можно отнести и к другим: к Чарльзу Лэмбу… или Джону Бэньяну… (откуда такая бездна англосаксонской эрудиции?), и вообще все радикальные мыслители всегда склонны к резким контрастам, тогда как природа предпочитает штрихи, оттенки… Вполне понятно, почему писатель вынужден прибегать к крайностям: что за интерес был бы в паре двойников Джекиль-Хайд, если бы они отличались друг от друга не больше, чем, скажем, сварливый обыватель от обывателя благодушного? Искусство требует ярких красок. Но то искусство, а жизнь? Кристиан явно старался свести к минимуму различия между своими, так сказать, профильными двойниками. И, совершенно очевидно, не собирался мне их показывать. Он не догадывался, что об одном из них я кое-что знал со слов Омелы. Но скромный молодой человек, игравший с маленькими девчушками в Бютт-Шомон, мог быть как Джекилем, так и Хайдом… Наконец любопытство мое так распалилось, что, желая ускорить дело, я дал понять Кристиану: мол, от некоего третьего лица мне кое-что известно о его жизни в другом обличье.
Эффект был поразительный. Мы сидели в баре у Фуке. Дело было во времена Мюнхена. Возбужденные посетители толпились вокруг Рэмю[32]. Что-то выкрикивали. В то время вся Франция словно бы разглядывала себя в тройное зеркало. И собравшиеся здесь киноартисты, игроки, автогонщики разделились на шумные кланы, старавшиеся перекричать друг друга. Сентябрьское солнце припекало по-летнему, так что тент на террасе еще не сняли. Разносчиков газет, которые обычно были здесь не в чести, буквально рвали на части.
И вдруг Фюстель-Шмидт, которого, казалось, совсем не волновали проблемы внешней политики, заговорил о Чехословакии, судетских немцах, о Гитлере… Причем заговорил беспорядочно, без конца противореча сам себе. Я было подумал, что он просто хочет перевести разговор в другое русло, но вдруг почувствовал в его словах неподдельный ужас. Передо мной был растерянный читатель «Эвр», не знавший, какому святому молиться, потому что в его газете соседствовали самые разноречивые оценки событий, не скоординированные никакими комментариями. Похоже было, что Нейтральный потерял власть: я видел перед собой не Кристиана, а то одного, то другого его скрытого двойника. В первый раз я заметил, как отличаются друг от друга профили этого человека, которого, кажется, должен был успеть изучить: в зависимости от того, каким боком поворачивался ко мне Кристиан, передо мной поочередно представали два антагониста, ведущие между собой такую же яростную полемику, как спорщики у стойки. Я предложил прогуляться по Елисейским полям.
На свежем воздухе Кристиан пришел в себя. Лицо его приняло обычное рассеянное выражение, он сообщил мне, что купил «бугатти», заговорил о боксе, остановился у магазина мужской одежды посмотреть на свитеры. И вдруг, обратив ко мне свой левый профиль, такой, какого я прежде не видал: орлиный нос, круглый, словно вылезший из орбиты глаз, – спросил хриплым голосом: «Интересно знать, кто именно осведомил тебя о моей личной жизни?» Я отвечал, что никто меня не осведомлял – что за странное слово! – и не собирался осведомлять о его личной жизни. Просто его видели в Бютт-Шомон играющим на четвереньках с маленькой девочкой… Вдруг Кристиан вцепился мне в плечо. «Но кто, кто это сказал?..» Терпеть не могу, когда меня хватают за плечо. Я попытался стряхнуть его руку. Да что тут такого? Кто угодно может очутиться в Бютт-Шомон. Я сам там когда-то часто бывал и даже описал эти места – если ты читал мои книги, то должен знать… Но Кристиан не отпускал меня. Не хватало еще, чтобы на моем плече остались синяки и надо мной насмехались по этому поводу. Нечего валять дурака, – сказал я, чтобы отвязаться от него, – никакие это не сплетни, просто у госпожи д’Эшер были съемки в тамошней студии, и она как-то обмолвилась – что тут такого? – кстати, я видела вашего приятеля… Наоборот, если бы она ничего не сказала, это значило бы, что она придала случайной встрече какое-то особое значение.
Кристиан ухмыльнулся. Еще одна неожиданность. Никогда за все восемнадцать лет нашего знакомства я не видел, чтобы он ухмылялся. И зачем я сказал ему про Ингеборг? Теперь я готов был себя избить. Как-то вырвалось. У меня было неприятное чувство, будто я выдал Омелу, указал на нее, да не старине Кристиану, а хищному коршуну, чей профиль мелькнул передо мной.
III
И когда однажды Антоан по пути с площади Этуаль, где чествовали Даладье и Жоржа Бонне (и где нас с ним чуть не растерзали из-за того, что я неосторожно произнес несколько слов громче, чем нужно), сказал: «Этот ваш, как его, Шмидт, что ли? – попадается нам на каждом шагу…» – я похолодел. Не обернулось ли все на руку тому страшилищу? Возможно, надо было тогда же все рассказать Антоану, но он продолжал: «С некоторых пор он влюблен в Ингеборг… И иногда он бывает весьма полезен, особенно его «бугатти». К тому же с его физиономией, которую везде знают…» Договорить он не смог – нас обогнала группа молодчиков: держась за руки, они занимали весь тротуар, так что прохожим приходилось жаться к стенам домов, и скандировали: «Да-ла-ла, Да-ла-ла, Даладье, даешь, ура!» Кто-кто, а я отлично знал Антоана. Можно сказать, знал, как будто сам его сотворил, не так ли? Он делал вид, что все это шутки, а сам ревновал. Значит, Омела выезжала с Кристианом. Если, конечно, это вообще был Кристиан! С ней и надо было говорить. Но она только рассмеялась. Конечно, этот юнец в меня влюблен. Ну и что? Уж не собираетесь ли вы – вы! – закатывать мне сцену ревности? Она произнесла это «вы» так, будто хотела сказать: ладно бы еще Антоан, а он не ревнует, но вы? О Ингеборг! Она смеялась. Нет, это уж слишком!
Мой рассказ о трехстворчатом зеркале ее позабавил. Надо же, а я-то считала Кристиана этаким шалопаем! Непременно упрошу его показать мне эту холостяцкую квартиру… интересно, как она обставлена? Наверно, мебель от Меппина и Уэбба, это ему бы вполне подошло… Но говорю же вам, Ингеборг, зеркала там больше нет! Тут Ингеборг прямо-таки покатилась со смеху. Успокойтесь, я не пойду в его холостяцкое логово! Ради вас. Потому что Антоану это все равно, вы же знаете! По-вашему, нет? А я вас уверяю: во всем, что не затрагивает его драгоценной литературы, я абсолютно свободна, я же сто раз вам говорила: вот уж кто ни капли не ревнив, так это Антоан, я могу ходить куда и с кем мне угодно, и учтите, мне это по душе, больше всего на свете ненавижу ревнивцев.
Зачем она говорит мне все это? Чтобы больно уколоть, ведь мы условились считать, хотя и против всякой очевидности, что Антоан нисколько не ревнует, ревность для него – только литературная тема, тогда как я ревнив донельзя. Так зачем же говорить? Ведь и так ясно, что я должен ревновать к Антоану, к его черным глазам, это такая игра: она дает мне понять, будто Антоан только что обнимал ее, а я – я никогда… что за жестокую игру мы зачем-то затеяли, давным-давно… с самого начала… Так зачем же она мне все это говорит? А раз говорит, значит, так думает, а раз думает, значит… – Но ты же так не думаешь, Омела? «Это еще что такое? – говорит она. – С каких это пор вы со мной на «ты»? И как вы меня называете? Ей-богу, вы, кажется, принимаете себя за Антоана!» Но я больше не могу, не могу играть, разве она не видит? Не все ли равно кто: Антоан или я, или мы оба – мы ревнуем! «Но я же сказала вам, Альфред, что Антоан не ревнив». Может, она и вправду так думает…
А раз она так думает… Но сейчас дело не в ревности, а в том, что ей грозит опасность. Вы никогда не смотрели на Кристиана в профиль? С левой стороны? Смотрела, конечно, хотя и не помню, с какой стороны, и даже обратила внимание, что в профиль его лицо кажется выразительнее и куда умнее.
Что ж. Спокойно. Омела делает вид, будто ничего не слышала. Впрочем, она могла подумать, что это тоже игра. Будь на моем месте Антоан – другое дело… с ним все всегда только всерьез… еще бы – черные глаза… Итак, она делает вид, будто ничего не слышала. Но теперь уже из любопытства, чтобы раззадорить меня. Война, кажется, отменяется, так надо же как-то развлекаться.
Вообще-то все это действительно пустяки. Омеле каждый день присылают гору цветов. Кто только не присылает. И, пока там нет орхидей, это нестрашно. Кристиан тоже присылает, в этом ворохе есть и его цветы. С другой стороны, она с ним часто встречается. Много чаще, чем раньше. И вовсе не ради его «бугатти». А ведь это я виноват. Я и никто другой. Сам же своими рассказами внушил ей интерес к этому мальчишке. Господи, только бы все это не обернулось бедой. Только бы ничего не случилось. Я старался теперь не упускать случая увидеться с Фюстель-Шмидтом. Он же, не выходя из рамок вежливости, давал мне понять, что я ему осточертел. Я делал вид, что ничего не замечаю. И следил за ним. За ними обоими.
И вот как-то раз Кристиан сказал мне: «Да, кстати, ты все спрашивал… Знаешь, я ведь привез назад свое трюмо. Мне было без него как-то неуютно. В квартире как будто чего-то не хватало. А тут еще одна женщина прослышала о нем…» У меня упало сердце. Надо же настолько потерять самообладание: взял да и брякнул: «Ингеборг?» Кристиан посмотрел мне прямо в лицо – на меня глядел Нейтральный – и спросил: «Скажи на милость, за кого ты меня принимаешь?» Мы поравнялись с цветочным магазином. Кристиан зашел внутрь, а я остался на улице. И в окно увидел, что Кристиан выбирал орхидеи. Передо мной был его хищный профиль.
То, что Омеле захотелось побольше узнать о тройной жизни Кристиана, вполне естественно. Ее вообще всегда страшно интересовали люди. Как они устроены. Какими кажутся и каковы на самом деле, если заглянуть им в душу. Не будь этого интереса, разве она могла бы так петь? Вы скажете: красота в самой музыке – да, конечно, но далеко не в любой. Взять хоть Массне, а у Омелы и из Массне получается нечто прекрасное, неоспоримо прекрасное! Это чудо, чудо, объяснить которое не может никакое зеркало, никакая теория сложной игры отражений. Здесь другое. Когда она поет, поет сама душа, и не обязательно ее собственная… душа Тоски, Манон, сотворенная ею… это и есть ее искусство. Для этого ей нужно знать все глубины человеческого сердца, проникнуть в мужскую и женскую сущность. Когда я был маленький, меня часто водили в «Гранд-Опера» и в «Опера-Комик», кто-то – не знаю уж кто – доставал родителям билеты. Некоторых певиц я обожал: Мэри Гарден, Лину Кавальери и особенно госпожу Литвин! Я слушал ее, и мне казалось, что я в раю, но то, что я испытываю теперь, отличалось от тогдашнего упоения так же, как сказка отличается от романа. Помню, как я умолял родителей взять меня на спектакль или в концерт, когда видел на афише имя Фелии Литвин, как рыдал, если меня не брали. Но можно ли сравнивать эту примадонну и Ингеборг д’Эшер? То удовольствие было детским, мне было хорошо, как будто я попал в лес, где много птиц и цветов, что же до Ингеборг… Ее голос открыл мне мою суть, мое мужское естество.
Я мог бы рассказать еще об одном глубоком переживании, связанном с пением, это было в тот же год, когда меня спас Кристиан… Правда, для этого придется затронуть ту сторону моей жизни, о которой я не собирался говорить в романе об Омеле, это особый мир, особые люди и сложные, запутанные отношения между ними, которые было бы слишком долго объяснять. Впрочем, может, вы слышали что-нибудь о дадаизме? В таком случае будем считать, что вы представляете себе тогдашние обстоятельства: дело было в зале Плейель, где мы с друзьями устраивали представление, заведомо рассчитанное на то, чтобы шокировать публику. Об этом много говорилось, и я не стану вдаваться в подробности. Поначалу зрители отвечали на каждое выступление насмешливыми аплодисментами, но исподволь в них копилось раздражение. То тут, то там стали раздаваться свистки, гром грянул, когда на сцену вышла Ханя Рутчин. Кажется, это была идея Франсиса Пикабиа: разбавить стихию дадаизма камерным пением в самом традиционном виде. Молодая певица вышла в своем обычном концертном платье, насколько я помню, из желтого шелка, с большим декольте. Она понятия не имела, что происходит, да и как можно было что-нибудь понять, если, едва она запела «Песнь вечности» Дюпарка на слова Шарля Кро: «Листва трепещет, звезды блещут… Любимый мой навек ушел, и сердце безутешно…», как разразилась давно назревавшая буря: – ну, это уж слишком! Хрустальный голос пресекся, певица захлебнулась рыданиями. Сарказму моих друзей не было предела, я же, тогда совсем мальчишка, вдруг почувствовал, что меня переполняет одновременно какая-то невероятная нежность и возмущение оскорблением, которое нанесено женщине и претворенной в ней музыке, – правда, вид плачущей женщины всегда был для меня непереносим. Я выскочил на сцену, взял под руку ошеломленную певицу и увел. Пусть остальные думают обо мне что хотят! За кулисами я опустился на колени перед помертвевшей от обрушившегося на нее ни за что ни про что несчастья женщиной, тихонько гладил ее руки, почтительно целовал ее пальцы. Но особенно потрясла меня – этого никто не мог знать – успевшая блеснуть в нескольких пропетых словах несравненная душа Шарля Кро, к которому я всю жизнь относился с благоговением. Может быть, именно в тот день я впервые ощутил внутреннее единство, непостижимое слияние музыки и слова, в тайну которого меня посвятила Омела. Душевное волнение, в которое повергла меня Ханя Рутчин, было своего рода предзнаменованием. Разумеется, сыграло свою роль и то, что она казалась мне прекрасной. Хотя и недоступной. И было нестерпимо, что эта воплощенная женственность не проняла толпу скотов, парижскую публику. Друзья простили мне не подобающую праведному дадаисту чувствительность, когда в ответ на их насмешки у меня вырвалось: «Да как же было не утешить ее – она так и трепетала»[33]. Знали бы они, что эта вспышка означала мое неизбежное отдаление от них, знали бы, что настанет день, когда любовь к Омеле оправдает в моих глазах полное отречение от всех их вычурных правил и запретов! Да, подобные мгновения были первыми ласточками весны, которой стала ты, о Ингеборг… минуты смятения, неясные юношеские порывы… Но чтобы взрослый человек, мужчина, умеющий властвовать над своими страстями, вдруг оказался захвачен стихией, отдался ей с таким самозабвенным пылом, которого прежде не могла зажечь в нем ни самая прекрасная женщина, ни самое безупречное произведение искусства, чтобы он потерял почву под ногами, унесся в открытое море – и пусть на этот раз никто не вздумает его спасать, пусть волны захлестнут его, проклятье тому, кто вернул бы его на берег! О, незримая Омела, напоенная моею кровью, околдовавшая мою душу, подчинившая себе каждое биение моего сердца! Я слушаю ее, – тебя, Омела! – и во мне замирает все, что было моим «я». Как передать вам, что со мною происходит? Распад, полный распад всех элементов, составлявших мою жизнь… Это необъяснимо, но, когда она поет, вы в ее власти, вы покорены, вы перестаете существовать… И дело не в том, что у нее прекрасный, отлично поставленный голос, хороший вкус, что она музыкальна и выразительна. Что вы там толкуете! Когда она поет, во мне все разрывается. Я понимаю, что все, что я пишу, годится только на растопку. Нет больше ничего на свете, кроме головокружительного падения, и все мужское естество в этом бесконечном падении.
То же самое происходит и с Антоаном, а может быть, и с Кристианом, когда поет Омела. Вот почему, что бы ни было, между нами всегда существует некая связь. Мы понимаем друг друга без слов. Где бы ни слышали ее голос: просто по радио или в театре, когда один из нас сидит в ложе, а другой в партере… А мы можем ходить туда когда угодно, пропуском служат маленькие записочки, на которых нацарапано несколько слов. Каждый раз, когда застигает нас этот голос… словно разверзается бездна, словно шквал налетает на ветвистые деревья… подступает нечто огромное, необъятное, обрушивается неизбывная мука… Мы можем ссориться, можем ненавидеть друг друга, но тут – конец: поет Омела. Я уже не думаю, как бы ей понравиться и превзойти соперника – я обращаюсь в слух. Звук ее голоса впивается в меня, наполняет меня. Я в неволе. Я люблю ее, как безгласная громада горы может любить кого-то невидимого и далекого, кто будит в ней эхо. О, я вдруг понял – вот потрясающее открытие! – когда поет Омела, мы трое: Антоан, Кристиан и я – как раз и составляем того самого тройного человека. Мы мнили себя тремя разными, иногда враждующими личностями, а на самом деле мы только три ипостаси одной субстанции, которая есть любовь к Омеле. Кто из нас доктор Джекиль, кто мистер Хайд? А кто Нейтральный? У меня голова идет кругом. Тем более что один из нас, возможно, распадается на целый сонм – сонм Кристианов.
На предварительный просмотр «Отелло» Антоан провел меня и Кристиана по особому приглашению. Непонятно, зачем надо было тратить целых два года на съемку фильма, чтобы потом, когда он наконец завершен, показывать вот так, кучке избранных, но в кино это в порядке вещей. Терпеть не могу эти закрытые сеансы: сидишь, утонув в мягком кресле, и кажется, что фильм провалился, потому что, кроме тебя самого, в крохотном зале почти никого нет: несколько представителей кинофирмы да еще какие-то два-три человека, которых никто не знает, Антоан называет их сватьями и братьями. Как бы точно вы ни пришли, все равно плешивый молодой человек, с которым вы должны встретиться где-нибудь у дверей или на лестнице, всем своим видом выражает крайнее нетерпение, кивает в знак того, что он вас узнал, и облегченно вздыхает, будто хочет сказать: «Ну, наконец-то!» – а киномеханик в своей будке колдует над металлическими коробками с пленками и строго поглядывает то на вас, то на свои часы. Я предчувствовал, что нам придется смотреть черт знает какую чушь, иначе и быть не могло, сплошную галиматью, пока не зазвучит божественный голос: «У матери моей была служанка…» Оказалось к тому же, что это галиматья не простая, а монументальная. Сам режиссер – как, я сказал, его звали? ах, да – Собачковский! – был презанятным типом, первый его фильм я видел когда-то давно в одном киноклубе на круто взбегающей улочке Монмартра. Это было нечто выдающееся, несколько мрачноватое, но совершенно самобытное. Его называли учеником Эйзенштейна. Потом он долгое время не снимал ничего стоящего, хотя, конечно, работал. Говорили, что ему там не позволяют делать, что он хочет. Ну, это понятно, там никому ничего не позволяют. И вдруг сделал нечто грандиозное на историческую тему: рыцари, лесные дебри, туманные рассветы – мне это все не особенно понравилось, – сразу став знаменитостью у себя на родине. Да и в Париже и Лондоне журналы писали о нем взахлеб. Одна американская фирма пригласила Собачковского консультантом на съемки фильма по Тургеневу, которые почему-то происходили в Риме. Его долго не выпускали – по тем временам такая поездка была беспрецедентной. Наконец, когда уже завершились натурные съемки новой ленты, в газетах промелькнули сдержанные сообщения: дескать, прославленный режиссер, вопреки ожиданию, все-таки получил визу, и, хотя он мог теперь участвовать только в монтаже студийных декораций и интерьеров, его полуофициальный приезд произвел сенсацию. Фильм получился ужасающий, но не по его вине: что, в самом деле, могли изменить два-три совета, которые успел дать мастер? Ему пора было возвращаться в Россию, но вдруг он получает новое предложение, кажется, снова от американцев, – снять фильм в Брюсселе. Власти упорно отзывали его, надо было что-то решать. Собачковский отважился на отчаянный шаг и остался за границей: просто не мог упустить возможность показать наконец всем, на что он способен. И снова неудача, на сей раз помешала не советская цензура, а что-то другое, возникли препятствия, которых он не ожидал, потому что не знал здешних порядков. Вернуться в Москву он не мог или не хотел. Продолжал упорствовать. Шли годы, никто ничего о нем не слыхал, во всяком случае, работы ему не предлагали. И вдруг он снова всплыл, кажется, разбогатевшим: выгодно женился да еще получил баснословные суммы от каких-то фондов. И вот он взялся за «Отелло».
От Шекспира Собачковский отошел довольно далеко, в результате вышло что-то неописуемое: некая смесь Вагнера и Гюстава Доре, разбавленная Гертрудой Хоффман, Гарри Пилсером, Лой Фюллер и роскошными празднествами Пуаре 1912 года[34]. Все было до жути уродливо и помпезно и при этом не походило ни на многообещающее начало Собачки – как звали его русские эмигранты в Голливуде, – ни на академизм, за который его ругали позднее. Какая-то новая, третья манера… что-что? третья? Господи, у меня уже, кажется, мания: мне вдруг пришло в голову, что в этом лысом субъекте с моноклем живут три человека: дерзкий юнец, автор первого фильма, этакий кудрявый красавчик с гитарой; нейтральный, приспособившийся к жизни, тучный, с нездорово-бледным лицом, в модных расклешенных брюках, да еще третий, настоящее чудовище, которого никто не подозревал в благопристойном господине с моноклем: ведь в последнем его произведении были не только вычурные дворцы, кричащие краски, смехотворные потуги имитировать Голливуд и чувствительность в духе Пьера Луи[35]: в нем сквозило что-то двусмысленное, какие-то туманные намеки, недомолвки в каждой сцене – словом, фильм не только показывал отчаяние его автора перед надвигающейся старостью, но и обличал в нем третьего, личность вроде тех порочных типов, что убивают служанок, возвращающихся поздно вечером из кино, воруют обувь постояльцев роскошных отелей, поджигают забавы ради хлеб на полях. Я не мог отвязаться от этой мысли, и мне хотелось поделиться ею с Кристианом: все так хорошо укладывалось в его теорию трехстворчатого зеркала; но мешало присутствие Антоана, Антоан же понял, что я хотя и не скрываю отвращения, которое внушал мне фильм, однако же не высказываю всего, что о нем думаю. Но причины этой сдержанности он истолковал неверно – скорее всего, вообразил, будто Омела проговорилась и открыла мне, что на самом деле сценарий принадлежал ему, Антоану, хоть он и не пожелал ставить своего имени. И тогда, с притворно-доверительным видом он посвятил нас с Кристианом в эту тайну и взял с нас слово молчать. «Собачковский, – сказал он, – человек конченый. Кажется, наркоман или, скорее, спивается». И хотя Антоан давно это знал, но искушение было слишком сильно: как-никак «Отелло». Они с режиссером встретились на благотворительном балу, где помирали со скуки, платя за это удовольствие по сто су в час, тогда-то и родилась идея фильма, да и согласился он только потому, что Омеле ужасно хотелось спеть партию Дездемоны. Кроме того, предполагалось воссоздать весь колорит эпохи: Венеция накануне турецкого завоевания, в последние годы владычества в восточном Средиземноморье, а это значит – вы только представьте себе! – торговый путь в Индию, пряности, медь… в то время дожи не решались доверить командование армией местным патрициям, боясь их чрезмерного возвышения, и приглашали в военачальники каких-нибудь албанцев, монголов, эфиопов – ведь кто такой Отелло? то ли негр, то ли крестившийся араб… – да еще атмосфера Архипелага, здесь, на островах, дух Древней Греции соседствовал с недавней памятью о крестовых походах, здесь сталкивались две цивилизации, древние боги и новые люди, новые страсти… – неистовый Отелло, лавирующий между Христом и Магометом…








