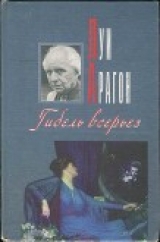
Текст книги "Гибель всерьез"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Здесь, Эхо, ты заснешь навек, здесь ждет тебя последнее ложе. Здесь, между королей, ты рано или поздно ляжешь рядом со своим безумцем-мужем, а по соседству – саркофаг его отца и матери его Луизы, переселившейся сюда задолго до супруга, а вот гробница ее преемницы, красотки Марии-Юлии, хоть бы псы сожрали ее кости! – здесь будет твое место, и здесь же упокоится твой сын, которого ты родила от Кристиана. Часовня недостроена, и, когда, привязав коня у паперти Олуфа Мортенсена, я захожу сюда, все думают, что я наведался проверить, как движется работа, и сбивчиво лепечут: да, конечно, надо, чтоб все было готово на случай, если вдруг, не приведи Господь… о, я бы засмеялся, если б мог!
Что, если вдруг, не приведи Господь, ты, Эхо… а куда уволокут меня? В какую яму закопают, в какую стену замуруют, в какую даль запрячут от тебя? Ни лестницы, ни потайного хода не будет между нашими могилами. Мои останки смешаются с костями бродяг и душегубов, и их скелеты пожмут ключицами, глядя, как неразрывны наши узы и побелевший мой остов как будто все еще сжимает в страстной неге твою, о королева, тень… И если на кладбище близ Хельсингора однажды явится лихой могильщик и запоет свою песенку, которую ты, верно, слышала, когда жила у брата, короля Георга:
In youth, when I did love, did love,
Methought; it was very sweet
To contract, o, the time, for, ah, my behove,
O, methought, there was nothing weet…
[62]
… я не стал бы расспрашивать этого молодца: чувствует ли он, чем занят, что поет, роя могилу… ведь всему свое время, и приходит время могильщиков: валяй, приятель, раздроби лопатой мою голень, швырни мой череп оземь – ведь это последняя ласка, отпущенная мне судьбой, единственное, что напомнит мне дни молодой любви, когда я думал, что милей всего, ох, коротать часы с огнем в крови…
Что если вдруг, о Эхо… но может быть, как знать, тебе и не придется спать сном вечности бок о бок с королем-безумцем… Меня казнят, отрубят кисть сначала – положена такая кара за измену, – а после – голову, и волосы рассыплются по плахе, на казни можно обойтись без парика и пудры, они, бывало, как светлый дождь, касались твоего лица и расплетенных кос на белизне подушки, – подумай, Эхо, только тут, в мой смертный час, пред палачом, мне наконец дадут свободу быть собой… А ты, что сделают с тобой, отныне беззащитной? Но, можешь клясть меня, родная, я все-таки скажу: в моем позоре, в могиле для злодеев и воров мне будет горьким утешеньем знать, что ты, о Эхо, никогда, ты, тихая звезда моих ночей, ты никогда не станешь спать средь мрачных королей! Когда разразится скандал и палач поднимет мою голову над площадью, все будет кончено, и никакой надежды, что обесчещенная королева взойдет на трон, как прежде… что за насмешка судьбы: тебя отлучат от этой династии, тебя, чье чрево выносило очередного монарха, нежное лоно – какое счастье было касаться его… ты, Эхо, никогда не станешь спать средь королей, о, никогда такому не бывать… и больше не придется лгать. Но топор палача и темница твоя ненадолго во мрак нас изгонят, наша песнь победит суд отживших времен, и пролитая кровь освятит наш союз для потомков. Для Дании мы чужаки, но ей так просто не избавиться от нас: на небе брошен жребий, монархам выпало истлеть в гробах, а любящим прославиться в веках…
О Эхо, Эхо, никогда средь королей и королев, застывших в камне, ты не уснешь, и мне не ревновать тебя к хозяевам Роскильде, теснее сдвинут два-три гроба с остывшим прахом так, чтобы место, приготовленное Каролине-Матильде, не зияло в ряду гробниц, ты же будешь далеко от Хельсингора, на острове, овеянном криками птиц, но ты их не слышишь – на смертном одре с тоской вспоминаешь другое ложе – в комнате близ часовни, где потайной ход; ну что же, могильщик, лихой молодец, у песенки старой чудной конец:
But age with his stealing steps
Hath claw’d me in his clutch,
And hath shi pped me into the land
As if I have never been such…
[63]
«Старость, крадучись, как вор»… теперь мне уже не надо стряхивать пудру, идя к тебе, отряхивать голову, которую отсек палач. Старость, крадучись, как вор… подменяет мне небо и ночи, и волосы мои белы без пудры! Когда же старость, крадучись, как вор, возьмет меня рукой – не все ль равно, ее стараниями или палача я окажусь в земле, – когда я сгину, будто бы и не было на свете этого малого с волчьими зубами, горящим сердцем да копной соломенных волос, в которой терялись твои руки, ты, Эхо, никогда не будешь без меня покоиться в Роскильде.
Где и когда? Вдруг промелькнула тень, встрепенулась душа, и я уже не знаю, кто я. Чужое тело, все чужое: и пальцы, и ноги, налитые тяжестью, и грузное туловище. Сколько мне лет? – странный вопрос, скользящий по склону плеч. Кем я проснулся на этих смятых простынях? Где светлые волосы, где молодость, – исчезло все, осталась лишь тупая боль в груди. Который час? Чьи это руки, чья стареющая плоть, откуда сочится слабый свет? Наверно, Эхо, засыпая, зажгла светильник в изголовье, я поворачиваю голову и смутно слышу голос, сулящий где-то порывистый ветер и град, а где-то снег… на дорогах туман… вьется дорога, катят грузовики, водители слушают песни по радио… Хватит ли у меня еще сил, чтобы уехать на другой конец света? Нет больше падающих на лоб упрямых прядей. И больше никто не назовет меня Иоганном-Фредериком, никто. Светлые волосы, молодость – все исчезло. Я другой. И все слова, которые шевелятся во мне, звучат совсем не по-немецки, у них совсем иная музыка. Что я забыл? Вену или всю свою жизнь? Забыл несчастного врача из Альтоны, как забыл самого себя. Все – наважденье, бред, обрывки снов. Вот моя рука: губы скользят по шершавой коже, по тыльной стороне ладони к складкам на запястье. Не шевелись, Эхо, жизнь моя. Радио тихо мурлычет песенку, которой не было в мое время. Как будто я попал куда-то на чужбину, где и птицы поют на другом языке, в какое-то щебечущее Ориноко, совсем другие ритмы, прерывистые, повторяющиеся слова, голос женщины, куда-то ускользающей, когда, кажется, уже держишь ее в объятиях… Неужто мы так далеко, что все вокруг нам кажется и чужим, и родным?
Где и когда? Я больше не тот белокурый немец, что был твоим возлюбленным, королева моя. Мне уже не стряхнуть пудры с волос.
Вдруг пение стало громче. Я даже различаю слова, что пробиваются сквозь обволакивающую слух пелену. Вот голос нахлынул волной, залил всю комнату и снова сделался тише, послушный твоим пальцам. Припев, как пульс, короткие слова: «О гитара моя, гитара» – или что-то еще в этом роде. Так ты не спишь, о Эхо, ты не спишь? О нежная моя, нагая, а я – что я, сухая ветка у тебя под ногами, запутавшаяся в твоем длинном подоле, подхваченная им, как камушек, как лист… я старик, я для тебя лишь смутное воспоминанье. Надевать чью-то маску, чтоб удержать тебя, бесполезно, жизнь не удержишь, как охапку сена, чье бы обличье я ни принял, хотя бы того же Иоганна-Фредерика Струенсе, что родился в Галле, провинции Бранденбург, пятого августа 1737 года, а в тридцать пять лет – прекрасный возраст, чтобы умереть, – в конце марта 1772 года, в копенгагенской крепости был обезглавлен вместе с Брандтом, своим другом, о котором я здесь не говорю, чтобы не запутать тебя вконец, за то что любил Каролину-Матильду, сестру Георга III Английского, но также и за то, что пытался использовать деспотизм на благо простого люда, так что его проступки оскорбили и строгих поборников морали, и власть имущих, подлинных хозяев королевства. Нет, бесполезны символы в великом хаосе времен.
Что за вихрь, что за буря грохочет? Клавиши встают дыбом вслед за стремительными пальцами и тихо опускаются каждая на место, все ноты в ряд, как распрямляются травинки, примятые кабаньими копытами. Позывные внешнего мира: радио «Франс-Интер», новости дня, дрожит скоба, прогибается засов, – да-да, хоть, может, здесь не Кристиансборг, какая разница, – засов на двери, что отделяет нас от короля-безумца. Дверь, отделяющая нас от мира. Я понял, вот откуда нам грозит беда. Сошлись светящиеся веки зеленого глазка. Последние известия вот-вот взломают створки, удержится ли наш засов на этот раз? – нет, кончено, ты чувствуешь, нас обдало холодным ветром? Людская боль наступает на нас, как наемное войско, я слышу вопль толпы, скрежет тормозов, шаги грабителей, тяжелое дыханье страха, земля нынче ночью строптиво вскинулась – и целого города как не бывало: трупы, руины, пожары, бурлящее море… где это все? название, которого я прежде не слыхал, и даже не могу сообразить, как пишется… Анкоридж[64], красиво звучит, город, о чьем существовании я узнал в тот день, когда оно едва не прервалось по милости землетрясения. Оно произошло в Страстную Пятницу, и перья обезумевших сейсмографов вычерчивают размашистые петли, разрывая бумагу… И ты, еще не до конца очнувшись ото сна, ты тоже вздрагиваешь, и тебе, как колебания земной коры, передаются все горести мира: страдания плоти и духа, боль целого народа или малого ребенка, разлука, одиночество, война. Что снится тебе, когда ты снова шепчешь: «Обними меня», и я всем телом ощущаю тот стон чужой боли, что захлестывает сердце, как порыв ветра.
А радио не смолкает и распевает по-английски новомодные песенки. Две развеселые малютки, поди запомни, как их звать, головкой встряхивая бойко, умеют ловко танцевать, ура, Сильви и Франсуаза, и раз и два, и раз и два, одна светла, голубоглаза, другая жгуча и смугла, быстрее, музыка, быстрее, а что поют, не различить, давай, подружка, веселее, быть, дорогуша, иль не быть, и вдруг помедленнее ритм, слышны отдельные слова, три поворота, три подскока, и все, пока… махнуть рукой, не рассуждать, ох, дети, дети, возьмите руту, розмарин, вам эта песенка под стать:
Клянусь Христом, Святым Крестом.
Позор и срам, беда!
У всех мужчин конец один;
Иль нет у них стыда?
Ведь ты меня, пока не смял,
Хотел женой назвать!
И было б так, срази нас враг,
Не ляг ты ко мне в кровать.
[65]
О, песенка совсем не та, что пели в прошлые года, но все же новые Офелии с поддельным Гамлетом не прочь пробыть всю ночь, и Робин, ветреный дружок, недолго будет одинок, изменит, чуть промчится лето, но вы же знали, знали это, так было с сотворенья мира, прочтите сами у Шекспира:
Веселый мой Робин мне всех милей…
Нет, рифмы я не подберу, стихи такие не к добру, такие песни прямо в ад ведут, я слушать их не рад. Переключи на другой город и на другую любовь, но всюду и вечно наша любовь, я помню всегда о тебе одной, и тень твоя – сияющий шлейф, да, переключи на другой город, чтобы, не размыкая рук, мы пустились с тобою по свету, побывали, где не были прежде, а где же мы были с тобою, Эхо? Помнится, мы все хотели как-нибудь в августе проплыть по Дунаю до Вены… когда же теперь… уж не знаю… мир обезумел, и плыть по Дунаю нечего даже мечтать, лучше забыть, не вспоминать, так же, как те три недели в Вене, помнишь, Эхо, когда вся жизнь повернулась, как на шарнире, все во мне и в целом мире.
Забвенье. Немота. Мне чудится нечто похуже забвенья. Есть много способов уничтожать людей. Как муравьев, которых можно передавить по одному, а можно уморить всех скопом, посыпать белым едким порошком их муравьиные дорожки, и вмиг – готово дело, протянут ножки. Есть патентованные средства, признанные повсеместно, испытанные, и не раз, пригодные для самых широких масс: разбить все страны на враждебные станы да и стравить друг с другом, свору на свору, а не то пусть все грызут одну. Не об этом ли в Вене тогда шел спор, только я все на свете, и самого себя, забыл с тех пор. Бывают отменные повара: выпотрошат женщину и сварят, как куру, в котле, а индейские мастера могут высушить человеческую голову так, что станет величиною с детский кулак, а волосы отрастут до земли, знают тайные снадобья да приемы… но не это мучит меня по ночам…
Нет, мне мерещатся убийства страшнее и дольше самой войны, но тихою сапой, когда все средства хороши, выбирай на любой вкус, смерть обыденная и изощренная, для которой ни правил, ни законов, обойдется без электрического стула и без эшафота, удавит, оглушит, раздавит и так, но прежде вымотает душу, проникнет в мозг, задушит в человеке человека, ей страх милей, чем плеть, но не побрезгует и плетью, унизить ей отрада, почует слабость и согнет, заставит за руки держать под пыткою родного брата и не прикончит жертву до тех пор, пока не исчерпает весь свой арсенал: боль, голод и глумленья. Смерть во всех обличьях: мгновенная, как от пули, и мучительная агония, такая долгая казнь, что все уже успели позабыть и приговор, И преступленье – если оно и вправду было, – забыть, из-за чего льется кровь, за что один из наших братьев лишился имени и даже номера и обращен в скотину, с тоскливым ревом ждущую на бойне последнего удара.
Я видел смерть, подобную тайной страсти; всемогущую, как безотчетная стихия, – стихия, захватившая целый народ, которая уже не умещается в темных уголках человеческих душ. Смерть, в которую проваливаешься, как в западню, не за какую-то провинность, а просто потому, что ненароком наступишь ногой. И вот ты падаешь, и разверзаются бездны, бесплодные пустыни жизни, глубокие колодцы бедствий, бескрайние нивы страданий. Мир забытья, смятения и боли. Кто и когда установил его жестокие законы, неизвестно. Но все безропотны и знают, что касаться их столь же опасно, как трогать голыми руками невинный с виду проводок, по которому проходит невидимый глазу смертоносный ток. И вот нелепый парадокс: все время, пока смерть точит и гложет человека, он думает только о жизни и мнит, что, уплатив очередную дань, получит отсрочку. Я вижу страшную империю смерти, которая неумолимо губит подданных, построивших ее собственными руками, и это у них именуется жизнью.
Я вижу смерть, дерзнувшую подменить собою жизнь. И потому неумолимую: ведь если жизнь равноценна смерти, надежды на спасенье нет. Смерть, против которой никто Не восстанет, никто не сплотится, против которой и голоса немыслимо поднять, которую никто не призовет к ответу, нет на нее суда, нет Вены. Смерть, убивающая во имя того, что мне дорого, во что я верю, за что готов погибнуть. Хотя в конечном счете у всех смертей одно лицо; когда его являют уцелевшим, те ужасаются, не постигают, не верят, стонут, мечутся, рвут на себе одежду, так длится день, и два, и три, а после все возвращается на круги своя, и каждый живет, как жил, пока не грянет новая смерть, моя или ваша – не знаю, что страшней! Я вижу смерть столь безобразную, что ей самой покажется нелепым искать себе каких-то оправданий.
«В чем дело, что с тобой стряслось? – спросила Эхо. – Ты на себя не похож. И весь горячий! Уж не простыл ли? Ну, конечно. Конечно, простыл! Да и немудрено: просидеть целый день за работой в лесу, в такую сырость, в такой холод. Ты мне напоминаешь таитян: когда у них жар, они лезут в холодную воду… И лучше выдумать не мог…[66]»
– Какие таитяне… ты воображаешь, что мы где-то за городом? Да нет же, Эхо, все происходит здесь, у нас дома, в Париже, нет никакого леса, никакой простуды, посмотри: все та же обивка на стенах, шкафы, два столика с мраморным верхом в изголовьях кроватей.
«Ну вот. Не даст сказать. Да, мы не в городе. Ведь я не спорю, когда ты говоришь про Копенгаген. Вот дремлет черный пес – что у него на уме, и, как ты думаешь, верит он в Бога? Иногда мне кажется, что верит. Если открыть окно, увидишь первоцвет! Да нет, не открывай, с ума ты, что ли, сошел! Не открывай окно, сейчас безлунная ночь, и нет никаких первоцветов. Просто, если открыть окно, видны первоцветы. Что ты сказал?»
– Я сказал: первоцвет – это ты.
«О чем я? Ах да. Какая разница, в Париже или не в Париже! Ты сам все перепутал: у тебя эта дверь с засовом в копенгагенском замке, не помню уж, как его название, а историки пишут, что их убежище было не в столице. Молчи. Я знаю, что ты скажешь: все это неважно, и читатель все равно не отличит Кристиансборг от какого-то еще другого «борга», и ничего страшного, если ты запутаешься в замках, главное, чтобы он, читатель, не запутался в чувствах героев, и ты, конечно, прав, но как ты его расслышишь? Вот спит черный пес, я уже говорила о нем, – ты слышишь его сны? Может, он заблудился в твоем Копенгагене, может, для него весь мир – эта комната, сад да лесная опушка. Да, знаю, ты скажешь, что именно для удобства читателя – или пса, все равно – ты все совмещаешь и упрощаешь, проделываешь то, что называется синтезом. Так вот, ради этого синтеза и ради этого пса, условимся: когда начинаю говорить я, мы с тобой оказываемся в загородном убежище. И крыша там не медно-бирюзовая, вот слышишь, горлицы воркуют, значит, правда…»
– Ну, что до горлиц, то я и в Париже, у себя в кабинете, частенько слышу их воркованье, шесть звуков в две стопы, четырехсложная с двусложной; должно быть, они из года в год устраивают гнездо на каминной трубе, там удобно: крыша черепичная, а огня, как им известно, никогда не разводят. Однажды пасмурным днем, когда ничто не напоминало о весне, я услышал горлиц и подумал: какое же сегодня число? Было двадцатое марта, и сначала я решил, что птицы поспешили с весенним призывом, но оказалось, что нисколько: я упустил из виду – и не вспомнил, пока не услышал метеосводку, – что шел високосный год и, стало быть, начало весны приходилось ровно на пятнадцать часов этого самого дня…
«Дашь ты мне договорить или нет? – снова сказала Эхо. – Впрочем, с тобой всегда так. Можно подумать, ты не пишешь свои истории, а высекаешь их на мраморных скрижалях, так что не смей изменить ни буквы. Да и вообще, какой точности можно требовать, если ты ни разу не был в Дании… Хельсингор – это что, Эльсинор? Все то же самое могло бы происходить и здесь. Правда, у нас не добавляли в тальк бергамотовую эссенцию. Может, это был не тальк, а порошок от муравьев? И волос мы больше не пудрим, с этим неплохо справляется время. Но, послушай, мне вовсе не нравится белобрысый любовник, которого ты мне навязываешь. Или, по-твоему, светлые волосы делают мужчину неотразимым? Не перебивай… Да и сама героиня, откуда ты ее выудил? Это ужасное двойное имя».
– Эхо! Ты же видишь, я ни разу не назвал ее Каролиной-Матильдой…
«Действительно, ты, мой любезный Иоганн-Фредерик, называешь ее так же, как меня, когда мы наедине, но это еще хуже. Да и вообще, говоря о ней, ты передергиваешь. Я, например, будь я хоть сто раз королевой, никогда бы не дошла до такого бесстыдства, как эта немка, которая не видела ничего зазорного в том, что служанки заставали ее после ухода Струенсе раздетой, видели разбросанную одежду, кажется, ей даже нравилось являться перед ними в таком виде, не остыв от объятий любовника, иначе почему бы ей не привести себя в порядок, прежде чем кого-то звать…»
– Я просто забыл эту мелочь, впрочем, рассказывать о женщине лишь самое существенное еще не значит передергивать. Тем более что не кто иной, как я отыскал в библиотеке сборник документов из собрания герцога де Крюссаля, изданный обществом библиофилов в 1829 году в количестве тридцати экземпляров, в шестом, и последнем, томе которого содержится материал о процессе над датской королевой. А уж потом эта книга попала к тебе.
«Но не приснилось же мне все это? На странице двадцать четыре сказано, что твоя Каролина любила расхаживать голой по опочивальне в копенгагенском дворце, в присутствии прислуги, а особенно в те дни, когда на площади под ее окнами проходил парад королевской гвардии».
– Да, но нигде не написано, что гвардейцы на нее пялились…
«Фи, ты еще и груб!.. Не люблю светских женщин, позволяющих себе разгуливать перед прислугой голышом. А она к тому же посмеивалась и спрашивала служанок, неужели те не видели на картинках Еву или Иисуса Христа. Что уж говорить об интимных деталях, вроде синяка на шее, который она чуть ли не выставляла напоказ всем, кроме короля… смотри страницу двадцать девять. А куда, скажи на милость, ты девал дочь, которой она разродилась летом 1771 года и которую кормила грудью, когда ее схватили и отправили в Кронборг в ту ночь после маскарада?»
– Это я просто опустил, невелик грех.
– Знаю я тебя. Ты ничего не делаешь просто так. Он, видите ли, просто опустил! А я говорю, передергиваешь. Я долго думала, чем тебе помешала малютка Луиза, а потом поняла… Еще бы! Куда же годится, чтобы героиня романа об идеальной любви принимала твоего светловолосого двойника беременной! Что, угадала? Ты приукрашиваешь свою Каролину, и я тебя поймала с поличным! Или ты боялся, как бы не подумали, что ребенок от тебя… то есть от Струенсе? Почему бы и нет, но это никого, кроме них, не касается. Конечно, они любили друг друга… Но это еще не причина, чтобы награждать ее моим именем! Разве писать романы значит отдавать собственную жизнь другим? или самому проживать чью-то чужую жизнь? Нет, у меня всегда по-другому: сначала во мне, подобно мысли, рождалось что-то требующее выхода, что-то такое, что облекалось в человеческую плоть, но не в мою; я нигде не заимствую ни героев, ни сюжеты: то, что я хочу выразить, претворяется в них само собой, независимо от меня… А ты, наоборот, выискиваешь реальных персонажей и ждешь, какие мысли они тебе внушат… И вечно передергиваешь.
– Зачем ты так строга ко мне, Эхо?
И все-таки многого о Вене я так и не вспомнил. Похоже, что мой мозг был исписан вдоль и поперек, как грифельная доска, и с него наконец стерли тряпкой слова, цифры, события, так что остался только белый меловой налет, туманная дымка. Наверно, мне стало невыносимо жить, невмоготу разматывать нить дней, развязывая бесконечные узлы, и на очередном узле "я, потеряв терпенье, дернул и разорвал ее; с тех пор в глубине моего сознания так и лежит спутанный клубок несостоявшейся жизни.
Наверно, было что-то, от чего я отвел свой внутренний взор. И, надо полагать, мне было очень важно чего-то не видеть, коль скоро ради этого я рискнул оборвать все одним махом, перекрыв приток крови к голове и заблокировав изнемогшее мышление. А потом принялся все кропотливо восстанавливать, пытаясь, в буквальном смысле слова, связать концы с концами. Пошел вспять темными туннелями времени, отталкиваясь от какой-нибудь светящейся точки, будь то перекресток, lobby гостиницы, пойманная краем уха фраза; блуждая в ватных облаках и воскрешая шаг за шагом, сцену за сценой… вот разговор с одной бельгийкой, явление некоего господина, настолько привыкшего к всеобщему беспрекословному повиновению, что, не удостоив меня и взглядом и обращаясь к моему собеседнику, сказал как отрезал: «Сегодня в девять…» – не терпящим возражений тоном. В какой же миг и от чего отвел я взор?
Как будто взял и разбил очки… Нет, не то. Само такое объяснение – еще один способ отвернуться от реальности, от непереносимой яви.
Итак, Вена, конец 1952 года, а точнее, с 12 по 19 декабря. Концертенхауз. Еще не кончилась война в Корее. Воюют в Индокитае. А бывший немецкий канцлер Йозеф Вирт сказал, что радость – это божественная искра, провозвестница вечного блаженства… нет, это сказал не он, а Фридрих Шиллер. Речи, речи… Но не они причина моего душевного надлома. Ораторы сменяли друг друга, помню только вереницу лиц, и вдруг прожектор высвечивает тебя… Как? Ты, Эхо, это ты поднялась на трибуну, ты говоришь, а я, со всеми вместе, смотрю на тебя, я совсем не знал, что ты там поднималась на трибуну и выступала в скрещении прожекторов и под жужжанье кинокамер, не забыл, а совсем не знал. Ты говорила так же, как всегда, языком наших прожитых лет… ты, светоч памяти, убивающая забвенье Эхо! Прожекторы погасли. И снова потянулась цепочка смутных теней.
Нащупываю слова, образы. Все глубже погружаюсь в черноту. Порой же натыкаюсь на зияющие дыры, память забредает в тупик. Иду по собственным следам, вглядываюсь в лица, всплывающие из тьмы, стараюсь сложить целую картину из разрозненных фрагментов: вот чья-то рука, вот несколько голов, кулуары конгресса – нужно только набраться терпенья. Каких-то кусков не хватает, другие явно лишние. Что же за сила разметала мозаику?
Декабрь 1952-го. Должно быть, я где-то столкнулся лицом к лицу с чудовищем. И, может быть, тем самым, которое желал во что бы то ни стало, хотя бы и ценою жизни, оттолкнуть, зачеркнуть, забыть; забыть его и все, что с ним связано, на что ложилась его тень, все, вплоть до следа его руки на подлокотнике кресла, до стакана, из которого он пил, книги, которую отшвырнул, дыма его трубки или тусклого его смеха.
Увидел ли я его на самом деле или услышал его голос в чьем-то другом? или только дыханье? или просто случайно открыл дверь в комнату, где все это происходило? Происходило – что? Да ничего. Если разобраться, все было как обычно. И я был все так же слеп, доверчив и покладист. И я не передергиваю, Эхо. Я просто слишком долго безоговорочно верил. В Вене ничего нового не произошло. Все случилось много раньше и совсем не там. В другой точке нашего необъятного мира. А в Вене я только услышал эхо и не вынес его. Все дело в чем-то, чего я не желал признать. В каких-то доводах со стороны. Но почему же вдруг я их не выдержал? Провал.
Пьяный гуляка, веселясь в кабаке, просто-напросто хочет забыть свое горе. А его угрюмый сосед забывает горе чужое. Я потерял ключ, пропустил свидание, опоздал на поезд, забыл, что должен был сказать. Я что-то убил в себе и стыдливо называю убийство забытьем. Беда невелика, если загубишь что-нибудь пустячное, вроде спички, которую чиркнешь от нечего делать. Но если задета живая плоть души… проиграна ставка всей судьбы? В таком случае забыть – все равно что выбросить цветы из вазы… Вернувшись к жизни, стараешься выстроить весь мир заново, обойдясь без того, что кануло в забвенье. На этом месте образуется рубец. А поскольку не знаешь, что именно подверглось ампутации: рука, нога, один мизинец или кошелек, – то ничего и не болит. Но иногда, при резких изменениях погоды, рубец вдруг начинает ныть. Рубец от чего? Вот это-то и мучит. Узнать бы, от чего.
Когда ворочаешься без сна или, наоборот, погружаешься в сон, устраиваешься так, чтобы нечаянно не задеть, не поцарапать, не зацепить рубец. Пытаешься отвлечься, думать о другом. Сочиняешь бесконечную историю и рассказываешь, рассказываешь ее сам себе, прогоняя неотвязную тревогу, выдумываешь целый мир с живыми людьми, целую страну. Любую, почему бы и не Данию? В Вене было двадцать пять датчан: тринадцать делегатов и двенадцать наблюдателей, двое из них выступали на тринадцатом и шестнадцатом заседаниях. Второй была женщина. Она сказала, что в нашем расколе каждая сторона только и делает, что обличает пороки другой, и осудила фарисейскую жестокость, когда поносят на чем свет стоит инакомыслящих: «Меня возмущает, что мы преспокойно умываем руки и перекладываем вину на других. Мы все в ответе…» И этого я не забыл, а попросту не слышал. Почему бы не Дания? «Мы в Дании, – говорила она, – давно уже стали на путь компромиссов. И далеко продвинулись на нем, но надо идти еще дальше…»
Поразительно, как можно слушать и не слышать. Аплодировать, не аплодируя. Получается, какие-то вещи не нужно и забывать. Как будто мел не оставляет следа на доске. Возможно, в такие минуты мы чем-то себя убаюкиваем. Пересказываем то одну, то другую главу длиннющей истории и только делаем вид, что слушаем. Выдумываем себе какую-нибудь Данию; так ребенок разговаривает со своими куклами.
Зачем же, Эхо, зачем ты так строга к моей несчастной Каролине?
– Зачем же, Эхо, зачем ты так строга к моей несчастной Каролине?
«Ей просто не надо было быть королевой, ни датской, ни какой-нибудь другой. Тогда за ней не шпионила бы целая свора челяди. И она могла бы ходить нагишом в свое удовольствие, как я или ты. Ты скажешь: не будь она королевой, она не была бы все время на виду, но я о том и твержу. Зачем тебе понадобилось сажать ее на трон? Разве нельзя было, составляя ее образ по кусочкам, обойтись без короны? Она ей не пристала так же, как звание фаворита белокурому возлюбленному, которого ты мне навязал. Да еще и Гамлета зачем-то приплел! По-твоему, Гамлет демократ? И желал добра народу Дании? Вспомни – уж этого ты, наверняка, не забыл, – как мы смотрели «Гамлета» в Москве, у Вахтангова, в тридцатые годы. Этакий коренастый принц, с огромной, как глобус, рыжей головой, явно любитель покушать; сцена, на которой играла бродячая труппа, как бы располагалась за кулисами, а мы из зрительного зала видели монарха-узурпатора в широченной красной мантии, которую он с трудом удерживал на плечах; вот он поднимается в королевскую ложу, негритята несут за ним огромный шлейф; когда же слова, разоблачающие его злодейство, поражают его в самое сердце, он стремглав сбегает по ступеням, а мантия взлетает и огромным огненным росчерком пересекает сцену: слева направо и сверху вниз… Он все уже забыл, и тут эти слова… Твоя история шита белыми нитками. А я не люблю, когда все швы торчат наружу. Можешь называть Эльсинор Хельсингором, все равно не увильнешь… И нечего петлять, говори напрямик. Отбрось все куклы и скажи, что тебя мучает. Или тебе и правда очень больно об этом говорить, даже мне одной, сейчас, в темноте?»
– Послушай, Эхо, когда граф Рантзау явился в замок, чтобы препроводить Эхо в Кронборг, который давно уже не назывался Хельсингором[67], а в 1725 году в его стенах устроили казематы для казарм, один из которых стал тюрьмой для Каролины-Матильды, – так вот, когда граф Рантзау привез туда Эхо, вместе с фрейлиной леди Мостин, подозрительной уже тем, что была англичанкой, и, признаю, с грудной Луизой, к ней приставили одну-единственную камеристку, госпожу Аренсбак, в чьи обязанности входило, судя по ее показаниям на суде, не столько Прислуживать королеве, сколько следить за ней. Она-то и сообщила Каролине, что Струенсе заключили в Касталлет, то есть в копенгагенскую цитадель, которая имеет форму двух вложенных друг в друга морских звезд…
«Так вот к чему ты вел с самого начала: к тому, что развенчанная королева оказалась в Эльсинорском замке? Или Кронборге, Как ты говоришь… это здесь бродит призрак, которого встретил Гамлет? Узница терзается и думает, не пытают ли ее возлюбленного, не закован ли он в кандалы, не морят ли его голодом – ах, бедный мой бранденбургский доктор! – а привидения там водятся и сейчас? Впрочем, ты же не бывал в Кронборге, откуда тебе знать…»
– И все же знаю. Представляю. Привидения посещают Флаг-баттери, угловой бастион, на котором установлены старинные пушки, позеленевшие еще больше, чем крыша, и развевается над проливом «Данненборг» королевский флаг, в 1219 году упавший с неба. Где заточена Каролина? Сколько помещений в тюрьме на них на всех: на нее с дочерью, леди Мостин и Аренсбак? Куда выходят окна – или единственное окно, – виден ли из них бастион? Ночью, когда артиллеристы уходят и на башне остаются только несколько часовых да клубы тумана, появляется призрак и совершает обход, но к нему так привыкли за многие столетья, что никто и не замечает, есть он или нет. Прошла ли у него боль в ухе, в которое другая датская королева влила расплавленный свинец, чтобы без помех жить со своим любовником? Но правда ли был на свете этот король, посещающий угловой бастион между одиннадцатью часами и полуночью? В истории Дании о нем ни слова, вот уж поистине призрак. Полная победа воображения над действительностью. Хватило нескольких строчек Саксона Грамматика[68], чтобы под пером другой полумифической личности, Шекспира, родился герой, понадобившийся ему, чтобы произнести: «Быть или не быть». И ныне Гамлет, сын Горвендила, правителя Ютландии, более реален, чем все остальные датские короли и принцы; что перед ним Кристиан VII Слабоумный? Да и Каролине-Матильде, несмотря на ее скандальный процесс, не сравниться известностью с Офелией. Духи Кронборга существуют неоспоримо, а один из них постоянно обитает в тамошних казематах. Окаменевший, он сидит, прислонившись к подпирающей свод колонне, мощные руки сложены на груди, голова поникла, а борода свисает чуть не до полу, и тяжелый щит прислонен к левому колену. Призрак спит. И должен просыпаться всякий раз, когда Дании грозит опасность. Однако Гитлер, как и Фортинбрас, не заставил его открыть глаза. Это Хольгер-Датчанин, которого мы называем Ожье-Датчанином[69]. Хотя и знаем, что настоящий Ожье, сын одного из двенадцати пэров Карла Великого, прозван Датчанином скорее по недоразумению, из-за созвучия слов «дануа» – датчанин и «арденнуа», то есть уроженец Ардена. Саксон Грамматик, упомянувший о Гамлете как об историческом лице, знать не знает никакого Ожье. Но Эльсинорская легенда оказалась сильнее истории, и Ожье Арденнуа, граф Дист, почивший в Сен-Фароне, близ Mo, прообраз пикового валета в наших игральных картах, превратился в национального героя страны, к которой не имел ни малейшего отношения, если не считать того, что в 1707 году в Дании вышел прозаический перевод поэмы об Ожье. Он не бывал в этой стране, но остался в ней навек окаменевшей легендой. Так что можешь не упрекать меня, Эхо, что я ни разу не был в Дании; вот в Вене я, ты уверяешь, был, и что же? Тебе не нравится мой белокурый двойник – не страшно! Подберем другого.








