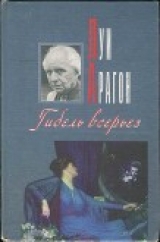
Текст книги "Гибель всерьез"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Конечно, я не выдерживаю и декламирую, пусть даже это написал Антоан:
Эта тайная лестница дверь а за нею альков
Там небрежно задернута штора дрожащей рукою
Узнает он глаза от страдания цвет их лилов
Этот рот этот рыжий огонь завитков
На главе отсеченной что блюдо в объятьях покоит
То слепые хирурги кромсают цветение роз…
Татата-татата-татата, и не помню, как дальше…
У стены за которой Рансе уж давно опочил
Он и памятен нам тем единственным мигом
Когда смотрит с порога на ту что безумно любил…
[58]
И потом: «Этот миг на пороге – Кому же глядясь в полумрак – Испытать не пришлось столь похожие чувства… Татата-татата… В самом деле любил он – Мечтал ли действительно он…»
– Прекрасно, – сказала Ингеборг, – но ваш солдат, так же как и я, не обязан был знать про этого Рансе, а стихи, если не ошибаюсь, были написаны года на два позже…
– Да, дорогая, но тот случай, когда ты чуть не умерла, был года на два раньше, а мой солдат, конечно, не знал тебя и не мог знать, что подумал я, «ступив на порог», когда тот хирург – помнишь? – американец… сказал мне: «Даю вам час на размышление, потом я не отвечаю за ее жизнь…»
– Вы все путаете, – сказала Ингеборг, – и, кроме того, слишком много себе позволяете.
Да, я все путаю. Я вовсе не Ранее. Ни я, ни Антоан нисколько не похожи на этого Дон-Жуана, постригшегося в монахи и превратившего в центр траппизма монастырь в Солиньи, где он провел остаток своих дней, соблюдая обет молчания. Да и думал ли я о нем, когда пробирался со своими солдатами першскими лесами неведомо куда и зачем, до того ли мне было? Вспомнил ли хоть раз, проходя тамошними местами, о Столетней войне? В ту ночь, то есть уже в следующую ночь, мы, не сбавляя хода, миновали Ла-Флеш, тоже опустевший… и снова углубились в лес, а там вдруг наткнулись на обоз. «Взгляните-ка, – сказал мне генерал, – что там, слева, за шум…» Генерал Ланглуа, которого мы помнили полковником, был теперь командующим Западным фронтом, и у него вошло в привычку использовать меня в качестве разведчика. Глядя сквозь заросли, я увидел на дороге, параллельной нашей, немецкие повозки, которые, очевидно, тоже пересекли Ла-Флеш, то ли до нас, то ли после, и теперь двигались на Анжер… Это было уже вечером, да, после того, как мы все переобулись в Люде… но вот я смотрю на карту и ничего не понимаю. Люд чуть восточнее Ла-Флеш, там стоит замок, заложенный в те времена, когда Жан де Бюэль писал своего «Отрока»… В Люде мы совершили набег на обувной магазин – все равно хозяин его бросил, – высокие бордовые ботинки, которые ты потом на мне видела, как раз оттуда… какое счастье сбросить наконец сапоги, в которых отшагал весь май, прошел Бельгию, Дюнкерк, Англию… а как в них горели ноги! От Ла-Флеш до Сабле, то есть до Кратора, немного дальше, чем до Люда, но это северо-западнее, туда мы не дошли, нам же надо было выйти к Луаре, понимаешь? – и пересечь ее. Этот вечер в Люде я уже где-то описывал, черт его знает, где именно… Там мы приняли ближний бой на дороге и встретили солдат, отступавших из Парижа, один из них был ранен в Медоне, представляешь, в Медоне! Нет, решительно, я все путаю.
– Все путаете, – повторила Ингеборг. – Интересно, что сказал бы Антоан, если бы услышал, что вы со мной на «ты»?
Антоан… о нем-то я и забыл. Разве мне до Антоана, до того, чтобы разбираться, где он и где я, когда врач говорит мне, что ты умираешь? Или когда немцы на подступах к Анжеру… Антоан! Еще один книжный герой, хоть и не граф Парваншерский, как Кристианы и Жеромы. Боясь снова ступить на зыбкую почву, я сделал попытку уклониться и резко сказал:
– Не стоит приплетать Антоана, ему и самому это ни к чему: ведь если граф Парваншерский может быть сразу всеми королевскими наместниками, то мы: вы, Ингеборг, и я – можем быть сразу всеми королями и королевами, да простит нас госпожа Алисина сестра, а Кассио, или, в новейшем варианте, Кристиан – всеми вашими любовниками. И если Столетняя война может быть всеми войнами сразу, то почему не может другая, та, на которой был я? Но позвольте мне вернуться к мысли о покорении реальности.
– Сделайте одолжение! – воскликнула Ингеборг. – Хотя чем больше я вас слушаю, тем больше мне кажется, что не вы подчиняете реальность, а, скорее, она вас, отсюда такая путаница. К тому же я заметила, что вы не читаете, а только делаете вид, на самом же деле импровизируете почем зря и заговариваетесь. Чем притворяться, лучше бы честно показали текст – надеюсь, в нем больше искусства, иначе говоря, ход событий более подвластен автору. Или, может, у вас есть какая-нибудь законченная рукопись, покороче, которую уже можно читать?
– Что ж, это, пожалуй, идея… – сказал я.
А сам подумал, не дать ли Омеле вместо того, над чем я действительно работаю – потому что ее скептический отзыв мог бы просто подкосить меня, и тогда «Роман об Омеле», как я, отчасти в шутку, окрестил свое детище, остался бы незавершенным, – один из рассказов Антоана… Тут надо пояснить. Конечно, с моей стороны это нечестно или, по меньшей мере, некрасиво. Но я всегда имел порочную склонность к мистификациям, а соблазн был так велик. Собственно, поначалу я объяснил Омеле – или, во всяком случае, мне так казалось, – как рождаются герои романа, как подразумеваемое осеняет высказанное вслух, а вымысел сливается с реальностью, причем не столько с объективно прожитой, внешней жизнью, сколько с жизнью внутренней, ведомой лишь нам одним. Как вы помните, это было ответом на вопрос Ингеборг, я пытался выразить суть и сложное строение того, что пишу. Пишу именно я, а не кто-нибудь другой. Но, как всегда, этот другой, Антоан, незаметно проник в меня. И получилось, что мои объяснения относятся вовсе не к тем страницам, о которых спрашивала Ингеборг, глядя, как я над ними тружусь, а к содержимому красной папки, которую некоторое время тому назад подсунул мне Антоан. Она была сделана из какого-то искусственного материала – такие появились только в шестидесятые годы, с началом «нейлоновой эпохи», – довольно удачно имитировавшего мягкий на вид и на ощупь сафьян, и в ней лежали три рассказа – Антоану якобы захотелось узнать мое мнение о них. Раскрыв папку, я увидел на внутренней стороне, под косой прорезью кармашка для всяких бумажек и записок, надпись золотыми буквами:
XVII Съезд Коммунистической партии Франции, Париж, 14–17 мая 1964.
Приводя эту надпись, я не сообщаю об Антоане ничего нового, это вещи общеизвестные, а только уточняю временной контекст (может, он на это и рассчитывал?). Я прочел все три рассказа: «Эхо», «Карнавал» и «Эдип» – с необыкновенной жадностью, – первый – из-за очевидного сходства Эхо с Омелой, а два других – потому что в них столь же очевидно сквозило настойчивое желание отстраниться, уйти от Омелы подальше. Внешне как будто не связанные друг с другом, они были внутреннее созвучны…
Так вот, растолковывая Омеле, как зарождается роман, я исподволь втянулся в хитрую игру, затеянную Антоаном. Не знаю, что меня толкнуло: только ли страх показать то, что я пишу, Омеле, которой, собственно, все это предназначалось, или же сработала еще какая-нибудь другая психологическая пружина. Так или иначе, во мне вызревало решение подменить пока еще сумбурные страницы моей недописанной книги первым рассказом из красной папки, выдав его за образец собственного творчества. Для чего мне понадобилась эта ложь, зачем было приписывать себе сочинение Антоана, я и сам не очень понимал, да и не пытался понять. Возможно, во мне говорило сострадание к Антоану: я чувствовал, что он не решается показать рассказы Омеле, и хотел пощадить его: дескать, если они ей не понравятся, я не выдам его авторства? У нас с Антоаном довольно сложные отношения. Я не люблю его, да это и понятно. Но я не могу не страдать, когда страдает он. Ну а если, прочитав рассказ, Омела скажет: «Какая прелесть!»? Как я поступлю? Признаюсь в подлоге? Или не стану рассеивать заблуждение? Хотя бы для того, чтоб, сознавая свой обман, упиваться хмелем и ядом похвал, относящихся к другому. Но, если у меня до такой степени закружится голова от этих похвал, что я захочу навсегда остаться для Омелы автором «Эхо», как сделать ложь неопровержимой истиной? Возможные решения этого вопроса смутно промелькнули где-то на окраинах сознания, но, кажется, именно тогда у меня впервые возникло искушение избавиться от Антоана… убить Антоана. Разумеется, я не подумал этого внятно. Чего же, в конце концов, я добивался, чего хотел, какого исхода ждал? В своей собственной психологии я разбираюсь так же слабо, как в психологической науке в целом. Поэтому мне трудно судить, каковы были мои истинные намерения, когда я выдал «Эхо» за свой рассказ – действительно ли я хотел оказать услугу Антоану, послужив посредником между ним и Омелой, если ей понравится рассказ? И действительно ли хотел уберечь его или ее от разочарования, если, как я втайне надеялся, он не придется ей по вкусу? А в глубине души я желал, чтобы было именно так. Или наоборот: в первом случае я присвоил бы чужой успех, а во втором – назвал подлинного автора… Может, и так, я не склонен высоко оценивать свои моральные качества, пусть это делают другие. Сам же себе я обычно представляюсь с самой худшей стороны. В общем, ничего не разберешь…
Как бы то ни было, я согласился показать Омеле на конкретном примере, что я имел в виду в длинном отступлении о романе-зеркале, достал из красной папки рукопись, предусмотрительно отложив верхний лист, на котором стояло имя Антоана Бестселлера, откашлялся, чтобы прочистить горло, и начал:
– Рассказ называется «Эхо». Эпиграф…
– Ну, уж нет! – перебила Ингеборг и выхватила у меня рукопись. – Здесь, кажется, все разборчиво напечатано, я лучше прочту сама, доверюсь своим, а не вашим глазам! Посмотрим, что это за преодоление реальности…
Что ж, я вышел из дому, оставив госпожу д’Эшер одну в гостиной, где тихо бормотало радио, и она, расположившись в малиновом кожаном кресле, которое, если приставить пуф, легко превращалось в удобную кушетку, уставилась в рукопись рассказа «Эхо» – чем не иллюстрация к моему отступлению о романе-зеркале! Мне было страшно неловко и, пытаясь заглушить это чувство, я отправился к букинистам, заходил то в одну, то в другую лавку, листал старинные и более или менее новые книги и разговаривал с книгопродавцами: люблю послушать этих последних носителей культуры, без которой мне было бы трудно прожить и которая обречена исчезнуть еще при нашей с Антоаном жизни, если мы доживем до той поры, когда в этом презренном мире восторжествуют идеи, которые и я, и он как будто бы должны разделять.
Идеи… ради них мы живем, а то и умираем ради них. И чем они оборачиваются… Родись я, к примеру, китайцем, я бы страдал, боролся, мечтал, увлеченный идеей, и наконец увидел бы ее воплощение в жизнь… К чему я это говорю? Передо мной сегодняшняя газета (ты читал? – спросил меня букинист, из породы тех людей, о которых я говорил, – из тех, кто знает все на свете и ухитряется отыскивать на свалке нашей цивилизации золотые крупицы несуетных мыслей… – читал вот это? – и протянул мне газету, с текстом где-то и кем-то произнесенной речи, на целый лист мелким шрифтом, и в ней как раз об этом… во всяком случае, в том месте, которое он показывал, а сам принялся выколачивать трубку о край скамьи – мы с ним стояли перед дверями его лавки, расположенной в двух шагах от населенных молодежью и вечно шумных кварталов, в удивительном уголке большого города, похожем на чудом сохранившийся островок средневековья, который называется двором Рогана…), и вот сегодня, дождливым осенним днем, когда ветер треплет красные листья дикого винограда, я читаю:
«… ныне страсти кипят вокруг так называемой «революции в Пекинском оперном театре», которому предъявлены требования изъять из репертуара все спектакли, где действуют императоры и короли, так как их появление на сцене означает «восхваление феодальных и буржуазных порядков». Артистам предписано «влиться в ряды пролетариата», ибо он – «единственный источник, способный вдохновить подлинное искусство и литературу». Всеобщее восхищение вызывает тот факт, что каждая восьмая картина современных китайских художников навеяна произведениями великого Мао Цзэдуна. Вопросам культуры посвящены выступления многих членов Политбюро и других лидеров китайской компартии. Один из них требует исключить из арсенала искусства «гнилую, ложную, надуманную и упадочническую чувствительность, которой пропитаны истории о юных влюбленных». Другой обрушивается на советского режиссера Чухрая, объявляя, что все три его фильма: «Сорок первый», «Баллада о солдате» и «Чистое небо» – заражены «духом абстрактного гуманизма и буржуазного пацифизма».
Ожесточенным атакам прессы подвергается директор одного института, преступно утверждающий, будто диалектика признает принцип не только «разделения целого на части», но и «слияния частей воедино». Извращая и сводя к механистической догме диалектический закон единства и борьбы противоположностей, китайские идеологи пытаются с помощью «принципа разделения целого» подвести теоретическую базу под свою деятельность по расколу международного движения».
Да, родись я китайцем… впрочем, меня, кажется, больше всего задела эта история с «разделением» и «слиянием». В силу совсем иных, чем у оратора, личных причин. А может, причины в чем-то и схожи. Если попристальней вглядеться. Да, именно вглядеться.
Первый рассказ из красной папки
Эхо
Где я и в каком времени? Широко раскрытые глаза упираются в темноту – наверно, ночь, или, может, я ослеп. А время… как разглядеть циферблат, даже если часы не остановились? Я не слышу их пульса, но это ничего не значит: такое уже было, и оказалось, что тогда я оглох. Одеон 84–00… пытаюсь нащупать знакомый белый предмет на столике у изголовья, но тщетно – должно быть, кто-то его отодвинул, или его больше нет, не осталось вообще ничего белого на свете? Да и что я узнаю, услышав точное время, – только час, но не день, месяц, год, не место, где я нахожусь… Однажды… давным-давно… случилось так, что мой мозг на какое-то время отключился, остановилась кровь в сосудах, а я не заметил затмения. Я сидел, погрузившись в ванну, и вдруг открылась дверь и вошла Эхо. А с ней вернулось время, и снова заработало сердце, как будто она протянула руку и завела пружину у меня на затылке. «Поторопись, – сказала она, – сейчас придет портной примерять костюм». И странный разговор завязался между нами, странный, потому что в памяти Эхо не было провала, и мозг ее работал беспрерывно, точно стрекочущая пишущая машинка, ей не надо было шарить рукой, набирать «Одеон 84–00»… тогда как из моей жизни внезапно выпали три недели, я потерял, забыл их и не осознавал пропажи.
Хоть бы включить свет, нащупать выключатель, но я и провода не нахожу… а, впрочем, для чего искать? Допустим, я найду свой белый телефон на мраморной столешнице, узнаю, который час: пусть три или четыре, и что же? Пропасть остановившегося мгновенья, что поглотила в прошлый раз целых три недели, я так никогда и не измерил. Конечно, постепенно я их восстановил и как бы прожил заново, но сомнения еще меня, хоть я старался не подавать виду, а поначалу просто притворялся, что припоминаю, освежаю в памяти – венские дни и другие события тех недель; мне не хотелось пугать Эхо, и я хитрил, как мог, так что мои собеседники даже не догадывались, что я их допрашиваю, выуживаю из разговора то, чего не знаю. Использую их, как «Одеон 84–00». А потом я и сам забыл, что когда-то многого не помнил. И теперь уж мне самому не разобрать, как говорит Эхо, «где выдумка, где правда»… Мне, непрофессионалу, не под силу отличить в собранном заново ожерелье дней настоящие рубины от поддельных. Вот и теперь, когда я вопрошаю пустоту, ищу в потемках «Одеон 84–00», ничто не может подсказать, очнулся я от простого сна или, как в прошлый раз, вынырнул из небытия, вернулся в прервавшееся время, ничто и никто, разве что откроется дверь, войдет Эхо, и по ее взгляду и голосу я пойму, что между краем моей памяти и этим пробуждением обычный ночной сон и передо мною новый день, как новый, очередной выпуск романа-фельетона, который я просто развернул слишком рано, чуть выбившись из суточного ритма.
Я все ищу выключатель на проводе, которого нет и в помине, и вдруг понимаю, что само слово «выключатель» звучит для меня, как одно из тех мнимых воспоминаний, которые я воссоздавал после случая в ванной, как нечто из пересказанной, а не прожитой реальности; как будто кто-нибудь рассказывает вам о путешествии по дальним странам, где вы никогда не бывали, которых никогда не видели воочию. Я словно бы забыл, какую вещь обозначает слово «выключатель», осталась только звуковая оболочка. Так может быть, на этот раз я не утратил слов, но забыл их смысл.
Нет. Или если и забыл, то не все. Например, Эхо… я помню ее имя, я утопаю в ее свете; как бы далеко ни унеслась она во сне, – она, лежащая со мною рядом, – я скорее забуду имя, которое сам же ей и дал, словно сменил камень в оправе моего романа, но не ее самое; забыть ее? – нет, никогда. Слова и магические заклинания не имеют к ней ни малейшего отношения. И даже это имя «Эхо», которое ей неловко выговаривать, и она упрекает меня, что я нарочно выдумал такое, – не столько слово, обозначающее ее, как, например, слово «нож» обозначает нож-предмет, а нечто вроде ее фотографии, ее отражение, хотя, конечно, далеко не совершенное, но движущееся вместе с нею, как тень… Я давал ей множество имен, вслух и втихомолку, и каждое из них – не заклинание, не телефонный номер, вроде «Одеона», а память о незабываемом, единственно-незабвенном в мире, о том, что куда важнее знать, чем точный час, – множество имен набралось за целую жизнь, одно всегда скрывалось за другим, скрывалось то от посторонних глаз, то от нас самих в дневной суете; есть, например, такое, которым я зову ее средь бела дня, в толпе, которое выкрикиваю во весь голос, не выдавая настоящего имени, потому что оно… но может ли имя быть настоящим, а разве не самое настоящее – то, которое я даю ей сейчас, сию минуту? На ее настоящее имя, слишком известное, слишком много говорящее о нас обоих, все стали бы оборачиваться, вот и пришлось изобрести другое. А Эхо – ночное имя. Которого не слышит и она сама, которым я зову ее в часы бессонницы. Эхо – не телефонный номер вроде «Одеона», а память о незабываемом, о том, что важнее, чем точная дата: час, день, месяц, век… Найти выключатель на проводе. Но что такое «выключатель»? – помню слово, но не помню смысла, это, кажется, что-то такое, за что я брался левой рукой, что-то связанное со временем, только не помню как, и это что-то я обхватывал левой рукой, как шелковистое колено или тонкую лодыжку Эхо, если повернусь… мне вдруг так ясно представилось это прикосновение, что я застыл с повисшей в пустоте рукой, забыв обо всем. А что до выключателя, вдруг эта штука зашумит или зашевелится и разбудит мою Эхо, уж лучше подождать…
«Одеон 84–00»… Загадочная, магическая формула. Набор звуков, соотносящийся с каким-то предметом, представление о котором я утратил напрочь. Или, может, проснувшись, я очутился в другом времени, когда его еще не было в помине? и в другом месте, не там, где засыпал? Каким, молодым или старым, окажусь я сам, когда отброшу укутывающее меня черное покрывало тишины и ночи? Какого цвета будут мои волосы? Чуть шелохнулась рядом со мною Эхо, нет это не движенье, а легкий трепет, ласковый шепот, эхо жизни… вот слово, вновь и вновь приходящее мне на ум, едва я заговорю о ней, слово, само слетающее с губ, приникших друг к другу, как наши тела. Не этот ли внезапный трепет вдруг всколыхнул во мне сомненье, молод я или стар; еще никогда в жизни, в том запутанном сне, который я считал своей жизнью, своей собственностью, своим уделом – одним словом, никогда прежде я, кажется, не задумывался, сколько мне лет. И полагал, что уж это никак невозможно забыть – все что угодно: лицо, язык, но только не свой возраст. А, собственно, как мы его определяем? Тогда, в ванной, я не потерял памяти о возрасте. Но погодите, я просто об этом не думал, как знать, потерял или нет? Когда Эхо с ужасом поняла, что я не помню, что было вчера и позавчера, она спросила: «Но ты хоть помнишь, где мы были?» – спросила просто машинально, – услышав же в ответ: «В Париже», – не сразу осознала, что, значит, Вена и все, что было между отъездом из Парижа и обмороком в ванной, для меня исчезло; когда же поняла, она и вскрикнула так страшно… Но спрашивать, сколько мне лет, ей как-то не пришло в голову. Да и кто же станет задавать такие вопросы? Только когда знакомятся на улице с ребенком, спрашивают: который тебе год пошел?.. Так что не исключено, что я и возраст позабыл и только потом узнал его с помощью расспросов или более или менее сознательных вычислений.
Теперь же, не знаю, как и почему это случилось, но что-то, быть может, ты, встрепенувшееся в тебе эхо, внушило мне отчетливое чувство – не воспоминание, а живое ощущение того, что я полон молодости и силы. Я знал, что в мире еще нет ни говорящих часов, этого вашего «Сезам, откройся», чтобы справляться о времени, – время жило во мне самом, – ни телефона, чтобы произносить в него сие магическое заклинание, ни проводов, ни этих… как бишь называются эти штуки, чтобы разгонять темноту? ах да, выключатели… их тоже не было… Может быть, я и в самом деле обрел молодость и силу, но не свою, а чужую, проснувшись в другом времени, в эпоху, когда еще не научились передавать по проводам голос и свет, не задумывались о возрасте и не существовало тех предметов, что окружали меня, когда я засыпал, вот почему я не могу нащупать ни столика, ни провода, ни выклю… – как его?.. забыл.
Что ж, попробую восстановить утерянный мир, как уже делал однажды, восстанавливая венские события, выкапывая одно воспоминание за другим, разбираясь в себе и в тебе, и начну с того, что под руками, вот с этой простыни, или савана?.. нет, полотно слишком тонкое, это расшитая цветочками простыня – начну с нее и когда-нибудь… восстановлю все остальное: первым делом то, что ближе всего к тебе: ту комнату, где ты лежишь и спишь, потом, расширяя круги, – весь дом, квартал, город, целый мир, во всей его пестроте: его обычаи, изобретения, условности, лесные дебри, бедствия и войны… как будто я все это пережил, все это помнил… как будто во мне оживает эхо тех времен.
Не шевелись. Не покидай меня. Ты моя молодость, и я держу тебя в своих объятьях. Держу со всею силой целой жизни, держу в объятьях страсти и изнеможенья, в объятьях радости, восторга, в объятьях всех наших дней и всех ночей. В двойном кольце, в объятьях рук и ног, сжимающих тебя с неистовым, счастливым торжеством; тобой полно все тело, пронизано все существо мое, ты – песнь любви…
В том мире, где я засыпал, я помню справа от кровати, то есть ближе к тебе, ряд шкафов: белые дверцы за серыми ситцевыми занавесками, и на ключе, торчащем в одной из дверец, висело на лентах что-то черное и легкое, как снятая с руки перчатка, складки мягкого шелка: блузка? юбка? Если бы увидеть эту одежду на тебе, то можно бы угадать, в какое время мы попали. Или хоть пощупать и определить по фактуре ткани. Но я помню только, как распласталось у твоих ног темное пятно, нежная шкурка, как ты нагнулась поднять ее… и стоит вспомнить – по телу пробегает дрожь. Если бы я мог заглянуть в шкаф, я бы увидел там твои платья, висящие рядком на плечиках, как жены Синей Бороды, и, глядя на них, вспомнил бы другие наряды, те, что ты надевала совсем недавно и когда-то давно, перебрал бы в памяти весь алфавит наших с тобою дней в обратном порядке. Помню, в 1929 году ты носила белую шляпку, и одна моя старинная знакомая, тайно досадовавшая на меня за то, что появилась ты, сказала: «Твоя Эхо (ну разумеется, она звала тебя иначе) – отчаянная женщина, белый цвет беспощаден к любому изъяну на лице!» Я опешил, услышав эти слова, и, кажется, слышу их до сих пор. То была фетровая шляпа-колокол, похожая на те, что носят нынче, в 1964-м. Еще помню твою шубу, первую, которую я на тебе видел, но вечно забываю, как называются зверьки, скорей всего, сибирские, чей мех защищал тебя от холода. Так год за годом, и каждый – тут я не ошибусь! – отмечен какой-то вещью: один – синим платьем, другой – только бельем, третий – тончайшею шалью, ажурной и белой, как снега твоей родной страны.
В изножии кровати – стол, привезенный из Савойи, с неяркими узорами на черном фоне, вчера ты положила на него свою сумочку, ярко-синий футляр с перламутровым лорнетом и театральную программку, там же, зацепившись за желтый бювар, повисли, как увядшие листья, твои чулки. Напротив, на стене, висело зеркало, составленное из двух стекол разных оттенков, верхнее поменьше и побледнее, чем нижнее; между стеклом и рамой в одном углу торчат чьи-то приглашения, в другом – картинка, которую кто-то прислал нам из Германии. С двух сторон кровати два стула с лакированными спинками, но из-под белого лака проглядывает красный, как на перекрашенном заборе: чуть царапнешь – виден сурик; стулья эти нам подарил один знакомый, когда стиль Мартин уже выходил из моды, и ты решила сделать их другой масти. Во всяком случае, так все было вчера вечером, если, конечно, я заснул вчера; а под окном (это значит – с моей стороны кровати) стоял обтянутый кожей флорентийский сундук, где сложены платки и шали, обнимающие твои плечи. У камина – туалетный столик, который тебе не нравится, какого-то неопределенного стиля, между XVIII веком и ампиром, вишневого дерева с инкрустациями, сделанный в Провансе или на севере Италии, за такими сиживали подруги наполеоновских офицеров; теперь на нем милый твоей душе кавардак: пузырьки, пилки для ногтей, ножницы, пудреница, расческа, какие-то коробочки, серебряная шкатулка для колец, на трех ножках в виде голов сирен. Зачем мне свет? Вся эта обстановка отпечаталась на моей сетчатке, неизменная декорация конца дня, еще миг – и ты протянешь руку к радиоприемнику, извлекая из него какую-то мелодию, потом погасишь свет, лишь бледная шкала да зеленый глазок останутся мерцать в темноте, – последние короткие минуты истекающего дня, отпущенное нам время измеряется лишь несколькими песенками, как будто близится к концу последний тайм безнадежно проигранного матча в регби: игроки еще перебрасывают друг другу мяч, но знают, что шансов больше нет и им удастся разве что слегка улучшить счет…
Да, но уверен ли я, что вспыхнувший свет покажет мне те же предметы на тех же местах? Что, если черная тень на дверце шкафа окажется длинным платьем с воланами и с корсажем на китовом усе? Что, если на стуле с твоей стороны обнаружится расшитый рюшами капот на переливчатой атласной подкладке? Вдруг на столике, рядом с лорнетом, валяется маска, а около кровати стоят высокие ботинки из светлой замши? Что, если эти двое спящих – не мы с тобой, даже не другие мы, как знать? Пытаюсь разглядеть, но едва их черты проясняются, отбрасываю обоих в небытие: как допустить существование какого-то времени, где нет нас с тобой, или, вернее, где ты, как всегда, в ладу со всеми окружающими вещами, а я вдруг проснулся в холодном поту и не могу понять: что это за человек спит на моем месте? Даже если он похож на меня, на тощего из-за скудной пищи мальчишку, каким я когда-то был, или на юношу, в которого, насколько могу судить по фотографиям, вполне можно было влюбиться, даже если так…
А может, этот спящий – тот человек, что прожил за меня выпавшие три недели и знает то, что неведомо мне. Но я его не вижу, здесь темно, он растворен во тьме. Слышно только дыхание. И оно то кажется мне чужим, то вдруг распирает мою собственную грудь, захлестывает, как ветер в подворотне. Мой двойник, оставшийся молодым, живой укор мне теперешнему. Ты помнишь, Эхо, то лето… мы отдыхали у моря, где же это было, тот песчаный пляж? с нами еще была твоя подруга, та, что недавно умерла. Жарило солнце, мы лежали и загорали. Вы о чем-то болтали на своем языке, в котором я понимал не больше, чем в пчелином жужжании. Ты вдруг заметила, что я обгораю, и растолкала меня – надо же, нечем прикрыть даже лицо. У меня были черные как смоль, блестящие волосы, ты говорила, что я похож на танцора из ресторана… А твоя подруга поглядела и сказала: «Хорош он у тебя во сне. Совсем ребенок. Можно смело показывать кому угодно…» Теперь я бы не рискнул заснуть на виду у всех; за последние тридцать лет ты ни разу не говорила мне, как я выгляжу, когда сплю. Иногда эта мысль приходит мне в голову во сне. И я тут же просыпаюсь и уже никак не могу узнать, как выглядел, пока спал. Впрочем, это, наверно, хорошо, что мы не можем видеть себя спящими. Или мертвыми. Вот что, Эхо, обещай мне: не смотри на меня, когда я буду лежать мертвым, не делай этой глупости, набрось мне на лицо свой тонкий, легкий, как ты сама, платок и позволь мне уйти, чтобы ты не видела меня, не знала, каким я стал, а потом вспоминала таким, каким я был прежде или даже каким никогда не был, не успел стать: прибавь мне морщин, представь, как время избороздило бы, исказило, обезобразило мое лицо… помни что угодно, только не то, что было на самом деле. Не этот навсегда все заслоняющий кошмар.
«Обними меня…» – сказала ты, или мне послышалось. Потому что ты и раньше иногда шептала: «Обними меня…» Как раз за этот еле слышный лепет в полусне я прозвал тебя «Эхо», а ты и не знаешь. Но к кому, к которому из моих «я» относятся эти слова? Точно ли ко мне из этой, нынешней ночи? Я не подозреваю тебя в неверности. Верю: это сказано мне, но что значит «мне»: тому ли, кто только что заснул и о ком мне неприятно думать, или тому, кем я был вчера, год назад или раньше, до того как по-настоящему стал самим собой, или тому, молодому, который мог смело спать на виду у всех? О Боже, я и сам не знаю, что хуже: если ты видишь меня таким, как раньше, или таким, как сейчас. Хорошо, что это от меня не зависит. Выбирать было бы просто ужасно. А так смиряешься с тем, что есть. Днем же ночные страхи забываются.
По-твоему, Эхо, я все выдумываю? нарочно мучаю себя или кокетничаю? Да посмотри же на меня и поймешь, что я прав. Не смотришь, спишь. Ты в том блаженном забытьи, когда совсем неважно, как я выгляжу во сне, я это или не я, какой идет год, где ты находишься: в каком городе или в каком захолустье, есть ли уже на свете масляные радиаторы и телефон или постель согрели грелкой с углями, всадники ли несутся по залитым луной равнинам или самолеты мигают в ночи зелеными и красными огнями… а может, мы в утробе парусного судна, на небе нету звезд, и судно сбилось с курса… или выбрались из пекла пустыни с остатками каравана, глаза забиты песком, во рту пересохло, и наши сны дробятся, как кусочки слюды в примитивном калейдоскопе. По-твоему, я все выдумываю, Эхо? Я укачал тебя в своих объятиях, укачивал тихо, бережно, нежно и долго, а ты постанывала, как дитя, и я чуть не спросил, сколько тебе лет, мы одолели вместе длинный путь, путь целой жизни, которому, кажется, нету конца, все на этом пути несут с собою скарб, с которым не расстались бы ни за что на свете: громоздкие и плохо упакованные вещи, тюки воспоминаний, кипы мыслей. Помнишь, однажды ты упала – о, как я испугался! – а я не успел подхватить тебя, помнишь, упала от усталости? Нам в память врезаются приключения, войны, влюбленности; усталость же уходит, оставляя лишь легкую дрожь.








