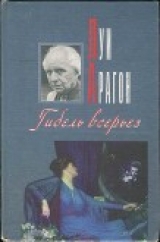
Текст книги "Гибель всерьез"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Так что же я ему сказал, да ничего, несколько пустых фраз, посоветовал принять пост, который он счел для себя оскорбительным. Да, я, Антоан Бестселлер, просил его не оставлять армии, как бы тяжело ему сейчас ни приходилось, держаться стойко и не слушать тех, кто толкает его в политику, уговаривал выставить свою кандидатуру на выборах… Это я-то… форменный олух, не правда ли? Брякнул не думая, с ходу, мне вдруг представилась роль солдата, роль армии такой важной, такой необходимой. Никогда не смогу объяснить, почему вдруг такое на меня накатило. Я говорил, а он ошеломленно меня слушал. Разумеется, он ожидал от меня другого. Возможно… – сказал он, – должно быть… вы правы. Подумать только, черт побери, такие слова – и от вас!
Он проводил меня. В гостиной кто-то сидел и ждал его. Он представил нас друг другу: Уильям Буллит… Антоан Бестселлер… Теперь пришла очередь Буллита давать советы.
Я шел по улице Бретей, теперь я точно вспомнил, шел куда глаза глядят по направлению к Гренель. Никак не мог опомниться. Что же это со мной было?
«Что с тобой? – спросила Омела, глядя на меня с недоумением, как на диковинного зверя. – Странно – ты в компании с военными… Для меня, ты же знаешь, военные – все равно что марсиане…»
* * *
Зеркало поворачивается… выхватывает стену, дерево, прошлое становится будущим, мертвые лежат на дороге, зеленые солдаты едут в призрачном поезде, каменистый край, руины Берлина, пожар в Ландах и ночная паника, когда растерянный голос призывал народ идти к аэродромам… Зеркало крутится все быстрее, играют отсветы тридцатилетней давности, призраки жизни, цвета времени. Белый дом, Градчаны, дождь в Риме, удушливый воздух Бруклина, зеркало крутится, и в нем я вижу свое лицо, отметки лет на лбу, сегодняшнюю ироническую усмешку над прошлым, зеркало поворачивается и возвращает меня к ногам Омелы, в настоящее, к пуфу из темно-красной кожи, зимний вечер, за окнами снег ложится на деревья в саду.
Никогда Ингеборг не казалась мне прекраснее, чем в этот вечер, освещенная блекло-розовым заревом Парижа, притаившегося за черными стволами деревьев. Снег за окном – театральные хлопья из борной кислоты. Мысли притупились, свет и тени – искусственные, слова выцвели… Не знаю почему, я вдруг сказал: «Стивенсон написал «Джекиля», прочитав «Преступление и наказание»». Омела смеется, а кажется, будто зазвенели серебряные браслеты на тонком запястье. Как она ухитрилась: прожить такую трудную жизнь и сохранить эту детскость. Я понял, о чем она промолчала, и ответил: «А как, по-вашему, я обошелся без Джекиля в этой истории с Антоаном, где он и я… Беда в том, что считается неприличным писать роман, опираясь на другой, уже написанный, лепить героя, глядя на портрет уже придуманного… Но без Раскольникова не было бы мистера Хайда, а разве сюжет и герой «Люсьена Левена» не взяты из романа «Лейтенант» Сен-Дени, милого Жюля, чью рукопись передала Стендалю мадам Гольтье… что же это: грабеж или продолжение чужого сна? Бейль, впрочем, был рецидивистом, его «Арманс» тоже выросла из «Оливье» Латуша, а может, из романа мадам де Дюра на ту же тему, как контрапункт темы, которую автор не сумел развить, я говорю именно о теме Латуша, потому что ни один человек, умеющий читать, не обвинит Стендаля в том, будто он списал своего Октава с Оливье. Примеры можно было бы умножить. Собственно, все творцы химер подвержены подчас тайному пороку воровства… Но я только что прочитал одно исследование[147], в котором устанавливается, что у Октава де Маливера, которого до сих пор считали литературной игрой Стендаля или, в крайнем случае, игрой с самим собой, был прототип из плоти и крови, некий Виктор Жакмон, друг Бейля и Мериме, подлинный герой истории, которая потом превратилась в «Лакмэ»…
– «Лакмэ? – прервала меня мадам д’Эшер, и мне почудилось, что, думая о своем, может быть, о том, как Лили Понс поет «Арию колокольчиков», она откликнулась только на имя, но нет, она добавила: – Неважно, реален человек или его выдумали, важно, что он для нас существует, пусть даже в виде Октава де Мальвера, спасенного благодаря «Лакмэ». Реальность, нереальность – это только разные повороты зеркала, а герои романов похожи на молоденьких девчонок, вешающих у себя в изголовье карточки голливудских красавчиков или Джона Холлидея, или на солдатиков, украшающих казарму открытками с Клаудиа Кардинале и Милен Демонжо. Не говоря уж о романистах. Правда, большинство из них, предлагая публике свои творения, более или менее успешно скрывают, о ком они грезили, садясь за стол. Мы так и не знаем, кто был Джеймсом Дином для мадам Бовари…»
Я смотрю на нее и думаю: зато я слишком хорошо знаю, кто ее Кристиан. Не Кристиан из Перро, а владелец трехстворчатого зеркала. Сегодняшний Кристиан, тот, к кому обратится Изольда или Мелисанда в ее исполнении. Потому что звуки, переливающиеся в ее горле, никогда не были отвлеченным воспроизведением нот. Скажите, неужели я похож на глупца, который верит, будто необыкновенная глубина чувства, якобы обращенного на Пелеаса или Тристана, – результат упражнения голосовых связок? Нет, не так-то я прост. Тема – всегда лишь плащ, скрывающий контрабанду. Омела, похоже, понимает меня без слов – она ответила на вопрос, который не высказали мои губы, ответила, опять вернувшись к литературе – наверно, опасаясь, что иначе все станет слишком личным, слишком близко связанным с тем, что я знаю о ней.
«Вы ведь слушали в этом сезоне Каллас в «Норме» или, по-вашему, меня сопровождал в Оперу Антоан? Так вот, если бы я пела так же вдохновенно и обладала таким же даром, вы, ревнивец, непременно сказали бы, что меня вдохновил тот красивый мальчик… да-да, итальянец… поскольку подлинный источник живого чувства вам неизвестен. Но если бы я пела Норму, во мне – в душе, в уме и перед глазами – жило бы одно: оккупация, трагедия женщины, ставшей жертвой любви врага и готовой убить плод преступления – своих детей… разве о галлах и римлянах я думала бы? И настоящие писатели точно так же. Я не имею в виду вас, у вас романы – этакие длинные побасенки… я говорю о тех, у кого слово становится плотью».
Ей меня не уязвить. Я знаю, что писатель я средний, не хватает фантазии, мощи. Есть, пожалуй, поэтичность, владение словом. Мои романы – это в первую очередь язык. И критики, нравится им это или нет, должны исходить из этого. Так почему же Омеле, чье пение материально, чье пение – воплощенная душа, не чувствовать их эфемерность? Но пример, который она выбрала в подтверждение своей мысли, возбуждает во мне подозрения.
«Взять хотя бы ту писательницу, – говорит она, – она что-то рассказывает, мы следим за сюжетом, и вдруг он прерывается побочной темой, чужим сном, с которым мы, читатели, уже знакомы, потому что он уже описан, и благодаря побочной теме проясняется основная…»
Что говорит Омела, о ком? Я, должно быть, недослышал, заснул, упустил какую-то фразу, имя… а зеркало успело повернуться. В последнее время я сделался глуховат, и глухота у меня странная, я бы сказал, избирательная. Пропускаю сказанное мимо ушей, а потом пытаюсь сам восстановить смысл, но моя выдумка, зачастую не имеет ничего общего с тем, что я упустил. Чье отражение протягивает мне мадам д’Эшер? Перебираю названия романов… Нет, я ошибаюсь. Это не… нет-нет, не может быть. Почему вдруг зеркало повернулось для Ингеборг в ту сторону именно теперь, после того как в «Карнавале» Антоан… но я не давал Омеле читать «Карнавал»? Меня не оставляет ощущение близящейся катастрофы, я все время боюсь коснуться чего-то, что произошло без моего ведома и что решает все.
«Мне кажется, она постоянно использует побочную тему в своих романах, – продолжала Омела, – воспроизводя тот самый механизм, который действует и в актерах, помогая нам играть самые разные роли…»
– Я не понимаю вас, Ингеборг, вы о чем?
Прибегнув к уловке глухих, жалко притворяющихся, будто они чего-то не дослышали, тогда как они просто-напросто многого не слышали вовсе, я попытался вынудить ее произнести имя, а ей показалось, что я прошу разъяснить мне существо дела.
«Мы с ней вообще похожи, – сказала Омела. – Недавно она заходила ко мне. Мы знаем друг друга давным-давно, но никогда не дружили. А мне иногда хочется сесть вместе с ней и сравнить опыт ее и моей жизни. В ее романах я узнаю себя, когда героиня схожа с ней, но не является ее автопортретом. Например, Элизабет из «Коня белого», которую пятнадцать лет спустя мы встречаем в «Свидании чужеземцев»… может быть, причина проста – скандинавский характер, но мне почему-то кажется, она писала Элизабет, словно медленно вглядываясь в ручное зеркальце, которое лежало на туалетном столике, рядом с лаком для ногтей и десятком притираний для лица… отражение одно, но каждая из нас принимает его за свое собственное…»
Я похолодел. Выходит, я не ошибся. Но Эльза, по крайней мере, явилась сюда не из «Карнавала»? Не с концерта, не из ложи, не из Шумана? Все просто: несколько дней тому назад зазвонил телефон: «Я вас не побеспокою?» – Эльза по какой-то причине вспомнила Омелу и зашла к ней. Наверняка она сидела в кресле напротив, по другую сторону камина; на низеньком столике был сервирован чай; на ней голубое пальто, шотландская сумка на полу, на голове легкий шарф, и так же, как по телефону, она спросила: «Я вас не побеспокою?» Ничего особенного. Я ушел, оставив их наедине. Я просто позабыл, что они знакомы, вот и все. В Париже это обычное дело. Однако я не об этом. Омела говорит об Эльзе, как говорила бы о себе, и даже порой оговаривается: вместо «она» – «я». Как я с Антоаном. Не путает только цвет глаз («они у нее все такие же голубые»). Ингеборг говорила не о ней, а о ее романах, как она выразилась, о побочной теме…
«Знаете, мой дорогой, поначалу я не обратила внимания… слишком личными были темы: картины детства, начиная с самых первых ее книг, написанных еще по-русски, повторялись опять и опять, как зеркальная игра, вплоть до вещей, которые были написаны во время Сопротивления… Прием обнаружил себя в «Инспекторе развалин», где она ввела тему «Ложи чужаков», откровенно взятую у Гофмана… и Антонен Блонд осветился романтическим светом…»
Ну что со мной поделать: чуть услышу что-нибудь неординарное – и меня уже будто пришпорили, несусь вскачь, скачу через барьеры, которые сам же себе подставляю. Омела еще не кончила излагать свои взгляды на романы Эльзы Триоле, а во мне уже зароились воспоминания, подтверждающие пока еще смутно брезжущую мысль… Я вспомнил первую прочитанную мной книгу Эльзы… перед самой войной… Она называлась «Добрый вечер, Тереза…» Там было двое мужчин, до того похожих, что когда один входил слева, а второй – справа, то присутствовавшим казалось, будто у них двоится в глазах… близнецы, как там объяснялось, – и одна женщина, а вторая умерла. И вдруг меня осенило: не оттуда ли, улучшив цвет моих глаз, позаимствовала Омела «игру в Антоана», – так не без злости я именую происходящее? И более того: чем послужила мне самому «игра Терезы» – зыбкая множественность женской души, Терезы, чье имя выплыло как-то поздней ночью из случайной радиопередачи и которую автор надеется воссоздать с помощью множества историй, составляя из них одну: историю женщины, выдумавшей себя совсем другой или бывшей другой внутри себя, историю о другой Терезе в этой; так на сцене с помощью луча от поворачивающегося зеркала в центре действия оказывается то один персонаж, то другой. Я-то думал, что сам открыл в себе эту подвижную множественность, зыбкое скольжение многих «я», а получается, взял взаймы, воспользовался готовым… Выходит, и это не творение, а отражение!
«Побочная тема у Эльзы, – говорила Ингеборг, играя с маленькой белой лошадкой на колесиках, которую я подарил ей на день рождения (антикварный магазин на Университетской улице; оправдывая цену, антиквар объяснил: игрушка, знаете ли, 1900 года), – например, Зюбири из Гюго, которую в реальном мире звали Алисой Ози и любовником у нее был Шассерио, – Зюбири – это контрапункт линии певицы из «Ухищрений», героини, наверное, самой далекой мне и самой близкой, – Боже мой, в чем приходится признаваться! – или тема «Трильби» в «Луна-парке», – еще одна история о пении, подаренная английским романом… Неужели все эти героини – я? Множество разных женщин… и Бланш из последнего романа тоже? Бланш, которую мы узнаем только по письмам, обращенным к ней, видим глазами тех, кто смотрит на нее, она – отражение множества изменчивых зеркал. Я недавно перечитала роман, и мне показалось, что я пою партию Бланш, и я так поняла ее, когда в самом конце она исчезает, вы ведь помните? она – летчица и, несмотря на болезнь сердца, соглашается лететь в Сахару… а в Алжире идет война… вроде бы по просьбе нефтяной компании, но на деле она хочет изучить историю тамошнего народа; и вдруг оказывается в Париже после демонстрации, то ли на улице, то ли в полицейском участке, и ей открылось новое видение мира… История Трильби, которая могла петь, только получив приказ от своего повелителя, сидящего в глубине зала, здесь дана в зеркальном отражении, вы же помните, что пишет Бланш один из корреспондентов: «Из-за тебя мне пришлось перечитать «Трильби»! Бесчеловечно было вынудить меня к этому. Но у меня все наоборот. Если больше я не пою, не смогу больше петь, то это потому, что моя жена мне больше не приказывает…»
Можно подумать, Омела ищет повод сделать мне больно. Разве не жестоко мне цитировать это? Я прекрасно помню «Луна-парк»: помню и эту фразу из письма мужа Бланш. Я уже давно чувствую подспудное сходство моего с ним положения. Но об одном ли пении речь – так можно сказать о семейной жизни, о любовном дуэте в жизни. Я – тот влюбленный, кого превращает в ничто исчезновение возлюбленной, ее намеренное отдаление. Слепота без ее глаз, немота без ее голоса. Я так подвержен влиянию романов! Все эти выдумки так бередят мне душу. Помню одно интервью, или это рассказывал кто-то из знакомых Эльзы? Словом, Бланш Отвиль, героиня-невидимка «Луна-парка», ее самолет, упавший неведомо где, посреди пустыни, и все-таки шанс выжить – все это… как бы объяснить? Эльза написала книгу и закончила ее не свершившейся катастрофой, не смертью Бланш, а некой грезой, словно бы вдруг представив себе, что ее сверхчувствительная героиня, мучимая виной перед мужем и готовая принять и узнать любые муки в бескрайних песках, как говорит она сама, возможно, просто-напросто перешагнула границу ведомого ей мира – со всем, что у нее было: оружием, багажом, благородством сердца и живой плотью, и, быть может, живет в одном из племен пустыни, у кочевников, разделив их жизнь, подобно Изабелле Эберхард, оставившей привычный мир и ставшей наложницей в гареме бедуина или туарега. Да-да, вспоминаю: когда книга появилась, кто-то, со слов Эльзы, говорил мне, что она изучала жизнь Изабеллы Эберхард, чтобы так необычно кончить «Луна-парк», где эта побочная тема только подразумевается, но ясно не выявлена… А что же говорит Омела?
«В «Свидании чужеземцев» темой Гренады, взятой у русского поэта Михаила Светлова, она передает ощущение сродства, столь свойственное людям из народа, их общность, независимо от национальной принадлежности: это чувство было необыкновенным для наших дней открытием, чем-то мало нам ведомым, но так ярко проявившимся в войне в Испании… а тема Людовика II в «Великом никогда»… уверяю вас, это у нее система, художественный прием: какая-нибудь легенда, романс – словом, побочная тема раскрывает то, что волнует героев, что таится в их подсознании, выявляет те, так сказать, страсти-импульсы, для которых сами эти герои – только временные и подчас бессознательные вместилища. Точно так же в начале немецкой оккупации, когда никто еще не знал о Сопротивлении, но рельсы уже взлетали и уже убили первого немца на станции метро «Барбес» – как люди могли понять? Нам помогли старинные песни, в которых имя Роланда, докатившееся, как эхо далекого Ронсенваля, превратило партизан в героических рыцарей… Главной темой было, конечно же, Сопротивление, но без темы побочной как нашло бы оно дорогу к сердцам? Вот и нас, оперных певцов, слушают, будто с изнанки, опера кажется истертой до дыр, невыносимо скучной историей, но кто-то из сидящих в зале вдруг уловит в пении живую душу – как знать, какой струны его собственной жизни оно коснулось…»
Не помню уже, что говорила Омела о «Коне рыжем», жуткой истории: Шахерезада продлевает на день – и еще на один, и еще – висящую на волоске жизнь всего мира, придумывая новые и новые сказки, отвлекая ими палача… Интересная штука, подумал я, слушая Омелу, сам я только перелистал книгу, и не мне судить о подтексте: если снабдить ее подробным комментарием, обнажится солидный фундамент всей конструкции, осветятся переходы, выявится основа, на которой вытканы персонажи, их связь с жизнью Эльзы, палимой не напалмом и не атомной бомбой, а жизнью же. Судя по этому роману, написанному, кажется, году в 1953, автор ждал конца света в 1960 году и уже не задумывался, что с ним будет в 1961, если мир все-таки останется на месте. Все мы носим в себе конец света. Смерть и есть для нас этот конец. Судя по тому, что говорила мне Омела об Эльзе, Эльза живет ощущением близости конца, и в 1953 году дать миру и самой себе еще целых семь лет жизни было в ее глазах необыкновенным великодушием… ей всегда казалось, что она не успеет закончить начатую книгу. И всегда ли при этом она думала об атомной войне? Живая женщина и мало-помалу разрушающая ее смерть, смерть-отмирание… нет, мне видятся не жестокие научно-фантастические ужасы, а стыдливый намек на общечеловеческую участь – старость. «Время моей жизни остановится на пороге старости», – писала Эльза в 1943 году[148]. И нельзя не счесть «Коня рыжего» иносказанием, где главная героиня, старость, не названа по имени и появляется мимоходом, но ее присутствие и неотвратимость не дают дышать. Злодеи не расправились с человечеством в 1960 году, но роман и четыре, и пять лет спустя не становится менее страшным. Потому что по-прежнему неотвратима для нас смерть. Побочная тема романа приходит мне на память и проясняет то, что я хочу сказать о самой Эльзе. Героиня-калека рассказывает молодым, которые оказались обреченными на смерть и медленно задыхаются под опустившимся атомным пологом, о том, что она писала, когда обрушилась катастрофа: «это роман, который я так и не напишу и который рассказывает о прошлом…» разговор женщины, умершей в наши дни, с мужчиной будущего, «Шехерезада, одетая землей», из тьмы могилы говорит о нашей жизни. (Как повезло нам обоим: тебе, живущему во времена, не знающие старости, и мне, умершей раньше, чем она пришла…») Побочная тема конца света – это роман самой Эльзы, попытавшейся представить себе предсказанное Апокалипсисом. И если не понять глубинного смысла ее книги, то можно счесть, что она останется актуальной всего лет семь или восемь, пока человечество не покончит с угрозой атомной войны (а оно с ней что-то никак не разделается). Однако сколько иронии в самой позиции Шехерезады, невольно приходит мысль, что автор так ответил на предугаданный упрек: смотрите, героиня умерла прежде – не атомной катастрофы, а прежде чем состарилась, – и обращается к людям будущего, которые не знают старости, – однако историю эту рассказывает женщина, состарившаяся и уже пережившая катастрофу, а значит, эти нестареющие собеседники никогда не родятся на свет. Все это так для меня мучительно… кажется, я сам начинаю умирать… Я уже не слышу Омелу, которая рассуждает о «Душе» и ее побочной теме из Эдгара По, то есть об истории шахматиста из Маельзеля. Я не слышу Омелу, потому что она сливается с Эльзой. И вдруг мелькнувшее подозрение оживает, упреком всплывает «Карнавал».
– Мне хотелось, – говорит Ингеборг, – поздороваться с Эльзой и ее мужем на концерте Рихтера в прошлом году. Помните?..
– Не помню, на каком концерте? – бормочу я со смущенным видом, который выдает меня с головой. – Не помню, чтобы мы были на концерте.
Она рассмеялась. Ну будет вам, будет. Тот, о котором говорится в рассказе Антоана… «Предположим, что»… игра игрой, но иногда, друг мой, вы переходите все границы! Чего это вы не помните, чего не хотите знать?.. Вечера, концерта, встречи или рассказа «Карнавал»? Иногда я так устаю от вас, Альфред, что мне хочется отправить вас куда подальше и остаться с Антоаном, навсегда с одним только Антоаном, с черными глазами Антоана!
Она смеялась, издевалась надо мной. И я окончательно сбился. Я ведь только что подобрал платок, шнурок, в общем, доказательство… Отелло наизнанку: Дездемона смеется, а убит буду я – один из двух, но все равно я. «Карнавал» в руках Омелы – чем не платок в руках Кассио?.. Нет, не так, все не так. Доказательство, что игру веду не я – Антоан обошел меня, и не только в глазах Омелы: я теперь игрушка в его руках…
Что же я такого сказал, что дал почувствовать, если Омела вдруг воскликнула: «Можно подумать, дружок, что вы ревнуете к Антоану! Нет-нет, это было бы невыносимо глупо. Как если бы я из-за ваших рассуждений о романе принялась ревновать вас к Эльзе!»
«Карнавал»… Мурашки по коже, страх, подозрения, головокружение: я предчувствую близость конца, знаю заранее: как только я открою это окно, темная штора свалится на голову. Как же так? Ведь я не давал ей рукописи… Значит, это Антоан… И правда, что ли, я так заигрался, что перешел все границы? Как могло случиться, что Антоан дал Ингеборг «Карнавал», а я ничего не знал? Что за двойная игра с самим собой? Или я потерял представление о том, что делаю, где нахожусь, как тогда в ванне? Я перепутал все, реальность с вымыслом, кровь, проступившая в мозгу, красной ленточкой закладки вдруг остановит течение мыслей, романа, жизни… Кто же из нас обманут: я или другой я, что за комедия… ах, Омела, Омела!..
Напрасно я пытаюсь представить себе, что могло бы произойти, ломаю голову – это невозможно! Черная штора накрыла меня с головой, я ослеп, онемел, не могу пошевельнуться. Больше я не играю! Ни за что! Слишком далеко все зашло. Хватит, мне уже не смешно. Господи, у меня голос Антоана, его прерывистое дыхание, я задыхаюсь, как он. Соплю. Вот и Омела обозналась: «Перестань сопеть, Антоан, когда ты сопишь, я тебя ненавижу». И думаю я отрывочно, как он, пытаюсь отдышаться, обрести себя и тут же снова сам себя теряю. Неужели это я дал Омеле «Карнавал»? С голубыми глазами, с черными, какая разница. Антоан, Альфред… зеркало вертится, вертится так и сяк, но перед ним мечется бедный одинокий жаворонок, слепой, оглушенный, напуганный. А я-то думал… Паяц, валяю дурака и притворяюсь умником. Когда я мог дать ей «Карнавал», я его не давал, ни я, ни мы, играть против самого себя, нет, не укладывается в голове. И даже во сне такого быть не может. Нет, так нечестно, не считается, так не играют. Что же мне теперь делать, как смотреть Омеле в глаза, что она думает обо мне и моих жалких плутнях? Я же не могу ей объяснить, почему хотел утаить от нее «Карнавал», признаться, обокрасть Антоана, убить его, уничтожить раз и навсегда его же, Антоана, руками, как убивают во всех плохих романах, из-за наследства, чтобы обнаружить на странице триста девяносто такой-то спрятанное завещание… но, может быть, убить надо меня, выколоть мои голубые глаза и оставить только Антоана, отвратительного победительного Антоана? Я в тупике, Все предшествующее рассыпается. В этой истории я уже не смогу никому ничего объяснить, правдоподобие исчезло, реализм вышел из берегов, книга выпала у читателя из рук, он поднял глаза к небу, смотрит обезумевшим взглядом и ничего не понимает… Раскалывается голова, идет кругом! А если я из двух человек опять сделаю одного, вернусь назад, соединю другими сторонами, с лица, с изнанки, составлю, противопоставлю… я выбираю, отбираю, выбрасываю – и наконец кругом одни обрывки, кусочков недостает, они не подходят друг к другу, плохо склеиваются, не прилаживаются и не сглаживаются, не лезут – нет, никак… нет, ничего не получается…
Омела, обнажив прием… Что ж, выскажемся до конца. Омела, обнажив прием, обрекла на гибель одного из нас: Антоана или меня. Почему? Не знаю. Может, она сама не понимает. Но Антоана или меня? Додумаем до конца… Я выбирал слишком долго. Выбора больше нет. Омела потребовала. Я умываю руки. Фу, как вульгарно. Во всех убийствах из-за любви убийца перекладывает вину за собственное преступление на ту, кого любит, – это она, она! Она так захотела, что же мне оставалось?! Она, например, рассмеялась или отвернулась, и мне ничего не оставалось, как убить, убить, убить. Отвечает ли человек за то, что сделался топором, топором и только? Зачем та женщина, что держала топор, уронила его по небрежности?..
Зеркало повернулось, окончательно повернулось – и в нем кровь… Сколько бы я ни колебался… как бы ни пытался отогнать, как мух, неотвязные мысли, они возвращаются и роятся вокруг меня. Я переполнен их жужжаньем. Они заслонили от меня все. Я заблудился в этом гудящем лабиринте. Не слышу ничего другого. Глух ко всему, кроме биенья крови, толчков безжалостного сердца. Он или я. Я или Антоан. И в зеркале передо мной – лишь Антоан, невинный Антоан. Жертва. Глупо убийце раскисать перед собственной жертвой. Но жертва так на него похожа – такой же человек, из плоти и из крови… не надо слишком пристально смотреть – не то увидишь собственные глаза, почувствуешь свое дыхание, биение своего сердца. Какой же я трус!
Чтоб найти силу убить – силу руки и силу духа, – что надо сделать? Как нанести удар собственному отражению? Волнуется моя разделенная надвое кровь… Антоан, брат мой, мое подобие… Я боюсь удара, который рассечет нас, словно близнецов, родившихся с одним сердцем, нож вонзается в анастомоз души, больно ли было ногам Петера Шлемиля, когда дьявол отделил от них его собственную тень. Мне нужно восстановить себя против себя другого, озлобиться, напитать свою ненависть, отыскать различия. И мало-помалу, подспудно – слишком живо еще во мне эхо «Карнавала», музыки, не знающей жалости, властные аккорды, жестокая точность Рихтера – мной овладевает мысль: в следующем произведении Антоана найду я оправдание моего поступка, он перестанет быть братоубийством, я окончательно удостоверюсь, что Антоан – совсем не я, что он другой, он – дикий зверь, с которым надо покончить, что в любом случае он мне чужд, да-да, постепенно стал чужим, возможно, потому что писал и жил, все больше отделяясь от меня и обретая собственную личность… он человек другой породы, мы уроженцы двух воюющих стран, и, значит, у меня есть право убить его, больше того, это стало моим долгом, неважно как, не право, а долг, убить свирепо, хмелея от его боли, осыпать яростными ударами, забить, изорвать, уничтожить. Тот, кого я убиваю, должен дорого заплатить за то, что он чужой, иной, чем я, что он уже не я.
Что я говорю? О чем думаю? Где найти прощение или подтверждение? Красное пятно тихонько расплывается во мне: дозревает идея. Третья история. Из красной папки. Она возмутила меня своим вымученным фальшивым ёрничеством и, главное, открыла глаза на то, как далеко развели нас с Антоаном прожитые годы. Итак, «Эдип». Я перечитаю «Эдипа» и найду причину для смертоубийства.
А из соседней комнаты вдруг хлынул поток, дерзким вызовом – звуки электропианино и голос, удивительно напоминающий перезвон хрустальных колокольчиков. Слова:
Куда, куда спешит
Индуска молодая,
Когда луна висит,
Среди мимоз сверкая?..
[149]
исчезают, драма не нуждается в смысле, поет душа, избавившаяся от оков, от стихоплетства, оперы, от Лео Делиба, от всего на свете, звук все выше, выше диапазон женственности, озарение, не нуждающееся в словах торжество гармонии… О, Боже! Поет ли Дездемона или Лакмэ – тебе, тебе одной, Омела, открываются выси, недоступные мне подобным… выси, которых я могу коснуться лишь с твоею помощью.
Третий рассказ из красной папки
Эдип
Die Leiden scheinen so, die Œdipus getragen, als wie ein armer Mann klagt, dasz ihm etwas fehle… Hölderlin[150]
Сделалось прежде, чем было помыслено. Человек погиб до того, как его решили убить. И жизнь убийцы переменилась, все в ней приобрело другой смысл, возникло иное будущее, как будто текст переписали заново.
Зачем идти утром на службу? Чему служат конторские бумаги? Иной стала подоплека каждого шага. Общение с людьми затаило зерно абсурда. В любой фразе мерцал тайный смысл, все они стали маской, напоказ одетым платьем, способом затаиться. Слово утратило присущую ему природу, оно не сообщало, а скрывало.
Некоторые человеческие чувства явно устарели. Конечно, молниеносная смерть появилась не вчера, так же как стремление убийцы замаскироваться. Но что-то в нашей душе уже не соответствует ритму пеших и даже велосипедных прогулок. Привычка завтракать в Нью-Йорке и сейчас же возвращаться обратно отражает современную стремительность ума. При этом главное не скорость, а медлительность, с которой мы осознаем свершившуюся перемену: жизнь уподобилась счетной машине, человек получает готовый результат, прежде чем успевает выписать цифры и подвести черту.
Происходило же все в серо-бежевом городе, куда внезапно нагрянула весна, ошеломляя яркими красками, необъятным небесным сводом, синими тенями на улицах. Одежда показалась лишней, на авансцену вышли женщины, работяги сбросили грубые свитера, и в новой Кане Галилейской множились и множились парочки. Какие только огни не играли в глазах, в витринах, на крышах. Полыхали новые рекламы, бесстыдно ратуя за весну. Все до одного прохожие казались беззаботными туристами. Нет больше смысла таить от вас, что происходило все в Париже.
«И если я, – размышлял новоиспеченный убийца, – сам того не желая, а вернее, не успев пожелать, обмозговать, помучиться, – взял и убил… то, стало быть, это убийство непреднамеренное или вообще не убийство, а несчастный случай. Убийство по оплошности. Но в чем состояла моя оплошность? В том ли, что я зарядил револьвер, или в том, что не поставил его на предохранитель, что вытащил его, грозил им, уперев ствол в область сердца, или в чем-то совсем другом? Разве не должен существовать побудительный мотив для того, чтобы осуществилось преступление? Я ищу его и не нахожу, у меня на него просто не хватило времени. Конечно, постфактум, можно какой-нибудь придумать. Вообразить, нафантазировать. Однако у меня и постфактум не выходит, воображения, видно, маловато, редко, видно, детективы читал. Но главный-то ужас в том, что судьи наверняка до ушей напичканы всякими детективами и побудительные мотивы так и кишат у них в голове».








