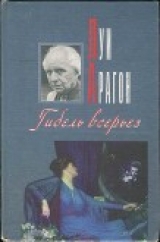
Текст книги "Гибель всерьез"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Я говорил уже, что моя история может показаться неправдоподобной. Раз Антоан не существовал независимо от меня, как он мог беседовать с другими или со мной? Однако это противоречие, это нарушение логики всплыло не сразу. Впервые я обнаружил его, когда был занят трехстворчатым зеркалом, то есть во времена фильма Собачковского, вскоре после Мюнхена, и, поверьте, поначалу не придал особого значения этой аномалии, позволил ей укорениться – возможно, как раз потрясение от событий внешнего мира тому способствовало. Или мне не хотелось вдумываться в несуразицу происходящего… так или иначе, но прошло двадцать шесть лет, было прожито все, что нам выпало с 1934 по 1964 год, и только тогда я окончательно осознал: игра перестала быть игрой и вышла из-под моего контроля. Это случилось, когда я очутился перед необъяснимым фактом, что свидетельствовало о двуличии Антоана… но что я такое говорю? Разве это не я веду двойную игру с самим собой? Нет-нет. Для того чтобы Омела прочитала без моего ведома вторую историю из красной папки, Антоан должен был жить своей, независимой и неведомой мне жизнью. Это меня и ужаснуло, и породило во мне безумное желание покончить с Антоаном, убить его.
Но с той минуты, как Антоан стал существовать сам по себе, покончить с ним уже значило не просто прекратить игру, затеянную когда-то с Омелой, а уничтожить живое существо, осуществить настоящее, хотя непостижимое убийство, пролить кровь. Не смейтесь надо мной. Я не Эдип с улицы Мартир… я никого не убивал, даже мысленно, как многим случается в гневе, – никогда! Я не мистер Хайд, и если с большой натяжкой мог вообразить себя Яго, то вовсе не потому, что поступал, как он. Убить. Физически убить, вы можете себе это представить? Конечно, бывает, во сне… но кто отвечает за свои сны?!
Мне никогда не казалась забавной, скорее смущала, манера некоторых писателей говорить о своих героях, как о живых людях, называть их по именам в разговоре с вами или со мной, пользуясь настоящим временем. Меня коробила их уверенность в том, что ими произведены на свет полноценные существа, которые живут теперь своей жизнью вне книги, обладая полнотой реальности для всех нас. Но если мой собственный герой сбежал от меня без моего ведома, можно ли предоставить ему свободу действий, позволить жить своей собственной жизнью среди людей? И ответствен ли я за его поведение? Родители по плоти, когда их дитя утратит разум или совершит преступление, вправе скорбеть и только – от их воли не зависело, каким он будет. Я же по-иному ответственен за Антоана. Что бы ни случилось, я не могу препоручить его врачу или суду. Я обязан предотвратить любое несчастье и неожиданность. Непредсказуемый Антоан может сделать что угодно. Мой долг не допустить этого, средства выбирать не приходится.
Но одно дело – творить в воображении, и другое – уничтожить рожденное воображением творение. Даже так, как это обычно делается в книгах. Если развитие романа требовало уничтожить героя, которого я же выдумал, отнять подаренную ему жизнь, это всегда казалась мне сродни убийству. Реалистичность – сомнительное основание, чтобы укорачивать жизнь детищу моего разума. В жизни-де люди умирают… Странно, почему писатели никогда не пытались бунтовать против закона природы и не дарили бессмертия тем, кого произвели на свет? Мы должны были бы творить только богов. Не возражайте мне. Все это я знаю и без вас. И сам могу сказать вам то же самое. Что ж, вызывайте к жизни, скажем, рабочих, и пусть они у вас падают с лесов на стройках и задыхаются в шахтах! Писатель беспрепятственнее других наслаждается человекоубийством. Чего ему, собственно, опасаться? Гёте не обвинили в убийстве Вертера, не отдали под суд и Стендаля из-за Жюльена Сореля. Кто, кроме писателя-убийцы, пользуется безнаказанностью? Никто не поставит ему в вину удовольствие, с каким он убивает, смакование убийства, наслаждение подробностями агонии. У меня же, если я убью Антоана, хотя бы будут смягчающие обстоятельства: ведь это, бесспорно, будет убийство на почве любви.
Ничего бы не было, ничего не объяснить без Омелы. Так что если я убиваю Антоана, то не я один ответственен за его жизнь. И за его смерть.
* * *
Если написанное мной останется на бумаге, если не вымараю, не порву и не сожгу этой моей исповеди, я бы хотел, чтобы она сыграла роль не обличения, а оправдания. Все в ней должно быть ясно и однозначно. Если я и убивал Антоана – когда я его уже убью, – то меня никак нельзя считать убийцей. Как это? Ваш вопрос – лучшее доказательство: вы не до конца поняли, о чем я говорю, я оставил множество темных мест, напустил тумана…
Ну так вот. Я не могу быть убийцей, потому что Антоана не существует. И никогда не существовало. Теперь выражаюсь ясно? Он реален только на словах. Слышите? Я говорю: «убить его», но это значит уничтожить слова, стереть написанное, исправить текст, и ничего больше. Какое же это убийство, если вычеркиваешь героя из романа или пьесы? Я знавал людей, для которых подобное изъятие было своего рода дипломатической процедурой, им не хотелось расставаться с эпизодом, запечатленным на фотографии, документ свидетельствовал об определенном факте, и они не хотели лишать себя свидетельства, однако сбоку или сзади улыбался тот, кто теперь стал врагом. Разве можно оставлять его в ряду других лиц, которые пока еще в чести? В фотографии то, чем в литературе занимается редактор и корректор (современные чудовища, обрушивающиеся на голову писателя и норовящие отхватить куски там и тут, – они бы и эту скобку охотно истребили), делает ретушер: словечко, надо признать, весьма деликатное, хоть и отдающее лицемерием. Так вот, ретушер и убирает того человека, чье присутствие стало для вас стеснительным, подчищает историю, выметает сорные секунды из вашей жизни, этакий пылесос, всасывающий все оказавшееся лишним. Еще недавно, когда техника не было столь совершенной, на месте нежеланного оставалось нечто вроде ауры, намек, наводящий на мысль о призраке. Но в наши дни техника выше всяческих похвал, и я уже видел фотоснимки, на которых если переделка и заметна, то уж никак не по вине ретушера: как красиво он восстановил задний план, как умело придал фактуре зернистость, порой ему даже удается продолжить руку или спинку стула… не его вина, если нарушилось равновесие (целое его не касается, ему доверили крамольный уголок, ведь и хирург, избавляющий вас от бородавки на лице, не обязан заодно выпрямлять ваш курносый нос). А если этот дисбаланс не дает вам покоя? Что ж, дело ваше. Все бывает. Ретушер, выполняющий такое задание, напоминает скорее палача, чем убийцу. И то лишь в переносном смысле. В литературе та же работа производится даже не с материальным документом, а с материей воображаемой; предположим, Флобера перестал бы устраивать мужа в «Воспитании чувств», и он бы убрал его, кто же стал бы всерьез его обвинять! Помилуйте! Предположим, что мы нашли бы первую редакцию, то есть ту, которую знаем, – мы можем обсуждать мастерство и уместность ретуши, но не сочтем же Гюстава убийцей. Или хотя бы фальсификатором.
В моем случае все было бы еще проще. Все, что говорит и делает Антоан, я стал бы говорить и делать сам, ходил бы и на собрания, и на съезды являлся, почему бы и нет? Вы думаете, я стану темным пятном на фотографиях, не впишусь в групповые снимки? Ну, это уж прямое оскорбление.
Итак, Антоана нет, запомните хорошенько. Моя непоследовательность виной всем несуразностям истории, которую вы только что прочитали. Писательские огрехи, и ничего более. Несуразности. Вы же простили Антоану, то есть мне, что, запамятовав, мы спутали один эльзасский городок с другим. Моя вина, каюсь, в том, что я слишком серьезно отнесся к разным сторонам своей персоны и создал целых двух героев из одного себя, что, собственно, свойственно всем писателям. И теперешняя моя ретушь лишь говорит об искреннем желании избавить читателя от заблуждения, в котором сам я поначалу не видел никакого зла. Так что кончено: Антоана нет и никогда не было.
Исчезновение его улаживает, заметьте, и все, что связано с ревностью. Невозможно ревновать к тому, чего нет. Хм… да, конечно, но все-таки… Я уже заметил, что ревность для вас – что-то весьма отвлеченное. Но, ревнуя, ревнуешь к призракам, снам, молчанию, и, может быть, утверждение «Антоана не существует» – только способ не слишком ревновать. Стоп – если вам показалось, что последней фразой я возвращаюсь вспять, вы ошибаетесь. Антоана нет, и точка.
Его нет. Разве он заслоняет отражение, становясь между вами и зеркалом? Нет, он в нем не отражается. Он потому и не видит себя, что просто не существует. Как вы вообще могли поверить в такие вещи, допустить хоть на минуту, что Антоан действительно есть? Я из кожи вон лезу, доказывая, что я писатель-реалист, а значит, как бы мы ни истолковывали моего героя, но если он не отражается в зеркале, то как он может существовать в реальности?
Однако я должен сказать, что с точки зрения реализма в уничтожении Антоана, пусть на словесном уровне, есть некоторая некорректность. Я не о том, что уничтожить то, чего нет… не в этом дело. А в том, что с точки зрения современного реализма я лишаю роман положительного героя. Потому что сам я на эту роль претендовать не могу. Моим положительным героем был Антоан. А как же без положительного героя? Как будто выходишь на публику голым. И как раз тогда, когда я справился с иллюзорностью моей истории и вернул ее… куда? – в берега, в бережки, в русло традиционного реализма, самого что ни на есть стандартного, похожего на добротное готовое платье. И тут – на тебе: остался без Положительного Героя. Речь идет, заметьте, уже не о том, что без берегов, бережков и порожков, а о том, что без П. Г. – вот о чем! И невольно приходит в голову следующее умозаключение: Антоан не существует именно потому, что он герой положительный; или даже еще похлеще: доказательством его несуществования является то, что, если бы он существовал, он был бы положительным героем. Ну и ну. Видали, что получилось. Жуть.
Дело в том, что моя книга – роман о реализме. Современном, разумеется. Его трудностях, противоречиях, проблемах. Неужели не заметили? Но, конечно, и о ревности тоже. О многообразии человеческой личности. Да, безусловно. Но в первую очередь, в самую первую. По крайней мере, вот на этой странице. Роман о реализме, повторяю вам. В котором, может быть, Положительный Герой и есть сам реализм? Ах, дети мои, оставьте меня в покое с вашим П. Г.! Ответьте лучше – так или нет: главное, определяющее в реализме – современность? Современность. Стало быть, герой должен быть сразу и современным, и положительным, но кто не знает, что роман, совершенно реалистический сегодня, спустя полгода перестанет быть реалистическим, потому что все считавшееся положительным на прошлой неделе, как для героя, так и для его сограждан, перестало быть таковым в связи с кризисом министерского кабинета? Если не реализм, то реальность уж и впрямь без берегов. В наши-то дни. Но и она может войти в русло, заметьте себе это. И значит, реализм, чтобы соответствовать предъявляемым ему требованиям, должен опираться не на современную реальность, а на реальность будущего и должен быть, воспользуемся новым термином, реализмом гадательным. Я не против. Надо только настроить инструмент.
Антоана, стало быть, нет. Ну а я? Я-то есть, но хоть буду кричать во весь голос, кого и в чем это убедит? Вы написали роман, скажут мне, о человеке, которого нет, и претендуете название реалиста? Меня осудят. А если вы не хотите осуждения, то поступайте, как поступают все: не пишите книг, не пишите! Если не писать, то все ваши глупости исчезнут бесследно, а если однажды их выскажет вслух какой-нибудь одержимый, то вы с полным правом опрокинете из окна ему на голову ночной горшок с актуальнейшим содержимым.
Успокойся, дружок, успокойся. Для убийства необходимо спокойствие. Чтоб без всякого шутовства. Убить хладнокровненько. Точно вовремя. Проверив, на который там час назначена потом деловая встреча – не опоздать бы! Придете, вас спросят, из чистой учтивости: ну, что поделывали в последнее время? Да так… ничего… обычная круговерть… жизнь как жизнь… смерть как смерть…
Главная беда современного реализма не в том, что созданные им правила слишком абсурдны, а в том, что они вообще ни к чему не применимы. И стало быть, нельзя говорить и о том, что реализм, осознав несостоятельность своих правил, будет реалистичен по-другому, как когда-то классическая трагедия, отказавшись от трех единств, превратилась в романтическую драму. Подобный механизм смены литературных школ действовал в те времена, когда человек уже изобрел тачку, но еще не ведал, что теория относительности Эйнштейна – старый хлам. Основной трудностью для реализма по мере его развития сделалось то, что для применения его правил романисту нужно было ломать не голову, а весь мир. И еще одна особенность: люди, пожелавшие сломать этот мир, сочли, что начать эту операцию должны писатели. Не правда ли, напоминает теорию «малых дел», которую первым раскритиковал Антон Чехов, не читавший Ленина. В наши времена, вопреки нажитому опыту, по всей земле ставят плуг впереди вола. Если бы писатели упрекали политических деятелей за то, что они не сумели наладить производство хороших людей, которые нужны им как образчики для положительных героев, упрек был бы справедлив: художники школы Давида тоже нуждались в атлетически сложенных натурщиках античных пропорций. Но все происходит наоборот, и политики упрекают писателей в том, что они не поставляют народу пригодных для подражания героев. Вам не кажется, что мир перевернулся вверх ногами?
Все это… однако о чем я? То и дело сбиваюсь с пути. И ведь все притянуто за уши. А думаю я о другом. Потому и болтаю о чем ни попадя, только бы отвлечься от того, что гложет. Заслоняюсь словами. Себе и вам морочу голову. А что разыгрывается у меня в душе, вам никогда не узнать. Не узнать, что меня удушает. Немого, сокровенного романа – не узнать. Его страницы для вас закрыты. Вам кажется, что я всерьез выкладываю вам все тайны? Отнюдь… Роман столь долгий и банальный. В нем безнадежность. Безнадежность целой жизни. Беззвучный плач. И сухие слезы. Не жизнь, а каторга! И, словно цепь, за мною, как ни оглянусь, все тащится слепая тьма. Ей нет конца, и не измерит память немой и черный океан тоски… ни звука в бездне… и только судорогой горло, а крика нет… тьма подступает из глубин, пытаюсь отодвинуть – тщетно, с неумолимостью прилива она все ближе подползает…
Что же мне остается – я притворяюсь, я улыбаюсь, глотая горечь, все пишу, пишу рассказываю истории; я не падаю на колени – не у кого вымолить пощады, некого в бешенстве схватить за плечи, трясти и требовать ответа, никто не чувствует, как колотит меня лихорадка, никто не вытрет пену с губ, нет никого, кто понял бы, кто догадался, кто разделил мою тоску, мою усталость, – никого-никого, я один, да, один, что толку кричать? зачем? кому? для чего? я один, и нет никого, нет и не было, ни нынче, ни прежде, я один на один с собственной опостылевшей рожей, и все это так давно уже тянется, обманываться больше нет сил, бросьте, терпеть не могу утешения, – так было всегда: десять лет и двадцать тому назад, не могу уже сосчитать, не хватает пальцев, чтобы их загибать, мало рук, чтоб заламывать, и одна голова, чтобы биться… биться, биться и биться, пока не разломится, я – мука мольбы, невыплаканное рыдание, задушенный стон, неосознанное страдание, ставень, скрипящий на петлях там, где и окна не проделали, я боль, которая устала лгать сама себе вместо аспирина, я бездомный пес под дождем, я ложе без сна, вино без хмеля, голос без слуха, время без часов, лицо без выражения, затянувшаяся, как агония, бесконечная пытка, – так день за днем опираешься на костыль, а он врезается в рану под мышкой, ковыляешь с половицы на половицу, и каждый шаг отдается болью в самое сердце, а ты все шагаешь…
* * *
Больше не могу, я убью тебя, Антоан. А потом будь что будет. Я убью тебя. Пусть что-нибудь переменится. Я жду убийства, как порою ждут ливня. Ждут, чтоб он хлынул, и боятся, как бы ветер не пронес тучу мимо. Дождь – облегчение в зной. И пусть он идет, долгий, обильный, барабаня по стеклам и крыше, ниже, еще ниже, совсем близко, брызгая грязью. Да хлынь же, ливень – изнемогаю. Слышишь мои шаги на пустом чердаке? Что же медлит Господь – как скупой фармацевт, отмеривает капли.
Антоан, я убью тебя, и кончится наша с Омелой игра в любовь, у меня нет больше сил, пусть скажет прямо: карты на стол. Я столько боялся все потерять, что теперь терять-то и нечего – гори все огнем! Посмотри на меня: меня можно еще любить? Ответ на этот вопрос запоздал. Никогда в жизни я не был любимым, никогда. Молчи. Ты же знаешь сам. Тебя тоже не любили. Почему же я ревновал? Потому что она придумала игру, будто любит тебя. Разнообразия ради. Порой мне кажется, что Омела не любила вообще никого и никогда. Это было бы утешительно. Что с тобой, ты вдруг засопел? Забыл, как это раздражает Омелу, она ненавидит твое сопенье.
Антоан, я убью тебя. Чтобы проверить: огорчится ли она на самом деле… По-твоему – да? Слова от тебя не дождешься сегодня. Я спрашиваю тебя. Антоан нем, потому что его нет. Иди-ка, пройдись. Вернешься – тогда я тебя и прикончу. Антоан надевает шляпу, которую носит с недавних пор, – от самого Диора. И бросает в дверях: «До скорого, Яго!» Что за шутки! Его же нет!
Омеле нездоровится. Последние несколько месяцев это не редкость. Я не знаю, что с ней. Может, действует погода. Или я ее утомляю. В такие дни она не поет. Не зовет и Антоана, и, может быть, тем легче будет от него избавиться. У нее свои заботы. Она сетует на возраст, не замечая моего недоумения. Как будто Омела может состариться. Как будто все, что способно похитить время, оно крадет не у меня, не у меня одного. Она никогда не упоминает о том, какие плачевные перемены произошли с моим лицом, – словно не замечает. Не то безразличие, не то сострадание. Но однажды я застал ее за разглядыванием старых фотографий. И я заподозрил, что она придумала Антоана, чтобы не видеть меня, и в нем любит мою молодость. Или, может быть, просто молодость. А я, даже переменив прическу и сделав черными глаза (теперь люди красят волосы, чтобы казаться моложе, но зачастую видны лишь их упорные усилия), играя Антоана, не могу скрыть – разница между актером и исполняемой ролью все незначительней, – что я и он, мы все ближе друг другу. Что случится, если однажды мы с ним станем близнецами и нас можно будет перепутать, если игра прекратится сама собой, если я не смогу больше быть Антоаном… и может быть, насилие ни к чему, может, вместо того чтобы быть уничтоженным, он останется между нами воспоминанием. В конце концов не только другие должны понять, что Антоана нет, что он не живет отдельной жизнью, но и я сам, то есть мы. Ведь странным образом «я» – это «мы», поскольку я поверил в Антоана, в его объективное существование. И, хотя это чисто субъективное ощущение, меня пугает отделение. И я обязан убить Антоана. Даже зная, что Омела любит его, а не меня. Идя на риск неопробованной операции, эксперимент in vivo[164], который бросает хирурга в дрожь. Но хирург оперирует другого, а не себя. А тут все выглядит так, будто я ревную, как маньяк, да не к кому-нибудь, а к собственному сердцу, и хочу быть любимым без него, точнее, попробовать, что получится, и потому иду ва-банк: удалить сердце, расстаться с ним, зачеркнуть идеал, несовместимый с тем, кем я стал: но можно ль без сердца жить? Что ж, поглядим… поглядим… Впрочем, все это лишь метафора. Антоана на свете нет, если я говорю, что убью Антоана, это всего лишь словесный оборот, я хочу одного: прекратить игру, от которой схожу с ума. А главное – остановить Омелу. Даже рискуя ее потерять. Потому что я дошел до точки, все для меня перепуталось, и реальность, в которой вы живете, мне уже кажется игрой. Я должен сделать рывок на себя… Изменить положение…
Омела…
Не могу заговорить с Омелой… Из дому вышел под нежданное осеннее солнышко. Сиреневый Париж расцветился рыжими веснушками. Суббота шуршала машинами, словно вслед за рассеявшимся туманом весь город решил расползтись по полям и дорогам на уик-энд. Я ехал на своей, не упорядочив еще ни мыслей, ни намерений. Свернул наугад вправо, а дальше – куда глаза глядят, я думал, перебирая Париж, словно четки… Швейцарский рынок, скверы у Эйфелевой башни – поглядев на нее, я прикинул, откуда падали в эти дни самоубийцы, – Сена, Елисейские поля, оттуда вверх, по набережной правого берега… где же все-таки, думал я, поссорились Эдип с Лаем? Машину я вел, как двадцатилетний безумец. Признаюсь, мне хотелось попасть в катастрофу. Нет, я не искал ее. И даже постарался бы избежать, но если бы вдруг… Я был бы рад несчастному случаю. Что может быть лучше в мои-то годы, с моими морщинами, сердцем, слабостью, провалами памяти, забывчивостью, оговорками… Я давно уже не то, чем привык себя считать. Все, кто ругает меня, правы. Вот и сегодня в одной газете опять писали… пусть, я согласен. Наверное, такой я и есть, убедили… Не могу я быть правым, если все думают иначе. Впрочем, какое тут «право»? Если бы меня любили, говорили бы иначе… в этом все дело, остальное вздор. Важно одно: чтоб тебя любили. А этого нет, что бы мне ни твердили. Уж это я знаю. И не со вчерашнего дня. Знаю всю жизнь. Может, кому-то, чтоб убедиться, надо застукать свою жену с другим в постели. А по мне – не в этом дело. В постели с другим – не такая беда, это еще ничего не значит: может, все это просто так: ошибка, затмение, недоразумение – мало ли… Хуже, когда знаешь наверняка – как знаю я. И не со вчерашнего дня. Всю жизнь знаю. При таком раскладе, что ни придумай, что ни скажи – непоправимого не поправишь. Поправимо то, что здесь и сейчас. А прошлое… Прошлое необратимо, оно навеки пребудет в нас.
Я притормозил перед особняком Масийон[165]. Летом его почистили. Чумазые тени на стенах исчезли, отчетливо проступили детали. Он похож на осень, золотую с багряным, лепные плоды, корзины, гирлянды. Забавно – со мной то же самое. Никогда раньше я не различал в себе так отчетливо копошение множества вещей, не ощущал полноту бытия и плодоносную силу. Будто очистили от грязи глаза души, сняли копоть, потертости лет. Я пишу и не знаю, может, мои бесконечные бури будут в тягость читателю? Он и знать не знает, что связывает меня со старинным зданием в уютном уголке Парижа в осеннее время года, что так похоже на меня, потому что я – дитя осени. А эта связь незамысловата: я – родня достойного прелата, потомок его старшего брата, Жозефа. Масийон для нас младший. Мне всегда казалось необыкновенно странным это родство. Когда я сообщил о нем людям читающим, они, подумав, говорили: слушай, а твоя проза… в общем, выходило, что в моей прозе есть что-то от «Малого поста». В письмах госпожи де Шатобриан, да-да, жены Рене, есть рассказ об одном дне, проведенном в Ла Сеин, неподалеку от Тулона, куда ее отправили в начале марта 1826 года лечиться от туберкулеза. Не знаю, кто привел ее в это семейство, так нуждавшееся в сочувствии: «… Они из тех самых Масийонов, – пишет она министру Клозелю де Кусергу, – но живут в такой бедности, что мадам Масийон не выходит из дома, не имея порядочного платья. Семья состоит из отца, матери и двух мальчиков. В прошлом июле господин кардинал Клермон-Тоннерский писал господину ректору Университета, прося для младшего место в коллеже. Просьба осталась без ответа: несчастное дитя по-прежнему на иждивении родителей; природный ум его виден сразу, однако мальчик лишен какого бы то ни было образования. Старший, ему около двадцати, за которого прошу и я, хотел бы получить место на таможне или на почте…» Так вот, старший – его звали Франсуа, – благодаря хлопотам этой милой дамы, был назначен писцом в морское министерство и, несмотря на недостаточность образования, стал помощником чиновника с тремя нашивками (как о том сообщает Пелес, издатель писем госпожи де Шатобриан Клозелю де Кусергу), умер он в 1885 году. Я бы мог добавить, что он участвовал в опиумной войне в Китае, откуда и привез три красных сундука с черными и желтыми накладками, – те самые, что и посейчас стоят у меня в кабинете, а потом служил начальником порта в Тулоне. Он и был моим прадедом. Все это мало относится к делу, но как спустя сто тридцать девять лет после визита Селесты Бюиссон де ла Винь, виконтессы де Шатобриан, любуясь роскошью особняка Масийон, не вспомнить о моих предках, которые когда-то так страшно бедствовали, и было это в тех самых местах, где моя мать, будучи беременной, прятала позор в имении друзей своей бабушки среди пробковых дубов и тамарисков. История близится к концу, мамочка. Сумерки. Осенью рано темнеет. Дорога назад, на левый берег, проходит мимо бывшего городского морга, теперь вместо него сквер и играют дети. Пошлю-ка я Омеле цветы. Одно из величайших достижений двадцатого века: цветы в ноябре, и не обязательно хризантемы. Для нас обоих ноябрь кое-что значит. Для меня особенно. Обхожу цветочниц. У первой, словно нарочно, в опровержение моих слов, одни хризантемы; правда, теперь разводят белые, на прежние хризантемы и не похожи, изящные, как до неузнаваемости похудевшие женщины. Добавьте желтых, предлагает хозяйка, вот этих, попышнее. Нет, спасибо. Трудно уйти из цветочного магазина с пустыми руками. А у всех остальных – розы. За последние два дня Ингеборг получила столько роз, что не знает, куда их ставить. И фиалок тоже. Гладиолусов я не люблю. Белую сирень можно набрать, переходя из лавочки в лавочку, в каждой стоит несколько веток, а мне, если уж покупать сирень, нужен целый лес. Каждая продавщица, увидев, что я ухожу, ничего не купив, указывает на азалии. Поглядите: горшочек обернут серебряной бумагой, на другом – зеленая лента, похожая на орденскую. Но кустики малокровные – впору только кисейным барышням дарить. А я уж если б и взял горшок, то такой, что втроем не донесешь. Хризантемы и снова розы… Небось прежде-то осенью – шиш что найдешь, урезонивает меня старичок, продавец цветов в фиолетовом фартуке, а теперь выбирайте, пожалуйста, цветы без перебою, разборчивы больно. Какие угодно – в любое время года. Вон, гладиолусы, раньше уж и в октябре-то днем с огнем, а тут вот они, да какие красавцы! Не любите? Я же сказал, что нет. Хотя не ему, а другому… Наконец на улице Бак я присмотрел агаву с длинными оливково-желтыми листьями, похожими на чехлы от зонтиков, а в середине – огромный цветок, точь-в-точь артишок из марципана, и под чешуйками крошечные голубые и красные бутоны. Самый грустный в мире цветок. Вот кто похож на меня. Я спросил: это агава? – а мне в ответ: да вы смеетесь?! Тогда что же? Продавщица произнесла что-то вроде «бильбергия»… Или «бамбергия». Как-как? Уж не от Бамберга ли название, этот город упоминается в «Страстной неделе» и в «Инспекторе развалин»? Я написал несколько слов на карточке, имя госпожи д’Эшер довело цветочницу чуть ли не до припадка. Она пожелала, чтобы я подписался на клочке мокрой бумаги, надеясь, что я ношу имя певицы, но, увидев мое, застыла в растерянности. Осведомилась, не сегодня ли день святой Ингеборг. Я ответил: «да», – к чему озадачивать юные души. Потом передумал отправлять на дом и взял с собою мою агаву.
Совсем стемнело. На террасы кафе набились парни в кожаных куртках и штанах, девчонки с прямыми волосами, студенты-негры, парочки, изнемогающие от лирических чувств, шоферы грузовиков, явно не парижане. Я шел и глядел, в обнимку с цветочным горшком, – шел и глядел во все глаза, будто видел в первый и последний раз в жизни. Игровые автоматы чихали, мигали, сияли – индейцы-ковбои, колорадские шашки, турнир по боксу. Я остановился посмотреть, как белобрысый до ужаса паренек палил по драконам, бабах! бабах! – как попадет – вместо дракона – красотка-японка. Только госпоже Шатобриан я обязан тем, что гуляю здесь, что чуть более образован, любуюсь на пеструю толпу и не замерзаю.
Вот я и дома, в квартире темно и тихо. Не зажигая света, я пошел по длинному коридору, по ковровой дорожке, как по песку. Под дверью Омелы светилась полоска. Я не остановился, пошел сполоснуть руки. В кухне тоже темно, ну да, суббота, наша испанка уехала в Версаль, в интернат за своими двумя детишками. Пришлось поместить их туда из-за каких-то семейных неурядиц. На выходные она их забирает. Мы ее отпускаем в пять. Скоро будем ужинать на кухне остатками завтрака. Мне это нравится. Проходная комнатушка. Крохотная, почти квадратная, сюда выходит ванная, и слева спальня Омелы. Раньше тут было что-то вроде прихожей с дверью на черную лестницу, но мы загородили дверь английским мужским туалетным столиком: большое зеркало и под ним два ящика (один для трусов и платков, другой для носков). Наших носков, и наших платков – снова прилив безумия, нет, сказку про Антоана пора кончать. Я зажег свет, поставил цветок на чугунный табурет и отправился в ванную вымыть руки. Вода чуть теплая, вечно у нас нелады с водопроводом. Посмотрелся в зеркало: никакого сомнения – голубые, хоть и со скидкой на годы, но все-таки. Вернулся, взял цветок. Прихватил носовой платок из ящика. И толкнул дверь в спальню – темно, свет из передней квадратом лег на постель, скользнув по стулу в изножье с моей стороны, и тут же на белые дверцы стенного шкафа между окнами метнулась его тень, очень похожая на гильотину. Спальня описана в «Эхо»: светлые деревянные панели, панно, потолок, затянутый серой с белым тканью… Голос Омелы из кабинета: «Это ты?» Я ответил: «Это я…» – и чуть защемило сердце от двусмысленности…
– Ты напугал меня, – сказала Омела. – А что это за цветок? Красивый… – Она встала с красного кресла и стала искать для моего цветка синее с желтым кашпо в стиле Наполеона III. Я ходил за ней следом: «Напугал тебя? А кого ты думала увидеть?» – Никого… но квартира такая большая, пустая, и когда нет Соледад… – Мы вернулись к ней в кабинет. Цветок красивый, но очень грустный, совсем, как я. Называется бамбергия (я так решил). Как, как? Бамбергия от Бамберга: помнишь, ложа для иностранцев, гостиница, номер Антонена Блонда, дверь в глубине открывается прямо в театр… и на сцене – ты, поешь в «Дон Жуане» арию донны Анны… Послушай, Омела…
– Ты ушел и бросил меня, – сказала она, – но у меня была гостья.
Оказывается, Эльза Триоле ушла от нее часа три назад. Принесла рукопись нового романа. Я увидел, что чтение уже далеко продвинулось. И о чем же роман?








