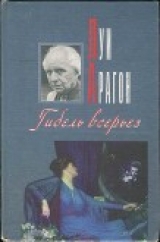
Текст книги "Гибель всерьез"
Автор книги: Луи Арагон
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
А я бы хотел, широко раскрыв глаза во тьме, восстановить не только спальню, невидимую спальню, в которой мы лежим, но и все за ее пределами, и все, что было с нами, все, что мы чувствовали, включая и усталость. Такую, как в тот самый день прошлым летом в зеленом городке – помнишь, мы заблудились и поспорили, куда идти, шли-шли и думали, что вот сейчас, за следующим перекрестком увидим знакомую улицу, аллею, дом или что-нибудь еще, но оказывалось, что мы ошиблись, – ну, значит, дальше, за следующим углом… и наконец у тебя заболели ноги, а у меня стало сдавать сердце; пустынный, усаженный большими деревьями город, утопающие в зелени дома, вывезенные из тропиков магнолии… и ни одного автомобиля, ни одной живой души, а указатели, изредка попадавшиеся нам на пути, указывали дорогу вразнобой; мы бродили, как в дурном сне, то обретая, то теряя надежду выбраться на правильный путь; сам не знаю почему, я все ждал, что мы набредем на железную дорогу, найдем вокзал… но вместо этого тянулись сады, дома, крашеные ограды… вдруг ты пошатнулась… у меня чуть не вырвался крик, но я не посмел, сдержал его, запрятал в глубь себя и долго хранил: когда мы все-таки нашли дорогу, автобус, гостиницу, поужинали… легли в постель… хранил весь вечер и всю ночь, пока ты спала, и еще много дней и ночей… привез его домой, он и сейчас во мне, он – как большая птица с твердым клювом: порою вдруг забьет крыльями, сотрясая мне грудь, толчки отдаются в руках, до самых кончиков пальцев, я точно клетка, в которой бьется этот крик… вот и сейчас, когда я говорю, а ты, моя Эхо, не слышишь, он просыпается во мне, неистово трепещет, подступает к горлу, рвется наружу, хочет разогнать тьму.
Но ты сказала это свое «обними меня» чуть слышным, скользящим прямо в душу голосом, и крик устыдился, свернулся, затих до следующего раза. Ты проснулась? Или эти слова доверчиво и привычно, как каждую ночь, сами слетели с твоих губ? Ты тянешься ко мне, как к свету, значит, я должен быть таким же молодым и сильным, как когда-то, чтобы вынести тебя из тьмы, – ты веришь, что так оно и есть, спишь и не видишь моих распахнутых глаз, со страхом впивающихся в ночь.
Я ли это? Этот статный молодой мужчина, с удивлением ощупывающий свое обнаженное тело: литая грудь, тугие мускулы – послушай, сколько тебе лет, приятель? Лет тридцать с небольшим. Как мне, когда я повстречался с Эхо. В то время я старался сжечь себя дотла и поэффектнее, как, бывает, расшевеливаешь палкой или сапогом тлеющие головешки, чтобы они брызнули напоследок фонтаном искр. А разве теперь со мной творится не то же самое? Так может, все, что было за это время, сколько там: три недели, три часа или тридцать лет – мне просто пригрезилось? Мы с тобою и весь мир – все было только долгим сном? И вот я вернулся в наши первые дни, когда еще не называл тебя Эхо, ты спишь со мною рядом, ничего не зная об этом путешествии туда и обратно сквозь множество лет… мы вместе всего несколько дней, остальное – вереница снов, пронесшаяся передо мной, как перед умирающим проносится в обратном порядке вся жизнь… сегодня наша первая ночь, и в первый раз, проснувшись, я вижу тебя, спящую рядом. Это я, долговязый, тощий и порывистый, мое юное буйство присмирело в твоих объятиях, я вдруг обрел судьбу, которая пришлась мне как по мерке, – впервые я проснулся среди ночи, охваченный дрожью от твоей близости и окруженный зыбким миром тьмы. Ты здесь, я слышу, как ты дышишь. Но, может быть, я все-таки не тот? Из каких времен выхвачен этот миг нашей любви? Достаточно подменить в темноте какую-нибудь мелочь, и вся, с таким трудом построенная декорация нашего прошлого рухнет: вдруг обнаружится на стуле шуршащее длинное платье, лиловое, с широкими разрезанными рукавами, как на картинах Ватто, изображающих господ и дам, что медленно и грациозно гуляют в парке… и к этому шелковому наряду придется все подстраивать заново – самих себя, свои мысли, все-все, что происходит в той жизни, пока еще окутанной предрассветной дымкой…
Я просыпаюсь, и в пору спросить окружающий мир: который нынче год?
Глаза мои не видят в темноте, но мне не нужно света, чтобы узнать себя, лежащего на смятых простынях здесь, в спальне. Я знаю, сколько мне лет и много ли во мне силы. Это мои крепкие руки, мое дыхание. Глаза у меня голубые – нет нужды заглядывать в зеркало. Почти что синие. Кожа словно подсвечена изнутри пурпуром. А волосы светлые.
Ты спишь и потому не можешь возразить. Да, светлые. Какие и должны быть у немца. Длинные и непослушные, так что приходится все время отбрасывать их рукой со лба. Узкие, длинные, бескровные губы, а в улыбке обнажаются яркие десны и мелкие, острые, как у волчонка, зубы… и все-таки ты любишь мою улыбку, Эхо. Я сел в постели, откинув простыни, рассыпались светлые волосы – ты одна видишь меня простоволосым, – сел и замер, будто дерево, ушедшее корнями в землю, прислушиваясь к тиши, к сонной тишине твоего сна… коснусь ли неловкими мужскими пальцами твоей нежной спины – и они прирастут… это ты, ты рядом, моя королева. Обычно днем мне не сидится на месте, и тебя это так раздражает: брожу по комнатам, по залам, как неприкаянный, вокруг струится светская беседа, а я мечусь, как зверь по клетке, и наконец забиваюсь в библиотеку, снимаю с полки первую попавшуюся книгу, вцепляюсь в нее, как тот же пленный зверь в решетку, и сквозь страницы гляжу на волю, туда, за дворцовые стены. И никто, даже ты, моя Эхо, не знает, что эта лихорадочная беготня – разрядка после каменной неподвижности ночи, ибо каждая моя ночь – бессонная пауза, когда вся жизнь держится твоим легчайшим дыханием, еле слышным биением твоего сердца, таким тихим, что хочется остановить свое, чтобы его стук не заглушал этих далеких ударов. Холодная, чужая, северная ночь, темная, словно хлев, в котором ворочается и стонет скот, а я подобен одинокому аисту на колокольне, я распластан, как ломтик лосося на огромном «сморренброде»[59].
Мы в сердце Дании, и наша тайна скрыта в гуще островов, где парусники легкими ночными мотыльками порхают по узким протокам, а шпили дворцов и замков пронзают кровавую толщу веков, вторжений, переселений, походов и подвигов. Ничто не подточит стену молчанья вокруг наших тайных свиданий. Но и ничто, кроме ненадежного засова, не ограждает нас от скандала, готового, точно гром среди ясного неба, разразиться над нашими головами и гулким эхом покатиться по дворцовым залам и перехлестнуться на площади города, – одна задвижка на дверях королевских покоев – прежде ты ее не замечала, она заржавела и заедала, но ты велела ее почистить и смазать маслом, – один затвор меж любовью и смертью, меж счастьем и толпой. Мы в сердце Дании, в сплетенье ее споров, тяжб и притязаний. Мы в самом сердце, в Кристиансборге, и наш огонь когда-нибудь сожжет его. Нас отделяет от дворца лишь галерея, охраняемая норвежскими гвардейцами, лишь перекинутый через Фредериксхольдский канал мраморный мост Мармерброн, который связывает наш остров с Копенгагеном, связывает или отделяет… И не было в мире ночи чернее, чем эта, чья чернота над морем разлита, и не было в целом мире места, где бы так трепетала тревога, повисло столь томительное ожиданье, как жаждут ветра крылья птицы, изготовившейся к полету, разве что вспомнить Авлиду, где воинство греческих царей послало на закланье Ифигению, лишь бы наполнились ветром паруса их судов и унесли их в Троаду: смерть от меча или копья в бою была им более желанна, чем зловонная агония чумы, что проникала в их шатры и пожирала их тела… но Троя ни при чем, оставим… сейчас я здесь, во дворце Слабоумного Короля, и слышу по ту сторону дверей взрывы дикого хохота, лай псов – там он пирует среди пьяных негров, матросов и портовых шлюх… Одеон 84–00… четвертый сигнал соответствует точному времени… раз… два… 1770, 1771, 1772…
Мы в сердце Дании, в ее объятиях, обвиты рваным шлейфом островов, как рубищем нищих без крова и пищи, выходит, все осталось, как и прежде, как при Охотнике Олуфе, Короле-Голоде, и никакой надежды… крестьяне-рабы на чужой земле пасут чужие стада, а у самих в дому пустота? Безропотный, сонный народ, что тащит вериги варварской морали: измена супругу карается смертью, жениться на вдове брата преступно, о правосудии здесь и не слыхали, аристократам закон не писан, зато переполнены казематы, и едва ли многое дали все мои благие попытки, хоть я добился, чтобы король Кристиан[60] отменил цензуру, распустил свой тайный совет, издал законы против мздоимцев, скупщиков зерна, ростовщиков… о Эхо, Эхо, как сделать человечной эту жизнь, как вызволить людей из вечного рабства, вывести на свет? Мы в сердце Дании, ты для нее Каролина-Матильда, а вовсе не Эхо, о нас с тобою никто не знает, но все датчане строят догадки. Слышишь, хохочет безумный король, зеркальная зала, оружье по стенам, солдаты с ним за одним столом, и, может быть, вдруг – спазм в голове, застынет кровь – и он забыл три года жизни, забыл тебя, не помнит больше, что завтра, нет, что уже сегодня придет театральный портной примерять маскарадный костюм, да помнил ли он, как был на венском карнавале? А если помнит, значит, он еще безумнее, чем можно представить: ведь он никогда и не был в Вене, и карнавал был у нас с тобой, он только в нашей памяти, Эхо!
* * *
Мы в сердце, в сердце Дании… о нас никто – ни сном ни духом, хоть ходят слухи о нашей связи, и льется немало грязи, но дождь омывает землю и на заре смоет все следы – мы будем чисты в человеческой памяти. Пусть себе люди болтают о нас что угодно, толкуют, смакуют, они и сами в это не верят, это только воображение, выдумки, досужие сплетни, никто ничего не знает наверное, никто ничего никогда не докажет… Никто не знает, о милая Эхо, что я люблю тебя… никто не знает, как люблю и как любим, никто не услышит дивную музыку – лишь я один!
Что ты – моя Эхо, неведомо Дании, для Дании тайна – наши свидания, такая же тайна, как солнце в зените – ослепительная! Никто не знает, как я люблю, а как ты – еще того менее. О, я мог бы кричать твое имя на крышах, колоколами его трезвонить, я мог бы носить перед всем миром твой лучистый перстень с сапфиром, мог бы с дерзким азартом раскрывать перед каждым медальон с твоим портретом, выполненным молодым Абильгардом, приехавшим только что из Италии, мог бы шататься по улицам пьяным, орать во все горло слова моей нежности или обратиться в белую птицу, славу тебе возгласить в небесах; о любовь моя, люди глухи, они не услышат, у них пустые глаза, слепые дубовые головы, где им знать о нашей любви, а и проведают – все равно, им постичь ее не дано! Да будь я сам Петрарка, вздумай воспеть имя твое, чтоб эхо его звучало в веках, меня бы только подняли на смех, на меня бы показывали пальцами; ЛАура да ЛАура, подумаешь – ЛАура, он, верно, думает, стоит вымолвить это «ЛАура» – и тут же весна, скажешь «ЛАура» – и соловей зальется трелями, «ЛАура» – и шелест цветущих лавров… Нет, горе тому, кто заветное имя назовет толпе – ну-ка, ну-ка, где эта ЛАура, что в ней такого, да так себе… Нет, я не предам тебя, Эхо, буду молчать, пусть только в этих стенах останется эхо нашего шепота, нашего смеха, радость моя, моя утеха, Эхо, тихая Эхо…
Я уроженец Германии, но набожность моих современников, их узколобое святошество претили мне, и потому я в ранней молодости покинул родной Галле и вернулся к отцу, только когда он переехал в Альтону, где получил место настоятеля собора и главы консистории княжества Шлезвиг-Гольштейн. Не достигнув еще и двадцати лет, я стал доктором медицины и отправился во Францию, в университет Монпелье, продолжать образование. По правде говоря, куда прилежнее, чем университетские аудитории, я посещал библиотеку, предаваясь глубоким штудиям философии. В городе не прекращалась вражда между гвельфами и протестантами, и, наблюдая эти распри, питаемые религией, я окончательно утвердился в материализме; склонность к таким взглядам возникла у меня еще в Галле, здесь же, под влиянием Руссо и Гольбаха, она усилилась и окрепла. Потом я попал в Данию и там, занимаясь врачебной практикой, воочию увидел, как несправедливо устроен мир. Посещая дома богачей и нищих, я не только совершенствовался в своем ремесле, но и постигал человеческие беды, погружался в бездну страданий, на которые обрекла людей отнюдь не природа. Я понял, как постепенно вся земля в этой стране перешла в руки немногих избранных, – как пришло в упадок хозяйство и обнищали крестьяне, припомнил, что наблюдал то же самое во Франции и Германии, и во мне зародилась мечта о времени, когда простой народ вновь обретет все то, что было у него похищено. Я прислушивался к дыханию будущего и слышал отдаленные шаги революций, но не таких, как были до сих пор, когда на место одних господ приходили другие; и где бы я ни был: на чердаке и в подвалах Альтоны, на дворах гольштейнских крестьян, которым не на что построить амбары, так что гниет даже скудное зерно, которое дала их истощенная земля, – всюду вступал в беседу с теми забитыми и попранными существами, которых называют народом. Одно время я лелеял замысел перебраться в Малагу, где не хватало врачей, и открыть там медицинскую школу, и планы эти уже получили одобрение испанского посла, но вдруг мне показалось, что это было бы предательством по отношению к простым датчанам, которые умерли у меня на руках, – их было немало. Нет, они ничего не поверяли мне перед смертью, им было не до того: одни изо всех сил старались выжить, другие слишком устали от тягостных трудов, а я просто делал свое дело. Но сколько раз читал я в глубине потухающих, уже смутно видящих глаз отчаяние и тоску из-за того, что так безрадостно прошла жизнь и так безжалостно распорядился ею мир, против которого они никогда не роптали и который никогда не пытались изменить. Случалось ли тебе видеть издыхающего пса? его обращенный на хозяина взгляд, как бы упрекающий и вопрошающий: за что такая жестокая участь? Еще в Гольштейне мне предложили издавать «Альтонскую газету». Тогда, сочтя своей обязанностью рассказывать жителям захолустного княжества о том, что творится в большом мире, я стал читать все иностранные газеты, какие только мог достать. Для этого потребовалось овладеть чужими языками, и тут я обнаружил нечто, что поначалу сильно меня удручило – весь мир, как оказалось, был полон страданья, везде под бременем его изнемогали люди: в далекой Америке, где солдаты вашего брата, госпожа моя, скоро уже не смогут удерживать под британской властью огромное население колоний, состоящее из переселенцев и ссыльных; в России, где революции происходят в виде дворцовых переворотов; в Италии, поделенной между Римским Папой и Священной Империей; в Германии, где прусские имперские притязания наталкиваются на сопротивление сепаратистов… Однако постепенно я свыкся с этим положением вещей и даже стал видеть в нем источник надежды на то, что близко время великих перемен. Уже перестала быть достоянием одной страны философия, и просвещенная мысль, как не знающая границ чума, распространяется по свету. Но где и как начнут сбываться эти чаяния? Какое звено всеобщей цепи барышей и сделок даст слабину, какие будут приняты законы в противовес растущей алчности торговцев и новых фабрикантов? Народ Испании или России, как мне казалось, был еще не готов порвать оковы. Во Франции монархия, которой в прошлом веке удалось без всякого сопротивления отменить Нантский эдикт, была еще слишком сильна, что же до моих соотечественников немцев, пропитанных духом лицемерия, то где же им суметь объединиться и осознать себя великой нацией? Так может быть, именно подданные Ганноверского дома, уже заявившие о себе вспышкой негодования при Кромвеле, первыми сбросят иго обветшавшего строя… Простите, госпожа, если то, к чему устремлены мои желания, наносит вред вашей семье, но это не моя вина! У истории свои законы, отличные от законов земной любви, связавшей нас друг с другом против нашей воли и до конца отпущенных нам дней. Как знать, что будет, когда вырастет и взойдет на престол сын, которого вы зачали от Его Величества Кристиана, какие удары обрушатся на эти стены и заставят рухнуть дворцовую твердыню, что станется с нами, если судьба отдаст нас в искореженные руки портовых такелажников, рыбаков с островов Фероэ, лесорубов из королевских угодий, крестьян, гнущих спину на полях ячменя и овса, пастухов, стерегущих стада, гончаров с фарфоровых заводов… Мне почему-то не верится, что я увижу эти годы потрясений; и хотя я еще довольно молод, но мне кажется, одна жизнь просто не может вместить и любовь такой силы, как наша, и бури нарождающейся эпохи. Когда ваш супруг, проезжавший через Альтону и поначалу возбудивший у меня лишь профессиональный интерес как трудный случай в практике, пожелал взять меня с собой, ибо я ему приглянулся, а моя искренность прельстила его, как диковинная игрушка, и привез меня во Францию, страну пьянящих идей, я помышлял только о том, чтобы стать его бескорыстным советчиком, – я догадался, что Кристиана окружают люди, влекущие его к гибели. Разве я мог тогда предвидеть, как буду возвышен его милостью и что это сулит? Первое время я забавлялся новой ролью придворного, помню, как мне было смешно глядеть на себя в зеркало, когда, в угоду этикету, я первый раз напудрил волосы. И вот я, мечтавший по ночам, как рухнут троны и народы обретут свободу, увидев, что, по воле случая, вдруг возымел влияние на короля-безумца, решился, будто на пари с самим собой, просить его о заведомо невозможном, и что же? – получил его согласие на все. Он жаловал меня декретами, указами, реформами, как жалуют дворец и титул фавориту. А я домогался все новых законов, не считаясь с прежними уложениями. Я укреплял его власть, дабы распоряжаться ею в интересах будущего. И знал, что все, чего я добивался, шатко, очень шатко и может не сегодня-завтра рухнуть… конечно, знал, что рискую головой в игре, в которую ввязался, но ничто уже не могло меня остановить: в азарте я бросил вызов судьбе и королю и заходил в своих просьбах все дальше… в конце концов, что такое жизнь? Надо только делать ставки покрупней – уж погибать, так было бы за что.
И вдруг на моем окаянном пути появились вы – помнишь, Эхо, это было в ноябре, и я почувствовал желание жить. Как бы ни был безумен король, я не мог просить у него тебя, тебя надо было не просить, а отнимать, но прежде тебя надо было покорить. Теперь же я уподобился вору, забывшему обо всем на свете ради украденного сокровища, и я знаю: настанет день, когда судьба предъявит счет и мне придется расплачиваться сполна за каждую минуту головокружительного счастья. Восторгом и ужасом наполнены все мои ночи, я упиваюсь собственной преступной дерзостью, и горький хмель томит меня – ведь каждое свидание может стать последним. Ты, любимая, ты стала для меня воплощением того мира, до которого я не доживу, ты стала для меня недостижимым и вечно вожделенным летом человечества; бессонной ночью около тебя я жду рассвета, которого не будет никогда, для нас он не наступит, мы с тобою так и останемся во тьме… О королева Дании, прильни к моей груди, послушай, как бьется, отчаянно бьется сердце нашей любви, небывалой любви, поднимающей мир на свою высоту!
Что было в Вене? Хоть в Копенгагене я не был никогда, но так и вижу медные крыши, что стали от дождей и ветра бирюзовыми, домики в Нюхавн с разноцветными окнами: синими, желтыми, красными, лиловыми, зелеными… матросов в шумных кабачках… А Вена?.. какие-то длинные бульвары… что же было в Вене? Как бы вспомнить, о Эхо… кажется, кто-то, но не помню кто, там говорил о Долине Тростников? Огромный, белоснежный, залитый ярким светом зал и смутные тени: какие-то люди, собравшиеся здесь со всех концов земли. А вся земля охвачена пожаром. Низенькие желтолицые ораторы выкрикивали речи, слова которых впивались мне в сердце… были еще исполненные достоинства священнослужители в разных облачениях: в сутанах, рясах, экзотических одеяниях, в белых митрах, тюрбанах, кардинальских шапках, – жрецы всех культов: мусульмане и католики, буддисты и квакеры, иудеи и лютеране… какие-то женщины говорили о холере и напалме, выступали персы и итальянцы, один оратор плакал, рассказывая, как погиб студент… Все это сон или действительно было в Вене? Я слышу и свой собственный голос, но не вижу, где он раздается, как будто и мои глаза выжжены напалмом: «Пусть моя родина вновь станет светочем для всех народов… приветствую вас от ее лица, вас, древние, давно порабощенные, но поднимающие голову страны, и вас, страны юные, едва успевшие родиться и осознать себя, страны, в которых живут такие же люди, как мы, живут и любят свою родину, как любим мы свою, как любят мать, всю жизнь и всей душой! Приветствую вас, народы, от лица моей Франции, той Франции, которая только на моем веку была дважды захвачена и дважды стояла на краю гибели…» И лишь одно видение проступает из тьмы: я на трибуне; высокий свод из стекла и металла, словно серый с розоватыми отблесками колпак, накрывает зал; передо мной внимательные лица, на которых каждое мое слово, пройдя через фильтры говорящих на десяти языках наушников, отражается с некоторым опозданием, а едва я кончил речь, меня обступила целая толпа похожих на школьников невысоких человечков, наперебой щебетавших мне в уши: «Патет Лао, Патет Лао!»
Но в чем же было дело, из-за чего полыхал мировой пожар? Все это сон, и он приснился мне гораздо позже, когда я забылся в ванне. Быть может, я забыл череду кровавых веков… как там говорил один ливанский шейх: «название «ислам» происходит от «аль-салам», что значит «мир»… ему вторила женщина с нильских берегов: «В арабском само слово «ислам» производное от слова «мир»…» Вот это сон, и я сейчас проснусь в жестоком мире, в глухие столетья, в ночи, где проступает сама основа времени, проснусь, в одно мгновение постигну и забуду всю жизнь, которую прожил, не ведая ни о каком безумном короле, вдруг пожелавшем приблизить к себе ничтожного лекаря, прожил слепцом с открытыми глазами и ничего не понял, счел реальностью собственные сны; никто не исключал и не чернил и не защищал ислам, не было ни Вены, ни Дании – одни видения ослепших глаз да бредни философов, которыми я вечно зачитывался, так что листал Руссо и по пути на казнь… Брожу по Копенгагену или Венеции – не помню, был ли я в Венеции, но в Копенгагене точно никогда, – вспоминаю Гренаду, сплю в Нью-Йорке или плыву по Рейну. Твержу все это машинально, но все забыл, ты обнимаешь и качаешь – я все забыл, все-все; твои объятия – я все забыл, я ими упоен. С тех пор прошло лет десять или сто, а может, тысяча… потемки и король-безумец.
Слышишь, кто-то стучит кулаком в дверь, отделяющую нас от мира? Кто там, и не меня ли хотят разбудить? Щеколда выдержала; засов, что разделяет наш с тобою мир и мир чужих, на сей раз уцелел. Пусть там хохочут и орут, пусть бьют стаканы, опрокидывают столы и заливают вином, как кровью, что нам до оргий, до продажных ласк, до пьяных песен – дверь дрогнула, но устояла, еще не в эту ночь. Еще не пробил час. Пусть ломятся столы, как на голландских натюрмортах, пусть хлещет через край раж непотребства – собаки лают, да и только.
Все в замке нас подозревают. Следят за нами. Здесь, в Фредериксборге, высокой готической громаде с похожими на ренессансные солонки башенками, колокольней, мощенным плитами парадным двором, крутыми стенами и острой крышей с завитками; сам этот замок на озере Хиллерёд, в час, когда надвигается мгла, так замирает, словно бы подстерегает преступную любовь… Под вечер на коне я приезжаю из столицы, пересекаю двор, усыпанный ромашками, и мы встречаемся с тобой в гостиной, в розовой гостиной, при всем честном народе. На людях все чинно: я при шпаге, в расшитом камзоле и напудренном парике, но думаю только о том, что скоро пойду к тебе тайным путем: сначала вверх по лестнице, что проходит в стене моей спальни и ведет в часовню, а затем коридором без окон к королевским апартаментам… Ты думаешь, они не знают, что ты порой спешишь ко мне навстречу, к этому потайному ходу, минуя покои малолетнего принца? Они: и доктор Бергер, и госпожа Дейбен, и пажи с камеристками – ты думаешь, они не обошли все коридоры, все ступеньки, не искали улик, когда замок был пуст? Они давно бы поняли все до конца, но им мешает страх. Все знают, что мне открыт доступ в любые покои замка, ну и что же? А твой каприз устроить себе спальню в комнате, что примыкает к ведущему в часовню коридору, нетрудно объяснить и благочестием, хоть прежде ты им никогда не отличалась. По твоему распоряжению во всех летних замках сделаны секретные ходы. И здесь, в столице, в замке Кристиансборг – он окружен каналами, стоит на острове и возвышается над целым городом, – ты год назад велела привести в порядок старинный ход и с трех пополудни до восьми утра держать в нем зажженные свечи, – и что же, по-твоему, думают слуги, или они не знают, что этот коридор ведет к часовне, куда я, сняв парик, легко проникаю, стоит лишь приподнять шпалеру в изножии кровати и толкнуть дверь, замаскированную резными фигурами? Эту шпалеру я облюбовал на мануфактуре Гобеленов, когда мы были во Франции, в 1767 году, и король купил мне ее в подарок… Да еще приказала, чтоб никто не смел заглядывать и проверять светильники… да неужели ни мадемуазель Хорн, ни мадемуазель Бойе, ни госпожа де Блекенберг не слышат скрип двери и не видят свет из коридора? Не сама ли ты говорила, что они расспрашивали, откуда у тебя те красные подвязки, мой подарок. А я давно заметил, что они посыпают коридор шведским тальком – таким же, какой употребляет и Ваше Величество, с бергамотовым ароматом, – чтобы на всем запутанном пути, от потайной двери в моей стене до твоего алькова, остались следы босых ног, слишком крупные для хилого короля. Лакеи Хансен и Кристианторг заодно с ними, но если улики налицо, к чему проделывать то же самое вновь и вновь? Догадываются, ворошат белье, рассматривают вензеля на платках… и так три года, что пролетели с быстротою дня, три года подстерегают каждый вздох, малейшее прикосновение; между тем на виду у них, в твоем будуаре, красуется подаренная мною шкатулка с русской эмалью, она попалась мне в одной портовой лавке, длинная, узкая, по размеру шпилек, на крышке в черном овале на лазоревом фоне, в бело-золотом кружевном обрамлении – изящно выписано на латыни влюбленных, то бишь на языке французов: «unis par l’amour»[61].
Нас обложили, и оба мы: и ты, и я – ведем игру и силимся переиграть охотников. Порознь тревожные признаки, будь их хоть целая сотня, не откроют глаза супругу, ни мудрому, ни слабоумному, но если кто-то позаботится собрать их воедино и если вдруг заговорят о них десятка два ртов на всех углах, они в один прекрасный день могут стать причиной, ни мало ни много, для смертного приговора. Мы это знаем – ты и я, – мы ясно видим, что идем по краю пропасти, но мы не в силах отказаться от свиданий, не в силах устоять перед взаимной тягой, и, хоть бы сотню раз клялись не поддаваться вновь греховному соблазну, как сдержать невозможную эту клятву, коль скоро наш грех состоит только в том, что мы верны природе, ты – женскому, а я – мужскому естеству?
Я видел во сне страну… Это было в другой жизни. Я видел во сне страну, открытую буйным ветрам. Это было в другом мире. Страну, в которой беда, огромная черная сила, разрослась гигантским древом, заслонившим солнечный лик. И вот однажды, темным, темнее ночи, днем переполнилась чаша гнева, собрались лесорубы, но где же найдется такая пила и где же найдутся столь мощные руки, чтобы спилить проклятое древо под корень? Тогда лесорубы взялись за работу все разом, а дело было в конце войны, пустые поля полны воронья, гниющих трупов павших в боях да лошадиных туш. Я видел страну, где против беды с мужчинами вместе вышли дети и женщины: матери, сестры, невесты…
Я видел однажды, я видел не раз… видел каждую ночь, и юным, и в зрелые годы; всегда один и тот же сон, одна и та же песнь, заветная мечта. Я уносился в ту страну, едва истома после трудового дня смежала мне глаза. Я видел однажды, я видел не раз… неведомо сколько ночей… когда смежаются глаза и песнь звучит в душе… сначала радость сокрушенья, и ярость урагана, зло рухнуло, повсюду разбросаны сучья, листва, стекает смола, и сам могучий ствол, питавшийся покорством и терпеньем, лежит поверженный; пришлось всем миром жечь костры, сметать опилки, привыкать после лесных потемок к свету и отражать набеги потревоженных зверей, бороться с мором, голодом, пожаром да изгонять разбойников, приплывших из-за моря…
Я видел страну, где люди огрубевшими руками подняли жизнь, как раненую лань, где студеные ветры едва не сгубили молодую весну, но нищие укутывали нежные ростки последним рубищем; страну, что родила на свет увечное дитя и нарекла его Грядущим. Страну, где затянулись раны, а прежняя жизнь стала сказкой, которой пугают детей, страну, сиявшую, как солнце, омытое дождями, страну, задумавшую заново построить дом из щепок и обрубков и вырастить в людях достоинство, посеяв семена высоких слов, задумавшую набело переписать историю веков…
Величайшим богатством здесь слыла нищета, а чужестранцев в золоте и серебре считали нищими! Я видел этот антиапокалипсис, смотрел, на многое не глядя, лишь бы вкусить азарт великой стройки: все голыми руками, обыкновенный гвоздь – и тот сокровище! – и так белели грубой пеной стружки, и так была мягка, упруга грязь, и песня непослушных губ была сильнее воя ветра.
Я видел ту страну, я грезил, я мечтал о ней всю жизнь, о той стране, прекрасной и манящей, как горечь сладкая любовной страсти.
О Эхо, надолго ль мы вместе? – едва ли. Вот почему эта дрожь, эта жадность, эта горячка и безоглядность, скорее напиться, срастись и слиться, покуда не разорвали. Близка разлука, настанет час, раскроем объятья, но будем распяты, и порознь нас пошлют на муку. Стоит мне отдалиться от тебя, королева, неважно – далек или близок путь, покинуть столицу, поехать в другую страну или просто за угол завернуть, и каждый шаг – что по углям, каждый час непосильной ношей, докучают вельможи, осаждают дела, время тянется невероятно тоскливо, я в лихорадке, ищу предлога, скорей бы обратно – не таково ли начало разрыва. Не так ли рвется нить, не так ли крючья в плоть, не так ли тело в пламя. О Эхо, недолго нам ложе делить.
Как часто еще прошлым летом на полпути из Хиллерода меня одолевали эти мысли, и, пустившись вскачь, я мчался не туда, куда король и служба звали, не в столицу, а по дороге в Роскильде, вонзая шпоры в конские бока, гнал скакуна быстрей, быстрей, летел на юго-запад, где в тесном фьорде высится некрополь датских королей. Но, лишь завидев издали зубцы замшелых стен и шпили темных башен, обернутые медью, которая за долгие века подернулась слепою бирюзой, я обрывал безумный бег, натягивал поводья, и плащ захлестывал мое лицо с разлета.








